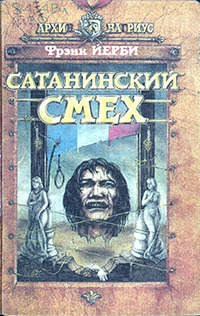полная версия
полная версияСарацинский клинок
– Да. Они заставили нас напасть на Константинополь. Вместо неверных идти против христиан. Они выгодно торговали с Египтом и имели с ним секретные договора. Обманутый, как и все остальные, я принял участие в том, что мне представлялось справедливой попыткой вернуть свергнутому королю его трон…
– Дядя Роже, – опять стал просить Готье. – Ты не должен разговаривать. Ты теряешь силы и…
– Я должен говорить, Готье. Это мой последний шанс. У меня есть что сказать. Очень важные вещи. Я тогда верил в высокое предназначение рыцарства. Я верил в религию, в которой был рожден. Когда я уезжал из Константинополя, от этой веры ничего не осталось…
Он замолк, глядя в пространство, глаза его сверкали от гнева.
– Они сожгли в городе мечеть вместе с молившимися в ней. Пламя уничтожило все на три мили вокруг. Венецианцы разграбили все лучшее – драгоценные камни, рабов, статуи, великие произведения искусства – ты знаешь четверку бронзовых коней, так великолепно скачущих над площадью Святого Марка в Венеции? Венецианцы украли их в Константинополе. Но и другие крестоносцы не отставали от них. Они не знали цены произведениям искусства, но они различали золото, когда видели его, и серебро, даже если эти драгоценные металлы украшали алтари Господа Бога. Вероятно, они не считали за грех осквернять церкви еретиков…
Готье больше не пытался остановить его.
– Они устроили конюшню в прекрасном соборе Святой Софии – красивейшей церкви во всем христианском мире. Они разжигали костры украденными из библиотек рукописями – бивачные костры страницами Софокла! Они чистили свои шлемы бессмертными творениями Еврипида… Ты знаешь, Готье, как я всегда почитал знания. Когда пленный грек рассказал мне, что наши благородные французские, венецианские, фламандские рыцари уничтожили единственное полное собрание произведений этих гигантов, я плакал… Я всегда глубоко, уважал наших женщин-монахинь. Моя сестра, твоя тетка, главная настоятельница женского монастыря Святого Жиля, но ты это знаешь… А наши рыцари получали извращенное удовольствие, насилуя греческих монахинь, срывая с них их священные одеяния прямо на улице…
– Неудивительно, что вы утратили веру в рыцарство, – заметил Пьетро. – Но, сир Роже, Папа Иннокентий особой буллой запретил нападение на Византию…
– Это мне известно… Но когда наши вожди подсунули ему коварную приманку – воссоединение Восточной церкви с Римской – воссоединение только на словах, потому что греческие священники бежали и стали распространять свою веру повсюду – он снял свой запрет и послал к ним своих легатов и благословение! За эту оргию грабежа, убийств и насилий мы в итоге получили от Его Святейшества мягкий укор…[34]
Готье твердо посмотрел на своего дядю.
– Дядя Роже, если ты хочешь обратить нас в веру альбигойцев, то я должен предупредить тебя – ты напрасно расходуешь свои силы. Грехи людей – это не грехи Бога, религиозная служба не исключает ошибок. И все-таки религия, в которой мы родились, единственная истинная, только через ее посредство Бог говорит…
Роже улыбнулся ему.
– Я завидую тебе, – прошептал он. – Иногда я сомневаюсь, говорил ли когда-нибудь Бог человеку – и вообще – есть ли Бог…
– Дядя Роже!
– Прости, – тихим голосом выговорил Роже. – Я не хотел тревожить твою душу. Я уже стар… н я умираю. Для меня важно высказать тебе все это – прояснить мое собственное знание, если не больше…
– Готье, Бога ради, – поспешно сказал Пьетро, – дай ему выговориться.
– Я… я вернулся в Лангедок. И там я нашел ученых, которые перевели для меня Евангелие. Я прочитал его и понял, насколько вера альбигойцев лучше, правильнее нашей. Мы возвели храмы во имя Того, кто входил в храмы не более трех раз за всю Его жизнь, да и то лишь затем, чтобы спорить с учеными и изгнать оттуда воров! Мы набили церкви золотом и серебром для прославления имени Господа, который презирал богатство и не обладал ни землями, ни золотом. Мы выстроили ритуал, роскошный и совершенно языческий, во имя Господа, который учил нас запереться и молиться, чтобы никто этого не видел…
– Дядя Роже, – почти плакал Готье, – подумай о своей душе! Сейчас не время богохульствовать…
– Я знаю, знаю… Таков вечный ответ. Но среди нас всегда должны находиться люди, которые задают вопросы, которые рождаются для того, чтобы спрашивать. Мы, сомневающиеся, рождаемся раньше, чем приходит наше время, потому что люди оказываются не готовы. Никогда не было, и я сомневаюсь, что когда-либо произойдет такое чудо, которое разумный, бесстрастный вопрошающий не сможет легко подвергнуть сомнению; но когда разуму и терпимости будет предоставлена свобода в этом мире? Люди нуждаются в чудесах, в святых мощах, в обломках подлинного креста – которых сейчас берется столько, что можно засадить лесами всю землю…
Готье отвернулся. На его лице Пьетро увидел страх и смятение. Его простодушное сердце не знало, чем защищаться от этих аргументов.
– Люди нуждаются в чудесах, потому что жизнь в наше время так безобразна и ужасна. Сила управляет людьми кровавыми руками. Люди добрые и нежные не имеют шансов против сильных… Неудивительно, что они хватаются за соломинку – за бредни истерического пастуха, уводящего детей, за галлюцинации мужчин и женщин, которых следует запирать в клетку, ибо они могут причинить вред и себе, и другим. Мы… мы доказали это. Мы сделали статую Богоматери горбатой и одноглазой – такой уродливой, что ею можно было пугать детей. Мы приписали ей множество чудес, надеясь показать нашим друзьям их глупость, когда мы разоблачим нашу мистификацию…[35]
– Это не помогло, – заметил Пьетро.
– Нет. Они отказывались верить нам, когда мы говорили, что сами вырезали ее из дерева и что ее вовсе не выбросило море, а когда мы объясняли им, как устраивали подложные чудеса, они рассказывали нам о других чудесах, которые совершала помимо нас наша самодельная Богоматерь. Жизнь так трудна – они ищут спасения от нее легким путем – безоговорочная вера в любую чепуху их больше устраивает, нежели каменистая тропа истины…
Он откинулся на солому, улыбаясь. Пьетро понимал, что силы оставляют Роже. На какое-то мгновение он испытал искушение указать этому убежденному скептику на чудо, свидетелями которого они являются, – совершенная победа человеческой воли над слабостью плоти. Истекающий кровью, умирающий Роже Сент-Марсель говорил с силой и убежденностью о проблемах, близких его сердцу. Пока он говорил о них, он мог преодолевать боль, забыть о своей слабости. Его воля, как стальная, возвышалась над разбитым кровоточащим телом. Теперь он замолк, и силы покинули его.
Прошло еще некоторое время, пока Роже забылся сном. Пьетро тут же склонился над ним, промывая и перевязывая его раны, а Готье смотрел на это, и на его молодом лице было написано сомнение.
– Я… я обещал ему, Пьетро, – пробормотал он.
– А я нет, – резко отозвался Пьетро.
Роже раз или два шевельнулся, пока Пьетро трудился над ним, застонал. Но он был слишком слаб, чтобы совсем проснуться.
Они сидели около барона Роже в темноте, нарушаемой только мерцающим огоньком фонаря, который Готье принес из крестьянского дома. Они не разговаривали. Расхождение во взглядах у них оказалось слишком большим, и теперь они оба понимали это. Они сидели, глядя на раненого. Старались не заснуть. Но они были на ногах еще до рассвета и весь день участвовали в битве. Они за весь день ничего не ели и только выпили немного воды.
Некоторое время муки голода не давали им заснуть. Потом Готье вышел к своему коню и достал из седельной сумки хлеб и сыр. Пьетро позаимствовал из крестьянского дома кувшин вина. Но он был так возмущен грабежами, которые видел за день, что оставил на столе в уплату за вино монету, в двадцать раз превышающую стоимость этого вина.
Они хотели дать барону Роже немного вина, но не смогли разбудить его. А когда попытались влить вино ему в горло, он только закашлялся.
Вино согрело их. Винные пары добрались до их голов. Они сидели, зевая, моргая глазами, борясь со сном. Борьба эта оказалась бесполезной.
Ночью, пока молодые воины спали, барон Роже Сент-Марсель проснулся от острой боли, но с ясной головой. Он обнаружил, что все его раны перевязаны.
Он сорвал повязки, которые присохли к ранам, и из них хлынула кровь.
Роже посмотрел на спящих молодых людей и улыбнулся.
– О Господи, – прошептал он, – я поручаю их Твоему покровительству, чтобы Ты благословил их и хранил все дни их жизни…
И он откинулся на пропитанную кровью солому. Он оставался живым и в здравом уме, пока не взошло солнце, и умер, когда солнечный свет коснулся его глаз.
Пьетро и Готье похоронили его, выкопав яму лопатой, найденной на ферме. На могиле они водрузили маленький деревянный крест, на котором Пьетро вырезал надпись:
“Здесь лежит храбрый рыцарь и доблестный господин, да примет Бог в своей неизреченной милости его душу”.
Они не рискнули вырезать его имя или место рождения, чтобы крестоносцы не надругались над могилой.
Пьетро глянул на Готье.
– Что дальше, мой господин? – тихо спросил он.
– Назад в Монтроз! – загремел Готье. – И если Симон де Монфор потребует, чтобы мы и дальше ему служили, пусть ищет нас там. Но, клянусь небесами, пусть приходит вооруженным!
6
Когда Готье Монтроз и госпожа Симона, его молодая жена, с которой он обвенчался шесть месяцев назад, подъехали к маленькому замку Пти Мур, они увидели Пьетро раньше, чем приблизились к крепостным стенам.
Он оказался на арене для турниров. Пьетро был один, а на другом конце поля – целая толпа рыцарей и вооруженных солдат, наступающих на него.
– Бог и Монтроз! – загремел Готье и соскочил с лошади. Один из слуг держал поводья его боевого коня, на которого Готье и пересел и поскакал к месту схватки.
Однако приблизившись, он придержал коня. Он увидел, что у Пьетро оружие деревянное, а у его противников – затупленное.
– Клянусь смертью Господа нашего! – выругался Готье. – Что он еще затеял?
Ему стало ясно, что бой всего лишь учебный. Но даже в этом случае такой хрупкий парнишка, как Пьетро, может серьезно пострадать при столкновении с любым из этих здоровых парней, а их было пять или шесть.
Пьетро сидел на вороном жеребце. Он был весь напряжен. Пора, подумал он, и поскакал навстречу противникам. У него не было даже копья.
Когда они встретились в середине поля, Готье увидел любопытную сцену. Пьетро соскользнул с седла вбок, так, что его уже не стало видно. Потом, к ужасу Готье, он, как акробат, сделал сальто и приземлился на ноги. Он оказался под конями.
Пьетро не бежал. Он пританцовывал между мелькающими копытами и, как только улучал возможность, бил коней по передним или задним ногам деревянным топором. Топор был смазан какой-то липкой краской, оставлявшей след. Пьетро весело смеялся, когда мощные рыцари крутились вокруг него, мешая друг другу, пытаясь поразить его своим поддельным оружием. Вот он обнажил деревянный меч, на острие которого был насажен шарик с краской, и с ликованием колол коней в животы.
Готье и его молодая жена подъехали к навесу, под которым расположилась Антуанетта. Около нее сидела маленькая дочь. Девочка была – слава всем святым – крохотная и смуглая, как Пьетро. Все соседи дивились такому сходству. Она родилась суровым зимним днем в начале 1213 года. Теперь ей уже миновал год – шла весна 1214 года.
– Какого дьявола, что это Пьетро делает? – спросил Готье, даже не поздоровавшись с сестрой.
– Тренируется, – улыбнулась Туанетта. – Это его теория. Он обдумывал ее целый год, а сегодня он в первый раз испытывает на практике против опытных рыцарей…
– А это не опасно? – спросила Симона.
Туанетта покачала головой.
– Вовсе нет. Я много раз видела, как он проделывал это против оруженосцев и солдат и ни разу не получил ни одной царапины.
– А в чем его теория? – спросил Готье, не отрывая глаз от дикого танца Пьетро.
– Пьетро маленького роста. Он весит от ста тридцати пяти до ста сорока фунтов – и никогда больше. Он утверждает, что для него биться с норманнскими рыцарями, такими крупными мужчинами, просто самоубийство. Поэтому он придумал, как побеждать их. Скорость, говорит он, против силы. Конь вместо доспехов. Опрокиньте коня, и противник повержен…
– Клянусь очами Господа Бога! – загремел голос Готье. – Смотрите!
Пьетро ударил деревянным топориком по передним ногам боевого коня с такой силой, что конь рухнул на колени, сбросив седока на землю вперед головой. Рыцарь остался лежать ошарашенный. Потом он попытался встать. Пьетро молниеносно оказался над ним, колотя деревянным топором по шлему. Все остальные остановили коней и, сидя в седлах, хохотали.
– Сдаюсь! – кричал поверженный рыцарь. – Клянусь смертью Господа, сир Пьетро, вам это удалось! Вы убили меня!
Пьетро прекратил колотить и помог рыцарю встать на ноги. Потом оба сели на коней и поскакали к деревянному забору.
– Посмотри ноги своего коня, – смеялся Пьетро. – Будь мой топор стальным, вы все шестеро уже валялись бы бездыханными на земле…
– Это совсем не рыцарская манера сражаться, – сказал сир Тулон, почесывая голову, – однако…
– Судите сами, – продолжал Пьетро, – если бы мы с вами встретились в турнире, то первым же ударом копья вы выбили бы меня из седла. В турнире человек моего сложения не имеет никаких шансов. Когда я действую так, как сейчас, у меня появляется шанс, – но не забывайте – я сильно рискую. Все, чего я хочу, это хоть какого-то шанса одержать победу.
Рыцари спешились и приветствовали дам. Когда же они осмотрели отметины, которые Пьетро оставил липкой краской на ногах их коней, они перестали улыбаться и задумались.
– Сир Пьетро, – сказал барон Тулон, – я думаю, что мы должны попросить вас кое о чем. Из уважения к рыцарскому сословию, к которому вы принадлежите, будет лучше, если вы станете держать вашу новую тактику в секрете…
– Почему? – спросил Пьетро.
– Боевой конь является основой нашей силы. Разве вы не понимаете, что крестьяне и сервы могут использовать вашу тактику против нас?
– Вряд ли, – улыбнулся Пьетро. – Эта тактика требует большого проворства и умения, а где вы видели крестьянина, который двигался бы проворнее буйвола?
Это соображение их несколько успокоило.
Представлять рыцарей Готье не было необходимости – они знали его раньше, чем познакомились с Пьетро. Что же касается его дамы, то все эти рыцари были гостями на свадьбе Готье в Монтрозе.
Пока они ехали к замку, Пьетро посматривал на Готье. Достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться, что Готье счастлив. Счастье переполняло его. Что же касается госпожи Симоны, то каждый раз, когда она поднимала глаза на своего рослого мужа, в ее глазах светилось обожание.
Пьетро не мог удержаться, чтобы не глянуть на лицо своей жены. Святой Иисус и Пресвятая Богородица! – подумал он. Все еще – после двух лет брака! Нянька унесла маленькую Элеонору. С того дня, как она родилась, Пьетро не видел, чтобы Антуанетта хоть раз взяла ее на руки. Он вынужден был нанять кормилицу – молодую женщину из деревни, хотя у Туанетты хватало молока.
– Я не могу, – сказала она своим холодным, размеренным голосом, – когда оно прикасается ко мне. Оно. Только через месяц она перестала называть ребенка “оно”, да и то лишь после того, как Пьетро довольно резко поговорил с ней.
Столы были расставлены в саду, и хотя это был не большой праздник, а просто случайная встреча соседей, повара Пьетро превзошли сами себя. Все крепостные Пьетро трудились на него гораздо усерднее, чем на любого другого хозяина. Он был добр к ним.
– За два года, – радовались они, – он еще ни разу никого не ударил. И он всегда внимательно выслушивает наши жалобы и пожелания…
Когда старый Жак из-за болезни не мог выплатить Пьетро арендную плату, тот простил ему ее. Когда этот темный осел Пьер, решив воспользоваться мягкостью хозяина, отказался выходить на барщину, Пьетро только лишил его земельного надела, после чего Пьер, бестолковый и никчемный, не имея ни смелости, ни ума, чтобы стать разбойником, начал голодать. Он пришел к Пьетро просить прощения, и Пьетро взял его обратно, не ударив его и даже не обругав.
А когда бедняжка Эглентина забеременела от бродячего фокусника, который называл себя Гросбэф – каково было его подлинное имя, знал один лишь Бог, – Пьетро нашел ей хорошего мужа, сына торговца из города, причем, люди поговаривали, не пожалел ради этой деревенской девушки немало ливров.
Такое неслыханное поведение, естественно, привело к тому, что крестьяне Пьетро просто обожали его. Не было в их глазах такой награды, какой не заслуживал бы сир Пьетро.
За столом Туанетта непринужденно болтала с бароном Тулоном и сиром Перонье. Пьетро знал, что многие рыцари в округе завидуют тому, какая у него прекрасная жена.
Если бы они только знали, думал Пьетро, если бы они только знали…
Многие мужчины возненавидели бы Антуанетту. Но Пьетро не походил на большинство мужчин своего времени. Главное чувство, которое он испытывал к своей жене, была жалость.
По правде говоря, имелась еще пара других причин, влияющих на его отношение к Туанетте. Он посмотрел через стол на осанистого графа де Харвента и покраснел. Граф Джефри был такой достойный человек. Благородный и хороший христианин.
О Боже, подумал Пьетро, за этот грех моя душа будет проклята навеки…
Но что может поделать человек с грехом, от которого не в силах отказаться. Он не любил Иветту. Он ненавидел все в их отношениях. Их потаенность. Стыд, который он испытывал, предавая такого человека. Он не вынес бы Иветту в качестве жены и знал это. Она была просто великолепным и горячим животным с потрясающим телом. Какое тело! Мягко-округлое, с длинными ногами и маленькими ручками, ласки которых возбуждали мужчину до безумия.
Чего ей недоставало, так это ума. Несколько раз они встречались в обществе, и он был вынужден разговаривать с ней – это было ужасно. Мужчина должен иногда разговаривать со своей женой. Пьетро удивлялся, как столь умный человек, как граф Джефри, терпит ее.
С маленькой Мартиной, дочерью местного торговца, чьи дела заставляли его часто уезжать из дома, было лучше. Мартина была полненькая, мягкая и теплая, но ей недоставало опустошающей страстности Иветты. Не то чтобы она была холодной. Она – Пьетро подыскивал подходящее слово – просто нежная.
У Иветты, догадывался Пьетро, опережая знания своего времени, это вид заболевания. В моменты страсти ее красивое лицо становилось уродливым. Похоть сжигала ее, и в ней не оставалось места ни для нежности, ни для любви.
Она, с грустью осознавал Пьетро, использует меня так же, как я использую ее. Мы служим друг другу – она тушит во мне пламя, которое поджигает Туанетта, но не может погасить, а я компенсирую ей возраст ее мужа и его бессилие…
– Ты очень молчалив, брат наш, – заметила Симона.
– Знаю, – отозвался Пьетро, – иногда мне бывает трудно думать по-французски.
– А на каком языке ты думаешь? – спросила жена Готье.
– Обычно на арабском, или на сицилийском наречии, или на смешении этих двух языков. Это языки моего детства…
Симона с удивлением воззрилась на него. Но, чувствуя его настроение, не стала дальше вовлекать его в разговор.
То, что он совершает, это грех. Смертный грех. И все-таки этот грех удерживает его от чего-то, что он не вынесет. Он ведь сицилиец, и в нем бурлит горячая кровь Италии. Раньше или позже, если бы не интрижки с Иветтой и нежной бедняжкой Мартиной, его естественные желания заставили бы его попытаться изменить отношения между ним и Туанеттой. Стоит только посмотреть на незажившую боль в ее глазах, чтобы понять, насколько это было бы ужасно.
Лучше уж моральная мерзость этих его грехов…
В конце концов он заметил, что лица рыцарей, сидящих за столом, посерьезнели.
– Да, – говорил Готье, – боюсь, что это означает войну. С тех пор как наш великий король отнял в тысяча двести четвертом году Шато Гийяр у короля Англии, Иоанн, этот жестокий монарх, места себе не находит от ярости…
– Он выжидает давно, – заметил граф Харвент. – Это произошло десять лет назад…
– Раньше он не решался, – ответил Готье. – Но теперь ситуация изменилась. Наш король поддерживает в Германии молодого Фридриха против племянника Иоанна Оттона. Так что теперь Иоанн Безземельный может рассчитывать на поддержку гвельфов. Фридрих держится твердо, – как я слышал, даже становится все сильнее. Но если эта наполовину английская свинья сможет сокрушить главный оплот Фридриха – нашего славного короля Филиппа, – гибелины в Германии разбегутся немедленно. У короля Иоанна есть и другие союзники. Мы отняли у него Анжу и Нормандию, но его агенты там действуют. Графы Фландрии и Булони и так не любят нашего короля, а платные агенты короля Иоанна во Фландрии и Германии тратят деньги, не считая. Герцоги Брабанта присягнули Иоанну. Лимбург, граф Голландский, объявил мобилизацию. А не далее как вчера я получил известие, что граф Солсбери собирает под свои знамена тысячи фламандских наемников. Что же касается Оттона, то он будет в состоянии привести столько саксонцев, что вам легче будет сосчитать песчинки в океане.
Рыцари сидели, поглядывая друг на друга. На лицах у них было написано отчаяние. Какие шансы у Франции против такого количества врагов? Многие ее лучшие воины все еще в Лангедоке сражаются с упрямыми еретиками.
Туанетта перегнулась через стол.
– Если начнется война, мой господин, – прошептала она, – ты тоже должен будешь отправиться на нее?
– Да, – ответил Пьетро и попытался заглянуть ей в глаза. Да-да, думал он, я должен буду отправиться. Может случиться, что я даже буду убит и ты станешь свободной. И хотя он ненавидел сражения и убийство, он вдруг обрадовался этой войне.
Это будет славная война, на которой будут решаться судьбы великих держав. В этой войне будут сражаться достойные рыцари, уважающие правила войны. Пленных можно будет выкупать. За ранеными будут ухаживать. Погибшие будут достойно погребены. Не то что в Лангедоке, где идет разграбление прекрасной и беззащитной страны с такой жестокостью, от которой тошнит и которая не знает жалости…
Однако на лице Антуанетты он не увидел радости. В ее карих глазах была тревога. Она выглядела так же, как любая другая жена, узнавшая, что ее мужу угрожает опасность.
“Благодарю тебя, сын Девы Марии! – возликовал Пьетро. – Если угроза войны заставляет ее смотреть на меня так, то я прошу – пусть грянет война!”
– Нам надо поговорить об этом, – шепнула Антуанетта. – Позднее.
– Хорошо, – отозвался Пьетро.
– Теперь в любой день, – вздохнул Готье, – может прискакать королевский посланец с вызовом. Вы знаете, господа, как я люблю сражаться. Но сейчас, я Должен признаться, я чувствую странное нежелание ехать…
– Совсем не странное, сир Готье, – заметил граф Джефри. – Я тоже должен оставить молодую жену, которая бесконечно дорога мне, хотя я часто думаю, что жениться в моем возрасте на столь молодой женщине было большой глупостью…
Сидевший рядом с Пьетро молодой рыцарь, сир Гарнье, вдруг прикрыл лицо рукой, чтобы скрыть смех.
Пьетро посмотрел на него. Много или мало он знает? Более всего Пьетро не хотел явного скандала. Надо будет расспросить Гарнье. Однако как подступиться к такому разговору? Дьявольски трудно расспрашивать о таких делах, не обнаруживая собственной вины. Но коль такая сплетня бродит, лучше, если он будет знать об этом.
Граф Джефри встал и предложил прощальный тост за сира Пьетро. Это была еще одна проблема. Поскольку Пьетро стал владельцем Пти Мур, все окрестные рыцари были уверены, что он посвящен в рыцари. Чтобы поддерживать это заблуждение, ему пришлось заказать для себя герб. Ярко-синий на красном фоне с прекрасно выполненной загадочной надписью по-сарацински. Надпись гласила: “Аль Саффа”. Он никогда не переводил ее никому, предпочитая сохранять таинственность. “Аль Саффа” – “Проливающий кровь”.
Таким он станет, если Господь вознаградит его и позволит вернуться на Сицилию. Кровь Синискола. Только ради этого он учился искусству сражаться.
Пьетро проводил своих гостей до стойл, где их ждали лошади. Когда молодой Гарнье приготовился сесть в седло, Пьетро задержал его.
– Я хотел кое о чем спросить вас, – прошептал он.
– Конечно, сир Пьетро, – улыбнулся Гарнье. – Я к вашим услугам.
Это был очень приятный рыцарь, к тому же очень красивый, как заметил Пьетро.
Не придумав никакого другого подхода, Пьетро задал вопрос в лоб:
– Почему вы улыбнулись, когда граф говорил о госпоже Иветте?
– Ах это, – рассмеялся Гарнье. – Этот скандал всем известен. Не проходит ни одной ночи, чтобы, когда этот благородный, но пожилой воин отправляется спать, щедрая Иветта не убегала из замка на свидание с рыцарем…
– А вам, – спросил Пьетро, заставляя свой голос не дрожать, – известно имя этого рыцаря?
– Рыцаря? – воскликнул Гарнье. – Святой Боже! Я мог бы назвать вам хоть пять, если бы хотел…