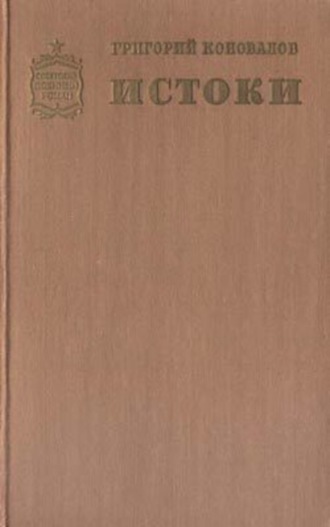 полная версия
полная версияИстоки. Книга вторая
Улыбаясь, Холодов грубо разжал ее пальцы в те секунды, когда машина, полная детей и женщин, покатилась к воротам. Она как бы въехала в черно-лохматый, вздыбленный взрыв фугаски. Холодова сшибло железными воротами. Он вскочил, побежал к воронке на дороге. Передние колеса опрокинутого в мочажину грузовика все еще крутились…
– Ольга Васильевна… была мне матерью, Данила Матвеевич.
Под глазами генерала потемнели набухшие разводы. Крупная в седом ежике голова дернулась.
– Вр-р-решь! – прорычал он, злобно и жалко глядя на Холодова. Оперся о сейф, выпрямляя ослабевшие в коленях ноги. – Маленького видал? Говори правду?
Холодов сказал правду. Чоборцов замотал головой. Отвернулся, мгновенно став горбатым.
– Закурить. – Он зажмурился, оцепенев в странном покое.
Если прежде Холодов считал своего прямодушного воспитателя генералом-середнячком, то теперь, когда война сместила привычные высоты и глубины, Данила Матвеевич в его глазах вырастал в крупную личность тревожной судьбы. В своем простовато-шутейном пророчестве: «Этой полночью не лез в окошко немец? Ну, жди татя в грядущую темь» – оказался правым он, зорче тех, кого Холодов с молодой жаждой отыскивать гениев почитал крупными стратегами. Теперь он думал, что вершина власти – не всегда вершина мудрости.
Холодову казалось, что Чоборцов вряд ли вслепую за Два дня до вторжения, проводя учебу, угнездил свои дивизии на тех самых позициях, которые и положено было им занимать в случае войны. С двадцать первого на двадцать второе июня, с субботы на воскресенье, в армии были отменены увольнительные. Это было обычной в последнее время строгостью и перестраховкой командарма, но Холодову этот шаг казался сейчас мудрым.
Холодов ждал от Чоборцова необыкновенных действий.
– Супротив меня этот самый барон фон дер Пфлюге, – к фамилии немецкого генерала Флюге Чоборцов с презрительной нарочитостью добавил «П», – опытный, закаленный бандит. С удобствами воюет, старый хряк: потаскушку из благородных возил по Франции, Греции и, видно, сюда привез вместе с походной ванной. А я… прости меня, Ольга… я не сумел тебя оборонить.
– Какие будут приказания? – спросил Холодов.
Генерал огорчил его:
– Будь пока при мне. Один ты остался у меня. Немцы рано пляшут, до свадьбы еще далеко.
V
Вошел начальник штаба армии – маленький поджарый Остап Сегеда. Застарелая болезнь печени выжелтила впадины щек, замутила белки усталых глаз. 22 июня Сегеда в шутку или по недоверчивости характера опасался: а вдруг это обычный инцидент, самовольные действия отдельных недисциплинированных частей германской армии, а не та вызревавшая сыздавна встреча с врагом на тропе, где нельзя разойтись?
– Немцы шутковать не умеют. Разбойники без юмора, – заверил его Чоборцов.
Любивший порядок решительно во всем, как в личной, так и в армейской жизни, Сегеда больше всего страдал от половинчатых и несвоевременных указаний сверху, от невозможности установить четкое взаимодействие подчиненных ему частей с соседями слева и справа.
С какими только планами не подступал Сегеда к Чоборцову! То предлагал рассеяться по лесам и мелкими группами пробиваться к своим, то свести остаток войск в одно соединение, начать планомерный, с боями выход. Но Чоборцов, не отвергая прямо эти планы, молча гнул что-то свое, очевидно решив держаться до последнего. Исступленная ли вера наперекор фактам, что удастся остановить немцев, ожесточенное ли упрямство не признавать поражения или боязнь верховной кары удерживали Данилу. Теперь Сегеда обрел силу покончить с колебаниями командарма. Улыбаясь в предвкушении торжества своей правоты, подал Чоборцову шифровку штаба фронта. Чоборцову приказывалось, организуя арьергардные заградительные бои, пробиться основными силами к Бобру и занять там оборону на заранее подготовленных позициях.
Не подымая головы, Чоборцов расстегнул мундир, наискось растер до белых полос покрасневшую грудь.
– Это нам-то отступать? – придушенно спросил он, поворачивая глаза то на Сегеду, то на Холодова. – Советские мы командиры или нет?
Они молчали, стыдясь неуместного упрямства и запальчивости своего генерала.
– Чай, уж сочинил приказ-то, Остап? Читай. С выражением!
Сегеда молодым властным голосом, не вязавшимся с его болезненным видом, докладывал план выхода из окружения. Перегруппировку войск провести засветло в лесах, а с наступлением темноты внезапно атаковать врага и разорвать кольцо окружения. Свернувшиеся стрелковые полки скрытно покинут свои позиции и через пробитые ворота двинутся к намеченному рубежу. Прорыв и последующее прикрытие обеспечит Волжская дивизия.
– Наиболее сохранившаяся, – уточнил Сегеда.
– Я только что выслушал доклад майора Холодова – дивизия боеспособная, насколько это мыслимо в наших условиях, – сказал Чоборцов. – Я сам с ней пойду.
Быстрыми глазами Холодов взглянул на командарма. Внутренне он весь тревожно горел, но лицо его лишь слегка потеплело спокойным румянцем на скулах.
– У фон Флюге тоже, думаю, штаты в частях ополовинены, – закончил Чоборцов.
«Ставя перед людьми четкую задачу, я сознаю, что в действительности получится иначе, – думал он. – Как все сложится, предугадать невозможно. Какими силами противник удерживает занятые им села и дороги? Сколько наших погибнет в атаке? Сколько, испугавшись, останется в лесу. Как глубоко захватило бойцов и командиров чувство подавленности и уныния?»
Но когда с волнением оказавшегося правым во всем Остап Сегеда до конца прочитал приказ об организованном и планомерном отходе на новые, заранее подготовленные позиции, Чоборцова обдало гарью катастрофы. Давя злость и стыд, он расписался, будто плетью хлестнул себя. Судорога свела и отпустила мускулы на левой половине лица.
– Помнишь, Данила Матвеевич, наш рапорт Валдаеву? Да, что бы теперь сказал этот профессор? – заговорил Сегеда таким тоном, будто самым опасным противником был не фон Бок, а опальный генерал Степан Валдаев, бывший заместитель начальника Генерального штаба, бывало раздражавший и Сегеду своей ученостью и невоенным тоном. – Этот умник, видно, в наш рапорт селедку завернул. А у нас не хватило характера настоять на своем. У нас нет самолюбия!
– Самолюбия? Нету и не будет. Не купишь самолюбия, товар не по нашему карману. А насчет Валдаева – лежачих не бьют, Остап. Все мы в несчастье делаемся злыми и глупыми, тут ничего не поделаешь. Но Степана… не тронь Степана.
Сегеда округлил крупные сливы глаз:
– Кто-то должен отвечать за это!
– Вали на мертвых, смолчат! Однако не тужи, виноватых умеем находить. Да и в чем же вина-то? Опыта мало – кого винить? Внезапность? Ее, беду, как ни жди, она все равно внезапной кажется. Да и был ли день, когда не напоминала нам партия о сухом-то порохе? А мы с тобой и все командиры и политработники хоть на минуту забывали внушать бойцам о войне?
Сегеда подал генералу красную папку, но Чоборцов, всегда боявшийся бумаг, отстранился:
– Это еще что?
– Директивы наркома, Генштаба. Я подшил в двух экземплярах, один у меня, другой у тебя. Запоздалые, путаные.
– Мне-то для какой болести, да еще запоздалые? – Чоборцов шагнул к дверям, но Сегеда отрезал ему путь.
– Документы – громоотвод, спасут честь командования и армии. Такие катастрофы без разбирательства не предаются забвению.
– Ни один уважающий себя командир не станет оправдывать поражение тем, что ему пришлось выполнять неверные решения вышестоящего командования, – сказал Чоборцов. – Мы действовали самостоятельно. С кем рядиться нам? Не ландскнехты мы наемные. Сожги, друже, все это вчерашний для нас день… Если мы тут на месте не все улавливаем, то зачем же корить товарищей московских? А виноватые? Враг – вот кто виновник. Его и будем наказывать, Остап.
– Сам понимаю, Данила, что дело не в приказах.
– Главный приказ правильный, давно дала его революция: сокрушить врага. А так, что ж, были, есть и будут промашки. Выпала на нашу долю третья… Как переживем, Остап? Ты, того, прости, если когда что не так… Страдное время.
– И ты извиняй, Данила…
И они обнялись, щуплый Остап и грузный Данила.
VI
Чоборцов последним покинул дот, больше уже не закрывая дверей, обошел вокруг, задумчиво глядя на лысые выступы бетонного черепа. Холодов и инженер-майор следовали за ним.
– Любите вы подрывать, медом не корми. Ну что ж, рвите, только с музыкой. После войны все равно взыщется с вас.
Холодов увидел, как генерал дрожащими пальцами ласково гладил бетон, сгоняя капли росы с литых покатых плеч дота.
Над лесом с тяжким ревом плыли бомбардировщики. Зенитки пятнали небо белыми мазками. Самолеты летели туда, где за дымчатой зеленью лесов, за луговиной в огне и дыму задыхался древний городок с узкими улицами. Из черно-огненных вихрей отрешенно и вызывающе вставал отрочески стройный малиновый костел, подсвеченный снизу озером. Пожар взметнулся и в военном городке, отмежеванном от городских кварталов густыми разводьями задичавших садов. Косо вздыбленная полоса тьмы двигалась к реке, навстречу Холодову, в угрожающей немоте…
Штаб Волжской дивизии Холодов нашел в пригородном лесу. Светлая березовая роща приютила раненых. Сидели, лежали на шинелях, на траве, некоторые с оружием. Все противоестественно смешивалось тут: тошнотный запах лекарств – с молодыми запахами вызревающей лесной травы, вид крови – с медовым светом солнца у белых берез, с голубым холодком над поляной, стоны и придушенный лесным заслоном грохот боя – с пением птиц.
Холодов и начальник штаба дивизии майор Глинин подошли к большой палатке, меченной красным крестом.
Из палатки, пьяно качаясь, выскочил санитар с ведром. Он налетел на Холодова, вильнул в сторону, клеенка на ведре откинулась, обнажив скрюченные пальцы чьей-то крупной руки. Два санитара вынесли головой вперед Богданова.
Холодов взглянул на его окровавленное лицо с отвалившейся челюстью.
Бледный, постаревший на глазах Глинин покачал бритой головой.
Что-то сильно потянуло Холодова еще раз взглянуть на Богданова, которого он знал близко, уважал и ревновал к дивизии. Тело полковника с платком на лице уже положили под куст орешника, около груды пустых гильз.
«Может, умирают гораздо проще, чем принято думать и особенно говорить о смерти?» – с какой-то непривычной для него отвлеченностью подумал Холодов. И недозволительными показались стоны раненых бойцов, своя минутная слабость. И он внушал себе покончить с жалостью. На войне жалость – ложь, оскорбительная пошлость. Она затемняет закон и смысл этой войны. Беспощадность к врагу начинается с жестокости к самому себе.
В штабной палатке Холодов сел за столик, неторопливо передал Глинину приказ командарма о движении дивизии на юго-восток.
– Кто будет командовать? – спросил Глинин.
Внимательным взглядом прошелся Холодов по низкорослой плотной фигуре – от кривоватых ног до круглой, бритой головы майора. «Глинина всегда отличали исполнительность и требовательность… Но не мало ли этого сейчас?» – подумал он.
– Богданова заменить некем, – сказал Глинин. – И Симбирский полк остался без командира.
И хотя Холодов был гораздо моложе Глинина, он сказал с покровительственным оттенком:
– В приказе ясно сказано: если Богданов выйдет из строя, заменяете его вы. С дивизией пойдет сам Данила Матвеевич. Но… – предостерегающим жестом Холодов погасил улыбку радости и облегчения на лице Глинина, – но генерал-лейтенант не собирается никого подменять. Он будет руководить всей армией.
– Валентин Агафонович, мы с вами равны по званию… Возьмите дивизию, а? Я штабист.
Холодов встал, сжав обеими руками крышку стола.
«Действительно, а почему бы не я?» – Но тут же, словно одернув себя, мягким шагом подошел к Глинину.
– Спасибо, Николай Иванович. Вы уж мне лучше разрешите в Симбирский. Там прошли мое отрочество, юность.
…Под вечер у рубленного в папу дома лесника, около криницы, в тени ветел, Холодов собрал командиров подразделений полка. Зачитал им приказ о прорыве дивизии на юго-восток, показывая на карте пункты движения.
– Прикрывать отход дивизии приказано нашему полку. На подступах к переправе встанет первый батальон и попридержит неприятеля. – Холодов поднял голову, всматриваясь в лица сидевших под навесом ветвей офицеров. – Здесь командир первого батальона капитан Люкин?
Позади всех встал, покашливая, пожилой, худой лицом политрук, сбивчиво, сипловатым голосом сказал, что комбат Люкин убит осколком мины в грудь. И, конфузясь, добавил, что временно заменяет его он, политрук Лунь.
Только теперь, кажется, дошло до сознания Холодова, что больше половины этих почерневших от дыма и пыли, перевязанных на скорую руку командиров – новые люди. Одних кто-то назначил в бою, другие сами приняли на себя командование, заменив погибших.
Он подошел к Луню: невоенная фигура запасника, гимнастерка не по росту, сапоги с широкими голенищами, морщинистое лицо, седина на впалых висках. Спросил, как зовут, и не удивился, как будто другого и не ожидал ответа:
– Антон Михеич Лунь.
После совещания Холодов задержал Луня, расспросил, кто командует ротами и взводами в батальоне. Оказалось, что одной из рот командует сержант Крупнов. Лицо Холодова взялось смуглым румянцем.
– Антон Михеич, каков из себя этот сержант? – спросил Холодов.
Луня насторожила особая интонация Холодова.
– Рослый, белявый, смекалистый… Ужасно спокойный, а так чего-нибудь плохого не замечал за ним, товарищ майор.
– Антон Михеич, – совсем по-домашнему обратился Холодов к Луню. – Вся надежда на ваш батальон. Придержите, голубчик, немцев, пока дивизия не переправится.
Он обещал усилить батальон счетверенной зенитно-пулеметной установкой на машине и несколькими 45-миллиметровыми противотанковыми пушками.
Лунь, опустив голову, мял пальцами свой подбородок, нечеткий, почти срезанный. Брови на морщинистом лбу как-то женственно приподнялись. И Холодову казалось, что Луню было непривычно, трудно думать.
– Дали бы нам, товарищ майор, несколько бутылок с горючей жидкостью. Уж очень они… это самое, удобные, – несмело попросил Лунь.
«Да что же это, нет, что ли, энергичного человека?» – Холодов невольно проникался неприязнью к этому седому, несобранному политруку, очевидно не понимавшему всей серьезности дела.
– Учтите, политрук, приходится посылать вас, ну, прямо скажем, на очень рисковое дело, – сказал он с нажимом.
Простецкой и понимающей улыбкой, пожатием сутуловатых плеч, будничными словами – мол, задач легких на войне не бывает, дело свое сделаем – Лунь, очевидно, со свойственной ему тактичной недоговоренностью дал Холодову почувствовать, что он разумеет, о чем идет речь, скорее погибнет с батальоном, чем отступит.
Колыхнув ветку, Лунь ушел, мелькнула в кустах его сутуловатая спина.
Сосредоточение стрелковых полков в лесах началось под вечер. Пушки, наведенные на немецкие позиции, должны были с наступлением темноты произвести отвлекающий огневой налет. С той же целью – обмануть противника – по всем частям был дан шифровкой и открытым текстом приказ о движении на север, на самом же деле прорываться решили на юго-восток.
Полк, в котором Холодов был на положении временного командира, закреплялся на окраине небольшого поселка.
Холодову не терпелось поскорее попасть в батальон Луня, повидать Александра Крупнова. Нагибаясь под деревьями, задевая ветви закинутой за плечо винтовкой, смахивая паутинки с лица, Холодов обходил группки бойцов, приводивших в порядок оружие.
Отвлекаясь мыслями от предстоящего боя, он все настойчивее думал о Лене Крупновой. Знакомство с Леной открыло для Хоподова веселую легкость, естественную простоту жизни. Образ жизни Холодова отличался от образа жизни сверстников, молодых командиров-холостяков одинакового с ним воспитания и образования, разве некоторым своеобразием эгоизма, но эта жизнь была для Валентина особенным даром судьбы. И он не помышлял отказываться от этого дара. Потому-то и доказывал в свое время Вере Заплесковой, что как бы ни любил ее, жениться не может: обстановка не позволяет. И он держал себя настороже с женщинами, особенно с Верой.
Теперь же не нужно было постоянно контролировать себя в своих чувствах, как это было в его отношениях с Верой Заплесковой. В письмах Лены играла все та же живая вольность. И он сам в своих письмах к ней становился непринужденным и веселым. И как-то совсем уж просто, кажется не задумываясь, за две недели до войны просил Лену считать его своим мужем. Несколько дней не отправлял этого все-таки странного письма, смутно надеясь, что всегда стоявший на страже свободы трезвый ум одернет его. Но этого не случилось. И, опустив письмо в ящик, Холодов дивился самому себе, не зная, радоваться или смеяться над тем, что становится он иным человеком.
VII
На поляне перед МТС Антон Лунь проводил беседу с группой бойцов роты Крупнова.
Подергивая морщинистой шеей, он сбивчиво начал читать газетную статью о германце, у которого вся жизнь фальшива, искусственна. Живет по казенному расписанию: в такой-то час обед, в такой-то – порка сына-неслуха, а потом любовь с Амалией.
– Ладно, после войны дочитаем это сочинение. А пока отдыхайте, ребята, – сказал Лунь, отрывая от газеты на закрутку.
Бойцы задремали, не выпуская из рук оружия. Александр Крупнов, привалившись спиной к вязу, зажал меж колен винтовку. Ему не спалось.
У бойцов и командиров, которые первыми приняли удар, нанесенный неприятелем натренированными, гордыми своими победами в Европе армиями, не оставалось времени на переживания и обдумывание войны в целом. Каждый час все нарастающего вторжения ставил их перед угрозой смерти или плена, что в глазах большинства было почти равносильно.
Временами вопреки своей трезвости Александр Крупнов думал, что противник одолевает их на одном направлении, а на других немцев осадили и даже погнали. Масштабы поражения не видны были ему, как и большинству непосредственных участников боев. И это неведение было, пожалуй, даже утешением солдат и в сплаве с чувствами привязанности, любви к близким и ненавистью к врагу – источником их наивной самоуверенности, непонятной для стороннего наблюдателя. Несмотря на отступления, красноармейцы не только горевали о захваченной неприятелем земле, но и веселились, шутили, даже чаще, чем в мирной жизни. Отправили в тыл разбитную Марфу – хорошо! Только сочувствовали Ясакову, что всего-то одну, да и то неполную ночь побыл с молодой. «Ничего, после войны свое возьмешь!» Взорвали склад горючего, увели коней, не оставив даже раненную в ляжку караковую кобылу – зер гут! Бойцы сержанта Крупнова гордились тем, что первыми встретили бой, контратакуя переходили границу, сожгли несколько танков, перебили немцев: не то сотню, не то больше – точно никто не знал. Но каждому хотелось, чтобы убитых было больше. И они невольно преувеличивали потери врага…
Неожиданно на поляне появился майор Холодов.
Лунь, кряхтя, встал, доложил Холодову тишайшим голосом, что бойцы отдыхают, потом толкнул в бок Крупнова.
Александр вытер с губ сладкую слюну, по-детски моргая сонными глазами. Очевидно, для порядка, показывая майору свою взыскательность, Лунь начал стыдить сержанта:
– Ну и сон у тебя каменный… – И отпрянул опасливо: в невеселом оскале блеснули зубы Александра.
Заметив Холодова, Крупнов встал, мгновенно одернул гимнастерку. Глянул на майора со смышленой солдатской выжидательностью, готовностью исполнить приказ.
Между ними, кроме отношений уставных, были еще личные отношения недосказанности. Неуступчивая, ревнивая память Александра не забывала, что между Холодовым и Верой Заплесковой была и, быть может, остается обидная для Крупновых, и особенно для него, Александра, связь. Он вспомнил, как весной сорокового года вместе со своим братом Михаилом после заключения мира с Финляндией, проездом из Выборга домой остановился в Москве, потому что брату «нужно хотя бы раз поговорить с Верой Заплесковой, пусть даже убедиться в своем несчастье». Александр понял тогда, к своему сожалению, тяжелую привязанность Михаила к ней… И еще открылось ему: Вера любила Холодова. Потому-то, видно, красивый и самоуверенный майор вызывал в нем враждебную настороженность.
Зимой Валентин приезжал из штаба армии в село, где стояло отделение Крупнова. И хотя тогда они разговорились и Александр отяготил карманы майорской бекеши яблоками, полученными из дому, все же чувство неловкости не исчезло даже сейчас, на войне.
– Как живем, как воюем, земляк? – спросил Холодов. Тон этот, неуместно радостный (погиб командир дивизии Богданов), не понравился Александру.
Кажущейся открытостью взгляда ясных, смущающих своим спокойствием глаз он заслонился сейчас от Холодова.
– Вам показать позиции, товарищ майор?
Холодов потух глазами.
– Посмотрим позиции, товарищ сержант.
И подумалось Холодову, что в минуты смертельной опасности люди еще определеннее, чем в обычное время, остаются людьми со своими чувствами привязанности и вражды, надеждами и отчаянием, доверчивостью и подозрительностью, честолюбием и безразличием к славе.
Придирчиво осмотрел Холодов углубляемые бойцами траншеи перед ржаным полем между лесом и озерцом, на окраине усадьбы машинно-тракторной станции.
В роте было много пулеметов, гранат – сержант хозяйственный человек. Он выдвинул вперед в буро светившуюся в сумерках рожь боевое охранение. Все раненые у него перевязаны, пункты снабжения укрыты. Убедившись, что бойцы роты поужинали, он только тогда пригласил майора поесть вместе с первым отделением, которым командовал до войны и первые дни войны, пока не убили ротного.
Соленую, острую тюрю приготовил Веня Ясаков из сухарей, толченого лука и редьки. На заедку Абзал Галимов одарил всех щавелем.
– Догадываетесь, в чем дело, товарищ сержант? – спросил Холодов.
– Политрук говорил: не пустить немцев к переправе.
И снова, как в разговоре с Лунем, Холодова удивила не вяжущаяся с обстановкой спокойная уравновешенность.
– Так-то так, но соль вот в чем, – недовольно отозвался он. Оглянулся на солдат, тащивших миномет. – Стоять будем до тех пор, пока не переправятся за реку войска, – и доверительно понизил голос: – Возможно, не увидимся… Когда будете домой писать, от меня поклон своим. Сестре Елене – особый…
Александр знал, что Лена в свое время переписывалась с Холодовым, но придавал этой переписке особый смысл: сестра шуткой мстит за Михаила. Для Александра Лена оставалась подростком, ей позволительно повалять дурака.
С крупновским умением ждать он глядел на майора, не тяготясь ни его замешательством, ни своим молчанием.
«Я обязан уважать вас, начальника, но при чем тут моя сестра Лена?» – думал он, не пуская Холодова в свой мир.
Счастливый, а потому особенно самоуверенный, Холодов не допускал, что Крупнов может испытывать к нему далеко не те чувства, которые были у него к брату любимой девушки.
– Расскажите мне о Лене… Хоть несколько слов…
И Александр понял все, но что-то мешало ему признать это неизбежным и законным. Он сказал, что давно не получал писем из дому.
Встреча с Холодовым растревожила Александра не тем, что он больше узнал о тяжелом положении армии, – с такой бедой он стал свыкаться, – ожил в душе тихий голос Веры. Глаза под грустной чернетью разлатых бровей будили жалостно-покровительственное чувство старшего к сироте. А может, это чувство жалости и смутной виноватости перед всеми, обиженными войной? Над собой Александр не задумывался подолгу, как-то незаметно решив, что, если не убьют, станет обер-мастером, женится, дети будут. Зато думал часто о братьях, столь несхожих характерами и судьбой, о родителях с их особенной, неразгаданной жизнью, о дяде Матвее – где он теперь и как? Думы эти укрепляли в нем молчаливую, себе на уме, гордость своим родом, своим классом. Он становился увереннее, спокойнее. А в этом он нуждался особенно сейчас.
…Он стоял за широколистным кленом, зорко вглядываясь в дорожный прогал между белесоватым ржаным полем и бугристо-темным перелеском. Ворочался, вспухая, дальний орудийный гул. Звучно перекликались перепела в свежем росистом воздухе. За спиной бойцы рыли траншеи, что-то перетаскивали, устанавливали. Снизу, от болотца, наплывал лилово-белый пар, пахнувший гарью и мочажиной.
Хотелось нырнуть по-перепелиному в рожь, припасть к земле щекой в беспамятном сне. Он терся лбом о корявую кору клена, хранившую дневное тепло в своих складках… Под руками жесткий ствол начал почему-то обмякать, и вот уже Александр со страхом и неумелостью не знавшего женщин обнимал податливые девичьи плечи…
– Силен наш сержант, а клена не поборет, – услыхал он голос Абзала Галимова.
Рывком разорвал путы сна, проведя руками по раскрасневшемуся лицу. Все десять бойцов были тут же, докуривая, затягивались цигарками из ковша своих рук.


