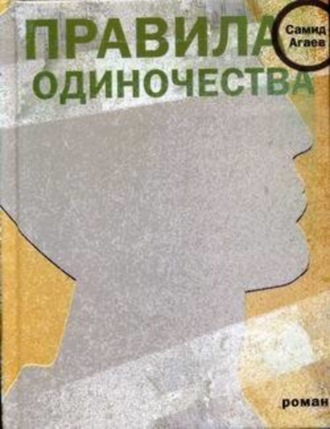 полная версия
полная версияПравила одиночества
В казарму курсанты вернулись злые как собаки, а зло решили сорвать на Намике – чтобы, гад, лучше учил великого и русского языка. Ислам как раз вешал шинель, стараясь придать ей необходимую форму, когда услышал за спиной глухой рокот Пети Куликова, здоровяка из Кабардино-Балкарии, и высокий голос Намика. Когда в звуках, издаваемых Намиком, появились истеричные нотки, он обернулся и увидел Кошкина – вятича, который тряс ладонью перед лицом хорохорившегося Намика, и Петю, ухватившего замахнувшегося Ахвердиева за ворот гимнастерки.
Ислам бросился выручать бедолагу, но прежде чем он успел добежать, перед Куликовым возник Азад Меликов – маленький, но воинственный – и прямым в челюсть послал Петю в нокдаун. Меликова сзади обхватил омич Пыргаев, позволив Кошкину нанести удар Азаду в ухо. Ислам врезался в толпу, и началась потасовка. Двадцать шесть человек разных национальностей, среди которых были русские, украинцы, дагестанцы, мордвины и латыши, дрались против троих азербайджанцев. Четвертый, пресловутый Ахвердиев, не дрался – он, несмотря на то что сам заварил кашу, отошел в сторону и смотрел. Так часто бывает. Дрались недолго. Дневальный крикнул: «Старшина идет!» – и все разбежались по своим койкам. Веселые были денечки.
Вспоминая ту драку, Ислам улыбается: вместо волнения и злости чувствует ностальгию и тепло в груди. Тогда, в той драке, было больше интернационализма и дружбы народов, нежели сейчас, когда все уступило место тихой ненависти друг к другу и ксенофобии.
Жизнь в учебке была довольно однообразной. По ночам – до двух, до трех часов – курсантов старались чем-нибудь занять. Тут сержанты, как ни пытались, ничего особенного придумать не могли, вся нагрузка в основном приходилась на деревянные полы: их скоблили стеклом, мыли щеткой с горячей водой и мылом. От многолетней «циклевки» доски порядком истончились и уже прогибались под ногами. Если полы были чистыми, то есть на следующий день после того, как они высыхали, все дружно начинали натирать половицы дурно пахнущей мерзостью, мастикой, от которой потом трудно было отмыть руки. Пресловутую мастику, за несколько дней черневшую от солдатских сапог, заново отскабливали и вновь натирали.
Следующим по популярности развлечением сержантов была тренировка отбоя, поскольку раздеться, уложить аккуратно вещи на табурет и забраться под одеяло необходимо было менее чем за минуту. Если кто-нибудь из взвода не успевал, все начинали упражнение заново. Вообще, коллективная ответственность в учебке применялась очень широко. К примеру, когда курсант Наливайко выпил, гад, в одиночку бутылку портвейна и лыка не вязал, его ночью заставили мыть сапожной щеткой туалет, а взвод все это время стоял в казарме навытяжку в одних кальсонах, босиком на холодном полу. Еще одним малоприятным занятием было время между ужином и отбоем. Называлось оно благостно «вечерняя прогулка», но на самом деле означало пятнадцать минут марширования и распевания песен.
Как-то раз старшине не понравилось пение – видимо, он пребывал в дурном настроении, потому что пели они как обычно. Прогнав их несколько раз мимо себя взад-вперед, он скомандовал: «Правое плечо вперед, шагом марш!» – и вывел роту за пределы части. Досада заключалась в том, что непосредственно перед вечерней прогулкой Ислам вместе с Исмаилом зашли в столовую, где в хлеборезке работал другой земляк – некий Саша, бакинец.
Вообще-то старались этим не злоупотреблять: азербайджанцев – в смысле призывников из Азербайджана – было много, а хлеборез Саша – один. Но голод, как известно, не тетка: смущаясь и подталкивая друг друга, заглянули в хлеборезку, поздоровались. Вечно хмурый Саша намек понял и выделил им на двоих буханку свежайшего белого хлеба и по цилиндрику холодного сливочного масла.
Умять деликатес друзья не успели: только хватили зубами по разу, как прозвучала команда «строиться». Торопясь, каждый разломил свою половину буханки еще пополам, внедрил масло в теплую сердцевину и спрятал хлеб на груди, под шинелью. Старшина вывел роту за ворота, скомандовал: «Бегом». Как были, так и побежали: в шинелях, в начищенных к завтрему сапогах, по лужам и грязи.
Дороги, надо заметить, в Манглиси либо идут вверх, либо спускаются вниз. Ну, горы – ничего не попишешь. Вниз-то бежать легко, а вверх – врагу не пожелаешь. Затем и вовсе началось форменное безобразие. «Вспышка справа, вспышка слева». Это значило – предполагаемая вспышка атомного взрыва. При этой команде надо было валиться на землю лицом вниз, и не важно, что в данный момент могло быть под ногами: асфальт, лужа, снег, грязь. С атомной бомбой шутки плохи.
Выбежали из поселка и на развилке затоптались на месте, поскольку впереди лежал глубокий овраг, а команды ни «влево», ни «вправо» не последовало. «Почему остановились? – крикнул Овсянников. – Вперед марш!» В овраге еще лежал снег, оставшийся после зимы. Крутой склон и глубина порядка пятидесяти метров.
Скользя и падая, курсанты спустились вниз и остановились, тяжело дыша, в ожидании новых приказов. Последовала команда «строиться», и старшина стал считать. Дойдя до пяти, он сказал: «Отставить, – и повторил, – отставить была команда». Здесь следует объяснить, что после того, как прозвучит слово «пять», надо оказаться за спиной командира по стойке смирно, а отставить означает – не просто остановиться, а вернуться на исходное место. На счет пять большинство было на середине склона. Тихо ропща, стали спускаться. Между ними сновали сержанты, пинающие и подталкивающие отстающих. Все сбежали вниз, и затем, после команды «строиться», скользя по снегу и грязи, вновь стали карабкаться по склону. «Отставить!» – счет до пяти.
Так старшина измывался над ними около получаса. Выстраданные бутерброды, из которых давно уже капало масло, ели уже в казарме, лежа под одеялом.
В начале марта пять человек из их взвода – Караева, Куликова, Пыргаева, Феклистова, Меликова – под командованием сержанта Смертенюка, уроженца Еревана, отправили в город Рустави на металлургический завод, зарабатывать для части трубы. В горах еще лежал снег, поэтому на дорогу всем выдали валенки – за несколько часов езды на машине можно было отморозить ноги. На склад Ислам пришел последним, поэтому ему достался сороковой размер, хотя он носил сорок первый – других на складе не оказалось.
Жили на железнодорожном полустанке, находившемся на территории предприятия. Работали грузчиками. В Рустави весна была уже в самом разгаре – заводчане потешались, глядя на солдат, расхаживающих в валенках. Кроме неподходящей обуви, у них еще было неподходящее питание, недельный запас сухого пайка: галеты, консервные банки с рисовой, гречневой кашей и паштет, который никто не ел. Ни гроша денег, полное отсутствие курева. Через неделю в радиусе пятидесяти метров нельзя было найти ни одного «бычка». Железнодорожники уже старались обходить солдат стороной, но если вдруг попадались, то на просьбу закурить отдавали всю пачку.
Все паштеты, тридцать пять банок, Ислам собрал в вещмешок и, взяв с собой безотказного Пыргаева, с разрешения сержанта отправился в самоволку, до ближайшей хашной. Буфетчик купить паштеты отказался, но растрогался, накормил и выдал каждому по рублю. Купили местной «Примы» и пару батонов свежего хлеба. В конце недели должен был приехать прапорщик и привезти талоны в заводскую столовую. Но с заводским правлением договориться не удалось – за обеды потребовали деньги, а они и так отбывали барщину, чтобы не платить за трубы. Откуда у военных деньги?
Прапорщик привез продукты: крупы, тушенку, соль, сахар и… сапоги. Натянув на измученные ноги разношенные сапоги, Ислам в первый раз в жизни понял, как мало надо человеку для счастья.
Отныне готовили сами: разводили костер и суетились вокруг него. Стряпать никто не умел. Первую же подлянку ПОДЛОЖИЛ горох. Оказалось, что его надо отмачивать, – они этого не знали. Поэтому варили его часа три. Заждавшийся прораб пришел за ними и застал спящими. Всех сморило за это время. Скандал разразился нешуточный.
В наказание их на следующий день отправили разгружать вагон с цементом. Шестьдесят тонн цемента в мешках по сорок килограмм! На разгрузку их поставили во второй половине дня, после того, как они закончили предыдущую работу. Тяжелейший мешок надо было вначале поднять, взгромоздить на плечо, пронести три десятка метров и уложить штабелем на складе.
Они кое-как перенесли по десятку мешков, перепачкались и ушли. Дело было на центральном складе, на дебаркадере сидело полтора десятка грузинов, кладовщиков. Солдат сразу же подняли на смех: «Что, работнички, шабаш? Это вы так долго будете разгружать!» Шли молча, под свист и шутки. На следующее утро применили другую тактику. Больше всего усилий затрачивалось на то, чтобы поднять мешок. Двое вставали на погрузку, хватали мешок с двух сторон и клали на спину подошедшего бойца – дело сразу шло быстрее. Решили работать без обеда, чтобы не сбиваться с ритма. Начали в девять часов, а в три вагон был пуст. Когда они уходили, покрытые цементной пылью грузины, выползшие на дебаркадер, как тараканы на солнце, оживились:
– Ну что, работнички, короткий день у вас опять?
– Мы закончили, – ответил сержант с достоинством. Грузины не поверили: один из кладовщиков побежал к вагону и вернулся, размахивая руками, что-то выкрикивая на своем языке.
Это проявление трудового героизма произвело на всех такое впечатление, что для солдат тут же нашли халтуру и заплатили три рубля.
Деньги на карманные расходы добывали в основном одним способом: копали огороды. Благо, была весна, и на эту работу существовал спрос. Недалеко от завода было село, в котором жили одни азербайджанцы. Когда в первый раз они подрядились вскопать огород, селянин обманул: вместо обещанных денег дал им две бутылки чачи. Одну бутылку Меликов хотел разбить о его голову, но тот заперся в сарае, божась, что денег нету. Однако бутылка все равно не избежала этой участи. Ее о стенку разбил сержант, узнав, что они полдня горбатились за самогонку.
21 марта – день празднования Новруза, весеннего равноденствия. В Азербайджане существовал обычай бросать на порог дома платок. Хозяин должен был наполнить его сладостями, вынести и оставить на пороге. Клали обычно то, что было на праздничном столе: конфеты, пахлаву, щекербура[32], крашеные яйца, горга[33]. Исламу в этот день пришла в голову забавная идея, он изложил сержанту свой план и солдаты, прихватив с собой вещмешок, отправились по домам азербайджанского селения напомнить мигрантам о древнем зороастрийском обычае. Входили во двор, стучали в дверь, оставляли на пороге шапку. Хозяин выходил, окликал, вглядываясь в темноту. Тогда появлялся Ислам и объяснял цель своего визита. Обычай этот в деревне не был в ходу, но после объяснений хозяева приходили в радостное изумление и выполняли просьбы солдат. Обошли несколько домов и набили вещмешок до половины.
В Рустави прожили полтора месяца. Несмотря на тяжелую работу, это были шесть недель вольготной жизни. Затем вернулись в Манглиси, к службе в учебке, основным кошмаром которой были наряды.
Самым легким (относительно) был наряд в автопарк, самым кошмарным – наряд по роте. Но абсолютно все означали бессонную ночь. Предполагалось, что перед заступлением в наряд солдат должен привести одежду в порядок, почистить, подшить свежий воротничок, надраить сапоги, а затем отдохнуть не менее двух часов. Но на деле отдыхать можно было только после того, как у сержанта не оставалось замечаний. Понятно, что такой ситуации возникнуть не могло. Весь день вкалывали на хозработах, после обеда готовились к заступлению в наряд, зубрили устав. Сержант придирался к каждому стежку на воротничке, каждому слову. К окончанию учебки ненависть к сержантам была такова, что в день отправки курсантов в линейные войска командиры взводов куда-то исчезали – прятались, боясь расправы, и справедливо. Полгода многие жили ожиданием дня, когда можно будет врезать сержанту и сразу уехать, не боясь последствий. Но напрасно они аки львы рыскали по территории части: обидчики как сквозь землю проваливались.
Но случались и чудеса: иногда и сержанта могли отправить в войска, и это было все равно что проштрафившегося мента посадить в лагерь к уголовникам – впрочем, это происходило редко. Чтобы избежать расправы, сержантов старались командировать в военные училища, в хозчасть и т. п. Но отдельный поезд, конечно, предоставить не могли.
Перед самой отправкой прошел слух о том, что Джумабаев откомандирован из школы сержантов и поедет вместе с курсантами в Баку. Ислам не верил своему счастью. Разве есть справедливость на земле? От Тбилиси до Баку, как помнит читатель, всего одна ночь, но какая! Во всем составе, отправившемся из Тбилиси в Баку, царили удаль и веселье: так, видимо, чувствуют себя люди, вырвавшиеся из застенков. Ислам обошел весь поезд – Джумабаева нигде не было. Переходя из вагона в вагон, Ислам наткнулся на странную процессию. Упитанный солдатик, ползая на четвереньках, мыл полы. А за ним веселясь от души, торопя и подбадривая его пинками, двигались бывшие курсанты. В полотере Ислам узнал розовощекого Зудина, бывшего каптерщика. Полгода сытой, спокойной жизни на глазах вечно голодных, измученных солдат обернулись таким наказанием: его заставили мыть полы во всем поезде, всю ночь.
Утром выгрузились в Баку, полдня просидели на вокзале, затем их отвезли в местечко под названием Насосная, под Баку. На двое суток расквартировали в жутких казармах, загаженных до такой степени, что спать в них отказались все, проявив общее неповиновение. Спали в воронках на берегу моря, постелив под себя шинели, бушлаты. Благо стоял май месяц – в Баку в это время достаточно тепло. Над ними летали чайки и что-то выкрикивали. Возможно, это была их территория.
Людей было много – не менее полутора тысяч человек. И здесь Ислам ходил, выкрикивая имя Джумабаева. Киргиз как сквозь землю провалился. На следующий день за солдатами приехали представители войсковых частей. Офицеры, держа в руках списки, выкрикивали фамилии тех, кого они должны были забрать с собой. Названные солдаты поднимались с земли, подходили и становились в строй. Увидев это, Ислам встрепенулся, встал и вдруг явственно услышал, как стоявший недалеко офицер из военно-морского училища выкрикнул фамилию Джумабаева.
Ислам, не веря своим глазам, увидел, как буквально в десятке метров от него с земли поднимается фигура, торопливо идет и становится в строй. Ислам подошел ближе и, ухмыляясь, стал пристально разглядывать плоское лицо киргиза, старательно прятавшего глаза. Офицер довел до строя солдат информацию, дал всем пятнадцать минут на сборы и скомандовал «вольно». Деваться Джумабаеву теперь было некуда. Он покорно стоял под дружелюбным взглядом бывшего подчиненного, не зная, что и думать. Ислам подошел, взял его под руку и увлек за казарму. Здесь он прислонил сержанта к кирпичной стене и спросил: «Ну, что будем делать, брат мой во Мухаммаде?»
Увязавшийся за ними Меликов вдруг стал взывать к милосердию, упирая на то, что дело происходит на родной земле, и морального права бить здесь чужака у Ислама нет. Ислам так не считал, но хотел услышать, что скажет Джумабаев, готовясь отвесить ему для начала хорошую плюху. Джумабаев стал мямлить, что ничего личного против Ислама он не имел, что все это была служба. Ислам ему не верил, но неконтролируемое чувство жалости уже охватило его, парализовав желание мести. Джумабаев был жалок, когда говорил: губы его тряслись, подгибались коленки – даже сквозь смуглые щеки проступил румянец страха.
«Желтолицая, кривоногая собака, – произнес про себя Ислам данное когда-то сержанту прозвище, пытаясь раззадорить себя. Но и это не помогло. Удивительное дело: в течение шести месяцев Джумабаев измывался над ним, а сейчас Ислам не мог справиться с чувством жалости. Он легонько ткнул его кулаком в подбородок, памятуя о том ударе, полученном в караулке, взяв за шиворот, встряхнул. Меликов тут же повис на его руке, умоляя не бить Джумабаева. Ислам уже не собирался никого бить, а просто делал движения для эмоциональной разрядки, но от досады он готов был треснуть по голове самого Меликова – благо, макушка маячила перед глазами. В итоге он сдался.
– Ладно, Джумабаев, – сказал Ислам сержанту, – иди с богом и постарайся запомнить этот день. В следующий раз, когда захочешь поиздеваться над салагой, подумай над тем, что я мог тебя избить, как собаку, и утопить в Каспийском море, но не сделал этого – пожалел. А ведь ты никогда не жалел нас, и вот этот Меликов, который за тебя заступается, тоже натерпелся от тебя в свое время.
Проникся ли этими словами Джумабаев – неизвестно. Плоское лицо степняка ничего не выражало. Ислам отпустил его и пошел к своим. Через полчаса он услышал свою фамилию, простился с Меликовым, сел в военный автобус и отбыл в Нахичевань, к месту несения дальнейшей службы.
Нахичевань
С Мамедом он познакомился в линейных частях, во время утреннего дивизионного построения на плацу.
Командир батареи, старший лейтенант Мотуз, важной птицей расхаживает перед строем – он и похож на гуся: высокий, крупный, с маленькой головой. Командир часто поглядывает на угол казармы, из-за которого должен появиться командир дивизиона, подполковник Тумасов.
Тот появляется минута в минуту – Ислама всегда преследует ощущение, что подполковник специально выжидает за углом, для пущего эффекта. Он идет быстрым шагом, слегка заваливаясь на бок, на ходу докуривая сигарету. Завидев командира, Мотуз подбирается и движется строевым шагом навстречу. Тумасов бросает наполовину выкуренную сигарету с фильтром – полковник курит «Столичные», – и многие солдаты отмечают место, куда она упала, чтобы потом подобрать. Оба офицера синхронно тянут правые руки вверх, чтобы отдать честь, но у подполковника ладонь останавливается у правой брови, у старшего лейтенанта – упирается в оттопыренное ухо. Следует четкий доклад.
Затем комбат резко бросает ладонь вниз и делает шаг в сторону, комдив проходит вперед, поворачивается лицом к солдатам и приветствует их.
Дивизион в ответ грохочет так, что облетевшие тополя в испуге роняют остатки листьев. Лицо Тумасова невозмутимо: ни один мускул, как говорится, не дрогнет. Он тайный армянин – на самом деле он Тумасян, откуда у этого народа такая страсть к конспирации? Тумасов, Парсаданов… Очень смуглый, похожий на колдуна-магрибинца из «Волшебной лампы Аладдина», сильно щурит глаза. Опускает руку, и видно, что одно плечо выше другого, – сильно сутулится.
Негромко переговариваются. В это время из казармы на крыльцо выходит солдат и вдоль фасада идет в сторону умывальника. Строй провожает его взглядами, смотрит на его тапочки, совершенно возмутительные по своей дерзости домашние тапочки сиреневого цвета с кистями. На лицах солдат появляются улыбки. Почувствовав неладное, Мотуз оборачивается, и лицо его багровеет от гнева: он открывает рот, но не успевает – солдат скрывается за углом.
– Старшина, – говорит комбат, – почему у вас солдаты разгуливают по части, почему он не в строю?
Старшина батареи, прапорщик Алиев, принимает стойку смирно и четко отвечает:
– У него освобождение, товарищ старший лейтенант. После госпиталя.
– В чем дело? – недовольно спрашивает Тумасов.
– Курбан-заде вышел из госпиталя, – докладывает Мотуз.
– Неужели? Где же он?
– В туалет пошел.
Комдив оборачивается и смотрит на угол, за которым скрылся Курбан-заде.
Эту фамилию Караев слышит каждый день в течение всего времени, что он находится в линейных войсках. При каждой проверке старшина выкрикивает: «Курбан-заде», а дежурный отвечает: «госпиталь».
Весь дивизион ждет появления Курбан-заде из туалета. Через несколько минут старшина, не выдержав напряжения, срывается с места и бежит за ним. Комбат морщится: подобное рвение сейчас крайне неуместно, так как происходит не по уставу. Подполковнику надоедает ждать, и он поворачивается лицом к строю. Далее следует развод на хозработы. Тумасов собирается уходить, когда раздаются голоса и из-за угла появляется Курбан-заде, подталкиваемый старшиной.
– Ара, что ты меня толкаешь? – огрызается Курбан-заде.
– Я вам приказываю, товарищ солдат, – громче необходимого говорит старшина, – встаньте в строй.
– Я тебя сейчас так толкну, – отвечает солдат, – улетишь отсюда.
– Бегом ко мне, – приказывает комдив.
Но устремляется к нему один старшина, которому можно было бы и не делать этого, а солдат продолжает двигаться шагом, только начинает слегка прихрамывать. Старшина, добежав до начальства, оглядывается и кричит:
– Бегом была команда.
Однако солдат уже дошел и стоит перед подполковником.
– Почему не в строю? – глухо спрашивает комдив.
– У меня освобождение, – отвечает солдат.
– Что же тебя за восемь месяцев не вылечили в госпитале? – с сарказмом произносит Тумасов. И добавляет, – почему в тапочках?
– Мозоль натер.
– С непривычки, – продолжает иронизировать комдив, – ты же сапоги еще не разносил за год службы – все в госпитале лежишь.
Тумасов смотрит на старшину.
– У него освобождение?
– Так точно, товарищ подполковник.
– Зачем же вы бегали за ним, сразу не могли сказать?
– Виноват, товарищ подполковник.
Тумасов смотрит на старшину тяжелым взглядом. Алиев говорит по-русски сносно, но с жутким акцентом и не все понимает – в прошлый раз, когда комдив вошел в Ленинскую комнату, старшина скомандовал: «Товарищи солдаты», тогда как этой командой поднимают только офицеров при появлении старшего по званию, а солдатам просто говорят «встать!».
Тумасов переводит взгляд на Курбан-заде.
– У вас освобождение от чего?
– От строевой, – отвечает Курбан-заде.
– Отвечать по уставу!
– От строевой, товарищ подполковник. Тумасов, обращаясь к Мотузу, замечает:
– У него освобождение от строевой, так займите его нестроевой работой.
– Слушаюсь, – говорит Мотуз.
– Становитесь в строй, солдат, – приказывает комбат, – строевых занятий сегодня не будет, пойдете в автопарк обслуживать технику.
– Может быть, я Пашаеву помогу оформлять Ленинскую комнату? – говорит Курбан-заде. – Я же художник.
– Встать в строй, – повторяет комбат и, обращаясь к старшине, – тапочки выдайте ему казенные.
Пожав плечами, Курбан-заде становится в строй рядом с Караевым и, поймав его взгляд, дружелюбно подмигивает. Старшина Алиев важно вышагивает на середину плаца и командует:
– Батарея, напра-во, правое плечо вперед, шагом марш! Песню запевай!
Строй солдат затягивает:
И девчонке снится черная птица,Пушек перекрестие на ней, –и движется по территории части вдоль деревянных бараков. По неписаным армейским законам поют только солдаты, прослужившие менее года, – старослужащим петь не к лицу. И они старательно молчат. Орущий во всю глотку Караев с удивлением отмечает, что Курбан-заде тоже что-то мурлычет себе под нос, – видимо, в свое удовольствие, поскольку позволяющий себе ходить в строю в домашних тапочках наверняка петь не стал бы. Но скоро ему это надоедает, и он замолкает. Тут же раздается окрик старшины, который, словно не замечая остальных старослужащих, обращается к Мамеду:
– Курбан-заде, пой.
– Ара, отвали, – цедит Мамед.
Тут внимание старшины отвлекает начальник ПВО дивизии – полковник Таран идет им навстречу. Алиев командует:
– Батарея, смирно, равнение направо!
Солдаты начинают чеканить шаг, и сам старшина вытягивается, прикладывает руку к фуражке. Но полковника это не удовлетворяет. Он приказывает: «Отставить, вернуться на исходную позицию!» Строй бегом возвращается назад и, заново чеканя шаг, проходит мимо начальника ПВО. Дежурный по КПП, завидя колонну, бегом открывает ворота.
– Вольно, левое плечо вперед, шагом марш.
Колонна выходит из расположения части и движется в автопарк на технические работы. Идут по асфальтированной дороге, спереди и сзади – по солдатику с флажком в руках. Вокруг лежат горы, над ними возвышается голубой Арарат, на котором, как известно, долгое время прохлаждался Ной со своей флорой и фауной.
В автопарке все разошлись по своим объектам – обслуживать боевую технику: тягачи, пушки, радиолокационное оборудование. Поскольку Мамед остался не у дел, старшина, недолго думая, определил его в помощь Исламу.
– Караев, возьмешь его и дашь фронт работы, – грозно сказал старшина.
В армейской иерархии Ислам, прослуживший меньше Мамеда, к тому же не будучи сержантом (из учебки он вышел специалистом), не мог отдавать ему приказы. Поэтому приказ Алиева выглядел насмешкой. А может, это была очередная глупость старшины, который неважно знал русский язык. Впрочем, могло быть и то и другое.
При знакомстве выяснилось, что дед Мамеда родом из Ленкорани. Мало того: мать Ислама, когда жила в Баку, работала в кинотеатре, директором которого был отец Мамеда. Это обстоятельство, не имеющее на гражданке особого значения, в армии приобрело едва ли ни силу родства.



