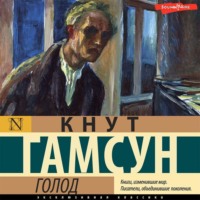полная версия
полная версияМестечко Сегельфосс

Кнут Гамсун
Местечко Сегельфосс
ГЛАВА I
Зачем это там человек на новом сигнальном холме? Наверное, опять какая– нибудь дурацкая выдумка Теодора из Буа, – узнал бы об этом его отец, старик Пер из Буа!
Ну, у господина Хольменгро, у помещика, есть сигнальный холм, и флаг, и сигнальщик; это разумно и нужно: ему приходится подавать сигналы почтовым пароходам и когда к набережной заворачивает тяжелый грузовой корабль с зерном для мельницы. У Теодора же из Буа просто нет ни стыда, ни совести: он завел себе сигнальный холм только потому, что он мелочный торговец, и машет флагом всему на свете, а то и вовсе зря или только по случаю воскресенья. Валяет дурака!
Вот и сейчас – выслал человека на сигнальный холм, будто в этом есть надобность, и человек стоит, и смотрит на море, и держит наготове флаг, чтоб поднять его, как только увидит, что нужно. А и ждет-то, должно быть, всего какую-нибудь рыбачью лодку!
Но удивительно – сколько бы раз молодой Теодор из Буа ни махал флагом и ни дурачил народ – ему это всегда прощалось. Он возбуждал в людях любопытство, увлекая их, заставляя работать языки – что такое будет нынче? От этого черта Теодора можно ждать какого угодно сюрприза. Во всяком случае, Оле Иоганна и Ларса Мануэльсена здорово разобрало любопытство; они встретились под горой на дороге и не могут оторвать глаз от человека на сигнальном холме.
Оле Иоган такой же, каким был всегда, во все годы службы у господина Хольменгро, орудует мешками и тяжелой кладью, неуклюжий замараха, в сапогах с голенищами и в исландской куртке. Ни до чего порядочного он не дослужился – куда там! – и семья его, как и раньше, едва-едва перебивается. Так-то плохо складывается жизнь для одних. Ларс же Мануэльсен – тот, запретив, достиг ступеней высоких, он рос вместе с местечком, с самим Сегельфоссом, он отец Л. Лассена, знаменитого пастора на юге, ученого и кандидата в епископы, и отец Юлия, того самого, что держит гостиницу Ларсена на набережной. Давердана тоже его дочь, она замужем за пристанским конторщиком, и огненно-рыжие волосы придают ей необыкновенно страстный вид. Так что семья Ларса Мануэльсена очень возвысилась, сам он тоже уже давно самостоятельный хозяин, и никто не видал его в Буа без денег. Так-то вот складывается жизнь для других. Рыжая борода Ларса Мануэльсена поредела и поседела, волосы совсем вылезли, но сын его Л. Ларсен прислал ему парик, и Ларс носит его постоянно. Если он ходит в буйволовой куртке с двумя рядами пуговиц и пальцем не притронется к работе, так это оттого, что ему не нужно, – настолько поправились его обстоятельства.
За последнее время Ларс ни от кого уже не слышит ничего обидного, но, разумеется, случается, что его бывшие товарищи и собратья по каторжному житью на нашей грешной земле и скажут ему что-нибудь вроде того, чтобы:
– Не понимаю я, на что ты живешь, Ларс, ежели не крадешь?
Тогда Ларс Мануэльсен сплюнет, помедлит немножко и ответит:
– А я тебе – скажет – что-нибудь должен?
– Нет, что ты! А жалко, что не должен!
– Тогда я заплатил бы, – скажет Ларс.
Доходы Ларса Мануэльсена были вполне натуральные. Например, разве мог человек, имея таких важных детей, пойти работать на других? Конечно, нет. Но когда Юлий открыл гостиницу и стал принимать постояльцев, то, само собой разумеется, старик-отец был привлечен к делу. Иначе, кто бы стал таскать сундуки и чемоданы с пристани и обратно? По первоначалу Ларс Мануэльсен был скромен и зарабатывал мало, но в последнее время доходы его возросли, частенько стали приезжать шкипера, прасолы, скупавшие убойный скот для городов, а то заглянет фотограф или какой-нибудь корреспондент иллюстрированной газеты, а тут появился даже коммивояжер с образчиками в ручном саквояже. А это все были щедрые и приятные постояльцы, видавшие свет и не жалевшие выбросить монетку в двадцать пять эре за то, чтоб их багаж снес отец знаменитости. Про Оле Иогана, стоявшего тут же, никто ничего не знал, про Ларса же Мануэльсена всем было известно, кто он такой, да он и сам это знал и не таил про себя.
– Нет, они ждут не рыбачью лодку и не парусную шхуну, – говорит Ларс Мануэльсен.– Ветра нет.
– Да, ветра нет. Разве что послали гребную лодку за приезжими гостями?
Оба обдумывают это, но находят невозможным, смешным. Нет, у старика Пера из Буа и у Теодора из Буа не бывает гостей. Вот если бы человек стоял на сигнальном холме господина Хольменгро…
Потому что господин Хольменгро все еще был великим человеком, и о нем всегда вспоминали прежде всех. Правда, несколько лет тому назад у него было много потерь, убытки, да и потом тоже у него было много потерь, но что значат одна – две потери для того, кто может с ними справиться? Ведь рожь и пшеница нынче, как прежде, прибывали в Сегельфосс из Америки и с Черного моря на больших пароходах и покидали Сегельфосс перемолотые в муку, направляясь во все северные страны и в Финмаркен. Мельница господина Хольменгро не стояла ни одного рабочего дня, хотя уже не работала по ночам, как встарь.
Насчет же гостей и всего такого Оле Иоган и Ларс Мануэльсен долго прикидывали, какого же это важного человека мог ожидать господин Хольменгро: ведь дочь его, фрекен Марианна, уже приехала домой, в красной пелерине, из Христиании и из-за границы, и во всяком случае – не стал бы господин Хольменгро пользоваться ради этого сигнальным холмом Теодора из Буа!
Оле Иоган говорит:
– Будь у меня время, я сходил бы на сигнальный холм н спросил. Не сходишь ли ты?
Ларс Манузльсен отвечает:
– Я? Нет.
– Что так?
– Мне это ни к чему.
– Что ж, по мне, ладно, но только так никто из нас не узнает, – обиженно говорит Оле Иоган.– Только уж очень ты стал важный, тебе ни до чего нет дела.
Ларс Мануэльсен плюет и отвечает:
– Я тебе что-нибудь должен?
Оле Иоган собирается уходить, но вдруг замечает Мартина-работника, несущего на плече несколько штук дичи. Мартин-работник идет из леса, в руке у него ружье, днем он охотится, – песцовые шкурки нынче семьдесят крон, а выдра – тридцать.
– Что убил нынче? – спрашивает Ларс Мануэльсен, желая проявить благосклонность.
– Смотри сам! – кратко отвечает Мартин-работник. Мартин-работник так краток со всеми, и с отцом великого человека обращается не иначе, чем с другими. Великий человек, – кто в наши времена велик? После смерти своих бывших господ Мартин-работник не видал ничего великого среди людей, он живет большею частью воспоминаниями о временах лейтенанта, о временах Виллаца Хольмсена Третьего, когда теперешняя фру Раш, жена ходатая по делам, была камеристкой в поместьи, а Готфред-телеграфист служил на побегушках в Сегельфоссе. Эти времена он помнит. Разумеется, и теперь тоже есть Виллан, Хольмсен Четвертый, по прозвищу молодой Виллац; но он артист и редко живет дома, Мартин-работник мало его знает.
Он идет дальше с перекинутыми через плечо птицами, сохраняя свои старинные убеждения.
– Отчего ты не пойдешь к нам в гостиницу, продал бы птиц и получил бы за них деньги? – говорит ему Ларс Мануэльсен.
Слыхал Мартин-работник или нет? Слыхал отлично, но не ответил. Так презирал он это хвастливое предложение.
– Ты не видал, кто это стоит на сигнальном холме?– кричит ему вслед Оле Иоган.
Мартин-работник останавливается:
– На сигнальном холме? Корнелиус из Буа, – отвечает он, потому что спросил Оле Иоган.
– Корнелиус из Буа?
– Да.
Мартин-работник идет дальше. И в особенности он презирает Ларса Мануэльсена с его двумя рядами пуговиц на куртке.
А ведь оба, и Оле Иоган, и Ларс Мануэльсен, отлично видели, что это подручный лавочника Корнелиус стоит дозорным на холме, вырисовываясь с флагом в руке на небе, но им надо было это слышать и надо было об этом поговорить. Да, раз это Корнелиус, то, стало быть, дело касается хозяев лавки, Пера из Буа или его сына Теодора из Буа, а что же это может быть?
Впрочем, в Буа был только один человек, потому что сам старик Иенсен лежал в параличе, развалина на восьмидесятом году, и все равно, что нет его, сын же был все и великолепно вел дело, на широкую ногу, того и гляди станет богачом. У этого Теодора была счастливая рука на все, что он ни задумает и ни затеет: он перегнал отца, он зарабатывал деньги, тогда как отец их только копил. Молодому человеку было всего двадцать лет, а он до сих пор умел оградить местечко от конкурентов; недавно он проглотил даже пекаря со всей его пекарней за долг в лавку.
Но, при всем своем твердом и настойчивом характере, парень этот был все же довольно ограничен. Чего еще можно было от него ожидать? Как природный крестьянин, как мошенник, он хорошо вел свою торговлю, но вне дела был не лучше прочих парней своего звания, пожалуй, даже хуже по тщеславию и дурашности. Носил кольца на обеих руках, а иногда расхаживал по грязному полу своей лавки в башмаках с шелковыми бантами. Даже односельчане смеялись над ним и говорили: «Посмотрел бы на тебя твой отец!»
А что ему за дело до отца, – он победил и превзошел его. Уже несколько лет он спекулировал на собственный страх и покупал рыбу на Лофонденских островах, насколько хватало средств, – с каждым годом все больше и больше, и наконец завел себе собственную рыбачью яхту. И вот теперь парень стоял на большой высоте, и перед ним раскрывалось целое царство. Осенью он поразил всех, – продал свою новую рыбачью яхту и получил много денег. Бросил он рыбный промысел, что ли? Да, на один год. Сделал передышку.
Весною он купил у одной компании в Уттерлее большую, гнилую шхуну «Анна», которую можно было проткнуть дождевым зонтом; судно никуда не годилось, но зато ничего и не стоило. Два месяца спустя шхуна была наилучшим и наибыстрейшим образом отремонтирована и вдобавок оснащена, как галеас, покрашена, застрахована и отправлена на лов сельдей. «Анна» выдержала, дно из нее не вывалилось. А зимой уж не пошла ли она в Лофонден за треской? Это было бы ее смертью; вместо этого Теодор заарендовал в тот год под свою треску грузовое судно. Это была замечательная идея, и все понимали, что она приносит каждый день убыток. Убыток? Как раз в эти дни милашка Теодор заказал себе из золотого в двадцать крон булавку для галстука и стал щеголять в этом украшении. А что же произошло осенью, когда треска высохла и стала легкой? Милашка Теодор погрузил ее на гнилой галеас, перестраховал и отправил в море. Правда, это был последний рейс галеаса «Анна», он пошел ко дну, едва миновав Фолла, но никогда у милашки Теодора не было дела выгоднее этого. Благодаря этому маневру, он получил капитал, необходимый для следующей операции: знаменитой покупки гагачьего острова у купца Генриксена.
За этой операцией последовало много других. В особенности ему везло со старыми судами; нынче у него опять имелась старая, но вполне пригодная шхуна. И вот теперь шхуну ждали со дня на день с новым грузом трески, которую предстояло сушить на горах, но шхуна не могла прийти вследствие безветрия. Однако, Корнелиуса послали сигнализировать на шхуне.
Оле Иоган обладает закоренелым пороком, терзающим его ежеминутно: он любопытен, как баба. И вот он предлагает пойти прямо в Буа и все разузнать, если Ларс Мануэльсен тем временем поработает за него на мельнице.
Правда, Ларс Мануэльсен больше не работает своими руками; но он уж столько раз отказывал своему товарищу и соседу, что теперь не хочет отвечать напрямик: нет.
– Я не так одет, – говорит он вместо этого.
– Одет? Ну, да, у тебя восемь пуговиц на куртке, – раздраженно издевается Оле Иоган, – и ты боишься, как бы они не смололись!
– Не в этом дело, – отвечает Ларс Мануэльсен довольно миролюбиво.– Но я не знаю, позволит ли парик.
– Парик? А разве ты не можешь его снять. Что же, ты так на всю жизнь и хочешь быть развалиной из-за парика? Начхать на парик! Надевай его по праздникам и к причастию, – против этого никто тебе ничего не скажет.
Тогда Ларс Мануэльсен направляется к мельнице и больше не препирается. Для этого он слишком важен. Покосившись через плечо, он видит, как Оле Иоган поворачивает к Буа.
На мельнице ему все хорошо знакомо с прежних времен, и он сам находит себе работу. Но он нагибается не чаще, чем надо, и не поднимает тяжелых кулей, – это все отошло в прошлое, когда он еще не получил великого отвращения к труду.
Бертель из Сагвика стоит на своем посту. Он дослужился у помещика до положения доверенного, и поденная плата его теперь немного выше, чем когда он поступил. Бертелю из Сагвика и его жене живется сносно, сам он имеет верные деньги, а жена его, по примеру прочих, шьет мешки для мельницы и тоже прирабатывает. Дети у них выдались хорошие и после конфирмации вышли в люди: Готфред служит на телеграфе, а дочь Полина живет хозяйкой в имении Сегельфосс и заведывает всеми служащими, оставшимися у молодого Виллаца. Эта самая Полина отлично научилась домоводству и кулинарии у стариков Виллац Хольмсен, так что была бы очень подходящей хозяйкой в гостинице Ларсена, – ну, да разве Юлий о ней не подумывал? Еще как, он уже давно думал о ней, и любил ее, и настойчиво сватался, но Полина его отвергала.
Ларс Мануэльсен не устоял – завернул к Бертелю поболтать и прежде всего объявил, что он пришел сюда не работать, а за тем, чтоб немножко пособить Оле Иогану.
– Понимаю, – отвечал Бертель и слегка усмехается про себя.
– Я больше не хожу работать, мне это не нужно.
– Конечно, – отвечает Бертель и сильнее усмехается про себя, потому что с годами Бертель стал очень весел и жизнерадостен.
– Потому что, ежели насчет всего такого, так у Юлия есть гостиница Ларсена с едой и питьем, и готовыми постелями, и всем, что даже угодно.
– И я то же говорю.
Ларс Мануэльсен спрашивает:
– Так как же, женится Юлий на Полине? Известно тебе что-нибудь?
– Нет.
– Я вот что хочу сказать, – продолжает Ларс Мануэльсен, – мой сын Лассен мог бы повенчать их, а ведь это, пожалуй, получше, чем если бы их повенчал кто другой.
На это Бертель отвечает, что ему ничего неизвестно; Полина вольна поступать, как хочет, и непохоже, чтоб она торопилась уходить из имения.
– Она может поступать, как ей угодно! Да что же она думает? Смешно слушать! Что же, она метит за самого Виллаца? Шалопай и музыкантщик, то он в одной стране, то в другой. А имением управляет Мартин-работник.
Но Бертель сохранил часть своего прежнего почтения к дому Хольмсен, его сердит насмешка Ларса Мануэльсена над молодым Виллацем, и он этого не скрывает:
– Твоя мать родила шалопая, – сказал он, – и шалопай этот – ты. Виллац настолько выше меня и моих семейных, что он не замечает нас на земле, а еще меньше видит Полину, которая служит ему за насущный хлеб. Виллац – барин, а что такое мы с тобой? А до твоего поганого рта, Ларс, ему и дела нет, он и плюнуть то на тебя не захочет!
С этими словами Бертель весьма непочтительно сплюнул.
Ларс Мануэльсен стоит безмолвно, полный собственного достоинства. Давно уже никто не говорил с ним в таком оскорбительном тоне, и вот он уходит – возвращается на свое место и к своей работе, подальше от Бертеля из Сагвика.
Внизу, по дороге, идет господин Хольменгро, сам помещик. Удивительно, до чего он изменился! Серая куртка, серые сморщенные брюки, пара грубых башмаков, белых от муки, и большая нечищенная шляпа – вот и все его великолепие. Зимы с каждым годом становятся мягче, но люди, раньше ходившие в куртке, теперь стали носить пальто, – они сделались такие неженки, такие зябкие; господин же Хольменгро идет в серой куртке. Даже ленсман из Ура носит на фуражке шнур, даже у лоцмана берегового судна ясные пуговицы с якорями; а господин Хольменгро похож на рабочего у невода или на артельного старосту. Если б люди не привыкли к этому за последние годы и не видали его в другом виде, они бы очень подивились. Не он ли король Тобиас здешних мест, не он ли поработил и согнул перед собой все живое? Если бы не толстая золотая цепь на жилете, никак нельзя было бы подумать, что это он. Да, не будь цепи, его можно было бы принять за сушильщика рыбы у Теодора из Буа.
Он проходит мимо Бертеля из Сагвика, и Бертель кланяется. Идет к четверым рабочим, которые насыпают мешки мукой и затягивают у них верхушки; эти не то кланяются, не то нет, двое слегка кивают, а двое умышленно нагибаются над мешками и притворяются, будто не видят. Это рабочие нового склада, они ходят в галошах и приехали сюда на велосипедах, машины их стоят поблизости.
Господин Хольменгро заговаривает с ними, они не выпрямляются и слушают не очень внимательно; стоят, навалившись на мешки, и словно заставляют себя слушать. Когда хозяин кончает говорить, они выпрямляются и с минуту думают о том, что он сказал, потом начинают громко разговаривать между собой так, чтобы хозяин слышал, выражают сомнение в правильности его распоряжения, спрашивают друг у друга, плюют, советуются: – Как по-твоему, Аслак? – говорят они. – Что нам делать? – говорят.
Помещик повернулся уходить и уж сделал несколько шагов, но, услышав последние слова, кричит через плечо:
– Что вам делать? Вы должны сделать так, как я сказал!
И при этом, должно быть, думает, что дело решено. Увы, оно, пожалуй, совсем не решено; но помещик видит сейчас, как и раньше, что уважение пропало, он боится спора и удаляется. Больше он не смеет настаивать. Случалось, что помещик увольнял своего слугу Аслака, но тогда остальные его слуги грозили, что тоже уйдут. Это случалось два раза, и оба раза не приводило ни к чему.
А будь на его месте бывший владелец имения Сегельфосс, лейтенант! Молнией сверкнул бы воздух от хлыста, – вон! С годами господину Хольменгро часто приходилось вспоминать лейтенанта Хольмсена: слов у того было немного, два слова, четыре, а глаза словно печати. Когда он вжимал в руке ручку хлыста, суставы пальцев становились совсем белыми, но зато, когда он раскрывал руку и хотел кого-нибудь поощрить, минута эта долго жила в людской памяти. Служить у него было приятно, потому что он умел приказывать, он был начальник, барин. А носил ли он огромные золотые кольца в ушах, как важные шкипера с западного побережья? Курил ли длинную пеньковую трубку с серебряным мундштуком? Был ли так толст, чтобы на двух стульях помещать свое величие? И все-таки никому не отводилось такого просторного места, как ему, и никто не осмеливался говорить с ним свысока.
Господин Хольменгро и понынче удивляется. Он ли не пробовал сам всяческими способами приобрести власть над своими служащими? Разве он не додумался даже до того, что поступил в масоны и разгуливал, словно затаив какую-то сверхъестественную силу. Но люди не очень-то обращали на это внимание, никто его не боялся, таких дураков не было. Да никто в точности и не знал, действительно ли помещик был масон.
Он подходит к Ларсу Мануэльсену и говорит:
– Здравствуй, Ларс. Ты опять начал у меня работать? Ларс отвечает:
– Избави бог! Нет, это я только случайно.
– Где Оле Иоган?
– Задержался внизу. Я поработаю покамест вместо него.
– Я послал сегодня утром поденщика на подмогу, где он? – спрашивает господин Хольменгро.
– Поденщика? Не Конрада ли? – Нет, Ларс Мануэльсен не видал Конрада.
– Он столкуется у меня, получает харчи, нынче утром он должен был прийти сюда.
– Стало быть, сидит где-нибудь и ждет. Разыскать его?
– Да, разыщи.
Все идет неладно, и помещик хмурит брови. Поистине, у этого короля, владеющего поместьем Сегельфосс, много неприятностей. Несколько лет тому назад это был добродушный и свежий господин, теперь у него синие жилки на висках, заострившийся нос, морщины у глаз и седая борода. Все у него тонкое: руки и лицо, ноги – все превратилось в кожу да кости. Но разве он стал из-за этого ничтожен?
Тогда он не был бы тем, кем он был! Правда, в деятельности его уже нет прежнего широкого размаха, да, мельница его работает только днем, он держит меньше рабочих; но король Тобиас не рассыпался на кусочки, у него выносливости хватит. Когда он стоит на открытом месте и, задумавшись, озирает свою могучую реку, а за нею пристань и море, и дает волю своей голове похозяйничать, тогда выражение лица его сильно, и глаза полны отваги. Молодость отлегла от него, да, но старость еще не пришла – он человек пожилой, но поговаривают, будто в соседнем поселке у него еще родятся ребятишки.
Ларс Мануэльсен возвращается с поденщиком, и помещик спрашивает:
– Что ты делал сегодня?
– Да я только так, сидел, – отвечает Конрад.
– Он сидел и курил, – докладывает Ларс Мануэльсен.
– А что же мне было делать? – спрашивает Конрад.– Ведь Оле Иоган не пришел.
– Ты мог бы явиться ко мне и был бы приставлен к работе, когда я пришел, – важно говорит Ларс Мануэльсен.
Но Конрад фыркает:
– К тебе? Мне надо было явиться к тебе?
– Да, надо было, – подтверждает помещик.
– Нет, не надо, – говорит Конрад.– А если вы хотите вычесть с меня за этот прогул, так я за него ничего и не получу.
– И ты думаешь, что тогда все в порядке? – спрашивает помещик.– Да ведь работа, которую ты должен был сделать, стоит.
– Да, а что ж, если Оле Иоган не пришел? Я тут не при чем.
– А то, что ты два раза ел сегодня, это мне тоже с тебя вычесть?
Тоща поденщик отвечает:
– Ел? Что же мне – выходить на работу на тощий желудок? Нам, наемным рабам, становится все хуже и хуже, вы хотите вырвать у нас даже кусок изо рта.
Дело опять грозило жестокой перебранкой, если б помещик не смолчал. Он знал, чем это кончится: поденщик останется.
– Собственно, мне следовало бы сейчас же отправить тебя домой, – сказал помещик и пошел.
Конрад не полез за словом в карман.
– Вы так полагаете? А я вот так прост, что думаю – у нас в стране есть закон и право. И если я пойду в газету, так там тоже так думают.
Да, в газете, конечно, думают тоже так, – размышлял господин Хольменгро, – в почтенной «Сегельфосской газете», выходившей уже седьмой год и руководившей мнениями городка и округа! Помещика неоднократно поминали в газете, кое за что осуждали, усердно трепали его и за цены на муку, – в особенности пшеничная мука и ржаная мелкого размола стала очень дорога для бедноты. Но «Сегельфосская газета» была справедливая газета, редактор умел признавать заслуги, а его признание было не лишено значения. «Мы», – говорил он, – «по нашему мнению», – говорил он. Изредка он предупредительно кивал в сторону господина Хольменгро, одобряя его деятельность, а один раз написал:
«Считаясь с обстоятельствами, мы должны одобрить произведенную помещиком починку дороги к мельнице. Подъем теперь значительно мягче, и подводчики могут забирать на 100 кило больше груза. Дорога стала несколько длиннее против прежнего, но, как сказано, это окупается большей нагрузкой подвод. И потому, в качестве нашего личного мнения, мы должны сказать, что перекладка дороги была полезным для нашего местечка мероприятием, хотя не можем не заметить, что коням очень многих бедняков приходится взбираться на более крутые пригорки и нести более тяжелую работу, чем здесь. Нельзя также отрицать большой выгоды для работодателя от того, что теперь измученный рабочий может утром подъехать на велосипеде прямо к месту работы и, таким образом, приступить к своей ежедневной каторге с нерастраченными силами. Запомните это, рабочие!»
Наконец приковылял Оле Иоган. Он из хороших старых рабочих на мельнице, глуповат и бестолков, но надежен и силен, и умеет не жалеть себя, когда нужно. Вежливость его выражается в такой форме, что он еще издалека начинает кланяться и кричит:
– Здравствуйте! Я ужасно опоздал, но я послал за себя Ларса!
Господин Хольменгро только кивнул и удалился с мельницы.
– Что, он рассердился? – спросил Оле Иоган, смотря ему вслед.
– Попробовал бы! – отвечал Ларс Мануэльсен с ударением.
– Так ему и позволили! – ответил поденщик и выпятил грудь.
Тут вся история была пересказана, обсуждена и оценена. Поденщик не забыл повторить, что он ответил почтенному барину: – Право и закон в стране! – сказал.
– Да, я стоял вот тут и слышал, – подтвердил Ларс Мануэльсен, перешедший теперь на сторону Конрада. Ободренный этой поддержкой, Конрад заважничал еще больше:
– Ты ведь сам знаешь, Ларс, да и ты тоже, Оле Иоган, что я исполню свою работу и несу свое бремя. Но когда он поступает, как тиран или, скажем, как рабовладелец, то я не из таковских, чтоб молчать. Пусть он это попомнит! Потому что, – или я скажу ему, что думаю прямо в глаза, или он не услышит от меня ни звука.
– Да, – сказал Ларс Мануэльсен.– Что это я хотел сказать? Известно кому– нибудь, чего это ради Теодор из Буа подает сигналы?
Конрад обиделся, – он полагал, что сумеет поддержать интерес к себе еще на порядочное время. И он пошел прочь, прошел мимо Бертеля из Сагвика, мимо велосипедов, которые мимоходом осмотрел, и остановился у группы, затягивавшей мешки.