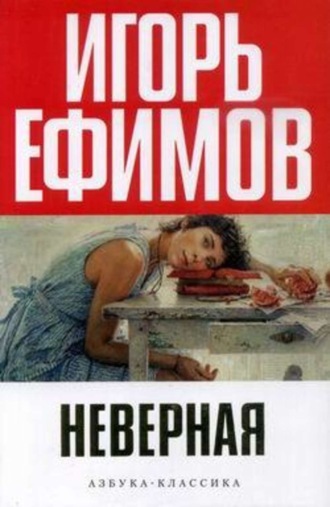 полная версия
полная версияНеверная
Вы были рады, что Вам не пришлось жить в поместье, доставшемся Панаеву в наследство, видеть страдания крепостных. Сцена дележа имений между наследниками воссоздана Вами душераздирающе. Я имею в виду то место, где описан раздел дворовых.
«Разделенные части должны были доставаться наследникам по жребию. При вынимании билетов на имение было ужасно смотреть на наследников: все стояли бледные, дрожащие, шептали молитвы, глаза их сверкали, следя за рукой дворового мальчика, который, обливаясь горькими слезами от испуга, вынимал билеты…
Но самое потрясающее впечатление произвел на меня раздел дворовых.
Посредник сначала хотел разделить дворовых по семействам; но все наследники восстали против этого.
– Помилуйте, – кричал один, – мне достанутся старики да малые дети!
Другой возражал:
– Благодарю покорно, у Маланьи пять дочерей и ни одного сына, нет-с, это неправильно, вдруг мне выпадет жребий на Маланью.
Порешили разделить по ровной части сперва молодых дворовых мужского пола, затем взрослых девушек и, наконец, стариков и детей.
Когда настало время вынимать жребий, то вся дворня окружила барский дом, и огромная передняя переполнилась стенаниями».
О Вас в воспоминаниях Панаева, кажется, единственное место: «Моя жена очень дружила с женой Грановского». У Вас про него – гораздо больше и с настоящей теплотой. Особенно тот разговор, который произошел у Вас с ним незадолго до его смерти. Он звал Вас пожить с ним в деревне, обещал, «что ты не увидишь во мне прежних моих слабостей, за которые я так жестоко поплатился. Я сам себе был злейшим врагом и сам испортил свою жизнь… Только тогда, когда мне пришлось пережить страшную нравственную пытку, я понял, кто бескорыстно желал сделать мне хорошее и кто вред».
Значит, была «нравственная пытка»? Значит, нелегко давался ему ваш семейный треугольник? Не в наказание ли себе он смирился с ним, не принял ли как возмездие за свои романы и вертопрахство? А ядовитый Писемский при этом печатает в своей «Библиотеке для чтения»: «Интересно знать, не опишет ли г. Панаев тот краеугольный камень, на котором основалась его замечательная в высшей степени дружба с г. Некрасовым?»
И несмотря на все это, Панаев изыскивал деньги на издание «Современника», поддерживал его всеми силами, замещал Некрасова на посту редактора, когда тот разъезжал с Вами по заграницам. Правда, о Некрасове в его воспоминаниях тоже очень мало. Может быть, злых слов писать не хотел, а других – не находил?
Знаете ли Вы, что о Вашей красоте ходили легенды? Вы могли видеть только тех, кто ухаживал за Вами в открытую. Но за Вашей спиной Вас восхваляли такие ценители, как граф Соллогуб, Афанасий Фет, Павел Ковалевский, Александр Дюма, Николай Чернышевский. Молодой Достоевский писал брату, что влюблен в Вас. Судя по всему, и Белинский не остался равнодушным к Вашим чарам, и Герцен, и многие, многие другие.
Влюбленный Некрасов посвятил Вам десятки стихов.
Прошедшее! Его волшебной властиПокорствуя, переживаю вновьИ первое движенье страсти,Так бурно взволновавшей кровь,И долгую борьбу с самим собою,И не убитую борьбою,Но с каждым днем сильней кипевшую любовь.Как долго ты была сурова,Как ты хотела верить мне,И как и верила, и колебалась снова,И как поверила вполне!(Счастливый день! Его я отличаюВ семье обыкновенных дней;С него я жизнь мою считаю,Я праздную его в душе моей!)Но судьба безжалостна к вам обоим: в тот же 1848 год, который должен был быть таким счастливым, умирает ваш первый – и единственный – ребенок.
Поражена потерей невозвратной,Душа моя уныла и слаба:Ни гордости, ни веры благодатной —Постыдное бессилие раба!Ей все равно – холодный сумрак гроба,Позор ли, слава, ненависть, любовь, —Погасла и спасительная злоба,Что долго так разогревала кровь.Я жду… но ночь не близится к рассвету,И мертвый мрак кругом… и та,Которая воззвать могла бы к свету —Как будто смерть сковала ей уста!Лицо без мысли, полное смятенья,Сухие, напряженные глаза —И, кажется, зарею обновленьяВ них никогда не заблестит слеза.Да, похоже, слезы Вам давались нелегко. А чего стоит этот отчаянный оксюморон: «спасительная злоба, что долго так разогревала кровь»! Не боялся признаваться – смело, смело.
Но какой же страшный это был для вас обоих год! Не только смерть ребенка, но и все остальное. Арестован и приговорен к расстрелу Достоевский. Из-за французской революции цензура свирепствует так, что хоть выпускай «Современник» с пустыми страницами. Друзья мечутся в панике. Боткин требует вернуть ему все письма, чтобы немедленно сжечь их. Мало ли в чем ошалевшая полиция найдет крамолу!
Мне кажется, что очень скоро Некрасов попытался поменять ваши роли, начал поучать, вести куда-то, к дорогим ему видениям светлого будущего, просвещать ум и сердце. И сердился, когда Вы не поддавались.
Я не люблю иронии твоей.Оставь ее отжившим и не жившим,А нам с тобой, так горячо любившим,Еще остаток чувства сохранившим, —Нам рано предаваться ей!Но ирония была одним из пряных цветков в букете Вашего очарования! Как пронизаны ею Ваши пикировки с Герценом, с Дюма, как безжалостно остроумны описания Тургенева, Достоевского, Решетникова. И порой Некрасов поддавался, даже заражался ею.
Разве не забавно описал он крушение своих просветительских усилий?
Я читал ей Гегеля, Жан-Поля,Демосфена, Галича, Руссо,Глинку, Ричардсона, Декандоля,Волтера, Шекспира, Шамиссо,Байрона, Мильтона, Соутэя,Шеллинга, Клопштока, Дидеро…В ком жила великая идея,Кто любил науку и добро;Всех она, казалось, понимала,Слушала без скуки и тоскиИ сама уж на ночь начиналаТацита читать, надев очки.И к чему же все пришло?! Увы…
Тут предстала страшная картина…Разом столько горя и тоски!Растерзав на клочья Ламартина,На бумагу клала пирожкиИ сажала в печь моя невеста!!Я смотреть без ужаса не мог,Как она рукой месила тесто,Как потом отведала пирог.Я не верил зрению и слуху,Думал я, не перестать ли жить?А у ней еще достало духуМне пирог проклятый предложить.Вот они – великие идеи!Вот они – развития плоды!Где же вы, поэзии затеи?Что из вас, усилья и труды?Я рыдал…Да, пирожки… Многим Вы запомнились хлопочущей у печи, накрывающей на стол, разливающей чай, отправляющей слуг за провизией. То заработавшийся Белинский шлет Вам в полночь записку, умоляя покормить; то Тургенев просит присылать ему обеды в тюрьму, потому что тюремного есть не может; то Панаев бежит к Вам в панике: «Дюма нагрянул на дачу с целой свитой – чем кормить?!» Да и Некрасов, наверное, не раз подкреплялся пирожками, не спрашивая, в чьи страницы они были завернуты.
Но кажется, что за иронией он прячет одно горькое разочарование: возлюбленная равнодушна к его стихам. И похоже – вообще к поэзии. В Ваших воспоминаниях не процитирована ни одна стихотворная строчка, не описано ни одно сильное переживание, связанное с кумирами ваших дней – Пушкиным, Лермонтовым, Жуковским.
Зато Вы так чувствительны к красоте душевных движений. А если видите что-то уродливо-постыдное, умеете поддеть это на копье иронии. Ваш сарказм – бедный Тургенев! – убийствен, Ваши упреки больно попадают в цель. И уж он отплатил Вам, в письмах и разговорах не щадил. Из его письма к Марии Николаевне Толстой (1857):
«Я Некрасова проводил до Берлина; он уже должен быть теперь в Петербурге. Он уехал с госпожею Панаевой, к которой он до сих пор привязан – и которая мучит его самым отличным манером. Это грубое, неумное, злое, капризное, лишенное всякой женственности, но не без дюжего кокетства существо… владеет им как своим крепостным человеком. И хоть бы он был ослеплен на ее счет! А то – нет… Тут никто ничего не разберет, а кто попался – отдувайся, да еще чего доброго, не кряхти».
И Некрасов «отдувается», оправдывается, прячется от Ваших обвинений за смертельно опасную болезнь, «кряхтит» стихами:
Тяжелый год – сломил меня недуг,Беда застигла, – счастье изменило, —И не щадит меня ни враг, ни друг,И даже ты не пощадила!Истерзана, озлоблена борьбойС своими кровными врагами,Страдалица! стоишь ты предо мнойПрекрасным призраком с безумными глазами!Упали волосы до плеч,Уста горят, румянцем рдеют щеки,И необузданная речьСливается в ужасные упреки,Жестокие, неправые… Постой!Не я обрек твои младые годыНа жизнь без счастья и свободы,Я друг, я не губитель твой!Но ты не слушаешь…«Не щадит меня ни враг, ни друг…» – о чем это? «Озлоблена борьбой с своими кровными врагами» – о ком здесь идет речь? Не о той ли истории с «огарёвскими деньгами», которая мучила вас обоих многие годы, растекалась злой молвой, чернящими слухами?
Я честно пыталась разобраться, кто там был прав, кто виноват. Рылась в архивах, перечитывала пожелтевшие письма, расписки, векселя, закладные. Картина постепенно проступала, но все контуры и силуэты оставались размытыми. Поняла, что Вы дружили с первой женой Огарёва, Марьей Львовной. И когда она разошлась с мужем, вы пытались помочь ей обеспечить финансовую сторону развода. Уехав за границу в 1847 году, та оставила Вам доверенность на ведение ее дел. С этого все и началось – не так ли?
Марья Львовна очень ценила Вашу поддержку. Вам было бы интересно узнать, как в одном письме к родным она попыталась сравнить Ваш душевный склад со своим:
«Евдокия – практический характер, противоположный моему, но приносящий мне благодетельное действие… я с ним твердею… Он благоразумен, храбр, последователен… Таковым представляется он мне – слабой, чувствительной… Мы любим в человеке противоположный нам нрав, потому что устаем от зеркала, повторяющего нашу слабость… В ней твердость есть произведение ее натуры, здоровой, цветущей, оконченной… Не люблю я слабости, а сама не родилась для твердой воли и обдуманных действий».
Люди безвольные часто выставляют свою слабость в утрированном виде, чтобы получить побольше помощи от окружающих. Мне кажется, Вы слишком увлеклись своей ролью помощницы и спасительницы и не в силах были отказаться от нее, даже когда Вам стало ясно, что Марья Львовна вполне способна с диким упрямством преследовать свои корыстные цели. Как Вы уговаривали ее дать, наконец, развод несчастному Огарёву! Но она уперлась как пень. Ее вполне устраивало, чтобы он исправно выплачивал ей восемнадцать тысяч в год, а она бы на эти деньги жила в Париже со своим любовником – художником Воробьевым. Многие друзья, включая Герцена, взывали к ней, пытались объяснить, что выплаты будут продолжаться в соответствии с подписанными Огарёвым обязательствами. Взбалмошная женщина оставалась непреклонной, до тех пор пока не вмешался арбитр, с которым не поспоришь,– смерть. В 1853 году Марья Львовна умирает, и вся драма вокруг денег вступает во вторую фазу – еще более запутанную.
Правда ли, что Вы так полностью доверились ловкому финансисту Шаншиеву, что поручили ему распоряжаться капиталом и имением, с которого выплачивалось содержание покойной? Как я поняла, этот изворотливый делец успел заложить имение, а деньги пустить в оборот. Извлечь их так быстро для возврата Огарёву было невозможно. Отсюда и поползла молва, будто Вы с Некрасовым присвоили деньги. Даже тот факт, что при первой возможности, в 1857 году, Вы – без всякого суда – вернули Огарёву сорок тысяч рублей, ничего изменить не мог. Злая сплетня не остывала. Герцен до конца жизни поносил Некрасова последними словами, считал его виноватым и отказался принять его в Лондоне и выслушать его оправдания. (Не про это ли строчка – «не щадит меня ни враг, ни друг»?)
В общем, у меня сложилось впечатление, что обвинить Вас можно было только в преувеличенном представлении о собственных деловых способностях и о честности российских дельцов. Ловкий Шаншиев легко манипулировал Вами, представляя свои ходы законными и безопасными. Вы нарушили собственный совет-увещание, данный в свое время в письме Марье Львовне: «Теперь скажи мне, серьезно ли ты хочешь купить землю в Риме для дохода? Если это так, то я удивляюсь тебе, как можно быть такой дитей в твои лета. Где нам справляться с собственностью, когда мы и с собой не умеем сладить».
Еще одно Ваше пленительное свойство приоткрылось мне: Вы всегда умели (чуть не добавила «как и я») самозабвенно радоваться своим возлюбленным, как будто видели их в первый раз. Они могли куролесить на стороне, обижать Вас, надолго исчезать без предупреждения. Но появятся вновь – и Вы летите им навстречу, радостная улыбка на лице. Никаких попыток предъявить счета обид, никаких поползновений превратить их чувство вины в удобную цепочку, хомут, вожжи.
«Я и не думал и не ожидал, – писал Некрасов в интимном письме, – чтобы кто-нибудь мог мне так радоваться, как обрадовал я эту женщину своим появлением. Она теперь поет и попрыгивает, как птица». И в другом: «Я очень обрадовал Авдотью Яковлевну, которая, кажется, догадывалась, что я хотел от нее удрать… Но что мне делать из себя, куда, кому я нужен? Хорошо и то, что хоть для нее нужен».
Иногда мне приходило в голову: а не пытался ли Некрасов своими эскападами пробудить в Вас ревность? Не был ли он в плену их старинной формулы: «не ревнует – значит, не любит»? Ведь, кроме Вас, никаких серьезных и длительных увлечений в его жизни не было.
Но снова и снова: при такой способности радоваться – почему Вам приходилось так много отмалчиваться? Многие отмечали Вашу замкнутость, неучастие в шумной литературной беседе.
«Я заметил, что вы ни с кем не разговаривали весь обед», – замечает Добролюбов при вашей первой встрече.
«Я так давно знаю всех обедавших, что мне не о чем с ними разговаривать», – отвечаете Вы.
Не знаю, поверил ли Добролюбов, но я не верю. Мы знаем, что старинные друзья могут болтать часами и даже прощать друг другу повторение историй, шуток, анекдотов. Мы умолкаем обычно тогда, когда теряем надежду быть услышанными. Когда наш восторг объявят неразборчивостью. Высказанное неодобрение назовут злословием. Когда в ответ на вырвавшуюся шутку мы слышим «я не люблю иронии твоей».
Правда, бывает еще одна причина нашей молчаливости. Мы устаем от грехов и слабостей наших возлюбленных, но мы так же устаем от их достоинств. Достоинства давят, заставляют сравнивать возлюбленного с собой, выпячивают наши слабости, несовершенство. О, пусть бы кто-нибудь вслух сказал, что это нам нормально – уставать друг от друга! Пусть бы перестали взваливать на нас эту непосильную ношу – требование вечной и неизменной и неослабной любви! Обделенные, безлюбые, завидующие – это они отыскали способ унижать и разрушать невыполнимыми требованиями доставшийся нам дар любви невечной. Но если они победили – не значит ли это, что их больше, чем нас?
Еще одна обида должна была точить Вам сердце. Ваш литературный дар был отодвинут окружающими «Современник» литераторами на задний план, словно мебель, отслужившая свой срок, словно кадка с запылившейся пальмой. А ведь Вы написали несколько романов совместно с Некрасовым, Ваше «Семейство Тальниковых» хвалил сам Белинский.
И было за что!
Какие типажи проходят в этой повести, какие гоголевские персонажи! Не забуду рыжую гувернантку, мечтавшую о женихе, заставлявшую Вас затягивать ей корсет так, что лицо раздувалось от прилива крови. А этот дядюшка, облюбовавший только две темы для разговора: как знатно он порол сегодня несчастного племянника, порученного его просветительным заботам, и какой виноград он едал однажды в Курске. А дед, читавший только календарь с гороскопами и изводивший всех почерпнутой оттуда премудростью на каждый месяц: «в сентябре тебе будет счастье во всем, октябрь для тебя не хорош, в феврале можешь делать покупки, продажи…»
Если бы эта повесть была напечатана сразу по написании в 1847 году, она оказалась бы хронологически первой в ряду знаменитых русских повестей о детстве: Льва Толстого, Сергея Аксакова, Гарина-Михайловского, Горького. Считается, что ей просто не повезло: грянула февральская революция в Париже, и российская цензура взбесилась, готова была запрещать биржевые новости. Но я не верю. В повести есть такая прямота и ясность взгляда на жизнь и людей, что охранитель и лицемер должен был вознегодовать на нее в любую эпоху. То, что цензор Бутурлин писал на полях рукописи – «цинично, безнравственно, неправдоподобно, не позволю за безнравственность и подрыв родительской власти», – будет клокотать в сердцах родителей-тиранов при всяком правлении – до, во время и после любых революций.
И теперь – о Добролюбове. Мне так интересно! Ведь к моменту встречи с ним Вы, судя по всему, разочаровались в прекраснодушных болтунах и краснобаях. Тургенев, Толстой, Достоевский порвали с «Современником», оставшиеся сменяли друг друга и мельчали с каждым днем. Серьезность Добролюбова должна была Вас пленить так же, как размашистая непредсказуемость Базарова пленила Одинцову в тургеневском романе. Слишком много в Ваших воспоминаниях рассыпано примет, по которым видно, что вас связывало нечто большее, чем дружба.
Вот он поселяется в вашей квартире на Литейном проспекте. (Теперь вас уже четверо?) Привозит своих младших братьев, в которых Вы принимаете такое горячее участие. Заботливо кормите его, защищаете от нападок. А это его письмо к Вам за границу, с просьбой-мольбой приехать как можно скорее. И Вы немедленно все бросаете и летите на его зов. И потом долго ухаживаете за умирающим. А когда выходит посмертно первый том его собрания сочинений, Вы с изумлением обнаруживаете в нем посвящение: «Авдотье Яковлевне Панаевой». И хотя в тексте автор посвящения – Чернышевский – пользуется только словами «дружба», «сестра», мне так хотелось бы верить, что Вашему дару любить и здесь дано было вспыхнуть и отгореть ярким светом.
Сколько же дорогих людей довелось Вам оплакать? Белинский, собственный сын, Добролюбов, Панаев, Некрасов… И как я была счастлива за Вас, когда узнала, что уже на закате женской судьбы, в последнем супружестве, Вам дано было родить дочку, которая выросла здоровой и украшала и освещала последние годы Вашей жизни.
Сподобились Вы и другой милости небес: Ваш литературный дар не ослаб, не оставил Вас и дал сил на семидесятом году – пусть в бедности, пусть ради заработка – создать произведение, которое навсегда включено теперь в скрижали русской литературы.
Прощайте, милая А. Я. (только сейчас заметила, что Ваши инициалы символично открывают и закрывают русский алфавит), и примите мою благодарность за то, что не скрыли свой путь, судьбу, сердце и дали мне пережить это счастливейшее чувство: Я НЕ ОДНА ТАКАЯ!
2. ПАВЕЛ ПАХОМОВИЧ
Вчера повезла за город Пал Пахомыча, устроила ему пикник на берегу озера. Он по-прежнему любит все, что ему нельзя после операции: сардины в масле, копченую колбасу, темное пиво. Я потакаю, езжу за деликатесами для него к черту на рога. Нога, из которой брали вену для устройства обводного туннеля вокруг сердца, заживает плохо. Больно было смотреть, как он бредет от машины к столику, отталкивая асфальт суковатой палкой. Но, усевшись на скамейку и отдышавшись, он просиял, благодарно погладил меня по плечу. Потом обвел ладонью далекий сосняк, кувшинки на воде, первые желтые листочки на кустах и сказал:
– Как Он это все умеет… Сколько раз ни гляди – все равно дух захватывает… Никогда не скучно…
Мы не виделись больше месяца. Мне не терпелось рассказать ему о последней выходке Глеба. Который заявил, что, если я не уйду от мужа, он явится к нему сам и все расскажет. Что мне делать? Я Додика ни за что не брошу и все сделаю, чтобы его оградить-защитить. Он и так со мной за двадцать пять лет всякого натерпелся. Он добрый и лучше всех. Но и Глеба просто прогнать – нету сил. Как услышу его голос в телефоне – сквозняк поднимается в горле такой, что слова выговорить не могу. Что делать?
– Ты говорила, он сам женат, трое детей.
– Обещает, что сразу уйдет. Одно мое слово – и подает на развод.
– На сколько он тебя моложе?
– На двенадцать лет! Слыханное ли дело? «Зачем тебе такая старуха?» – говорю ему. И слышу в ответ: «Не кокетничай. Прекрасно знаешь – зачем. Чтобы выжить. Да-да: физически остаться в живых». Прямо шантаж какой-то.
Пал Пахомыч – мой единственный наперсник. Только с ним могу высунуться из своего вечного маскировочного окопа. «Вы моя лучшая, моя любимая подруга», – говорю ему, когда расчувствуюсь. Он живет один. Жена отказалась ехать с ним в Америку, осталась с детьми в Ленинграде. Он работал в документальном кино, много лет тайно собирал кадры для фильма об отравлении русских рек и озер. Хотел открыть миру глаза. Все бросил, уехал, вывез свой фильм. Но оказалось, что здесь и своих отравленных вод хватает, чужими не удивишь, не взволнуешь.
Дальше – обычная эмигрантская судьба. Случайные заработки там и здесь, съемка свадеб, рекламные ролики про русские рестораны и лавки. Газеты не платят, телестудии закрываются. Непризнание, одиночество, старость, болезни. У себя в университете я устроила ему несколько выступлений, показ фильма. Но с тех пор как Россия перестала быть грозной тайной для всего мира, интерес к ней падает, как проколотый дирижабль. У меня и самой студентов едва набралось на два курса, работаю только три дня в неделю. Додик со своей математикой – главный кормилец. Но и ему могут помахать ручкой в любой момент. Продлят или не продлят контракт – ежегодный страх и трясение поджилок.
– Кому пишешь? – спрашивает Пал Пахомыч, вытирая пивную пену с усов, подцепляя на вилку лепесток ветчины.
– Только готовлюсь. Очень хочется написать Льву Николаевичу. Но он такой большой – девяносто томов росту. Нужен долгий разгон.
– Что ж ты ему напишешь? Он ведь, кажется, после женитьбы перестал шалить. За юбками не гонялся, седьмую заповедь соблюдал.
– Соблюдал – да только стиснув зубы. Уж лучше бы куролесил по-прежнему. Проповедовал любовь ко всем, а сам не в силах был полюбить хотя бы собственную жену. Которая нарожала ему кучу детей.
Пал Пахомыч – один из немногих, кому я давала читать свои письма к умершим писателям. Он потом говорил мне, что после этих писем шел в библиотеку, находил книги моих адресатов и читал их будто заново. Лестно. Сам Пал Пахомыч пишет только крохотные виньетки в несколько строчек. Иногда в одну. Иногда в два слова. Например: «Общечеловеческое – бесчеловечно». Пишет для себя. «Нет, – говорю я ему, – и для меня тоже. Ну-ка давайте, что там у вас накопилось за два месяца. Знаю-знаю: ни в журналы, ни в газеты не давать, если цитировать, то не называя автора. Просто: как сказал один непризнанный мудрец…»
Пал Пахомыч ужасно щепетилен. Не дай бог, подумают, что он рисуется. Гордец. Ненавидит быть просителем, ненавидит быть в толпе. Из-за этого никогда не пошлет свои виньетки в редакции, не напишет ничего большого, законченного. Фильм про отравление вод и земель – там было оправдание, была серьезная спасательная задача. А без такой сверхзадачи вылезать на публику – стыдно. Талант в клетке морали, парализованный вдобавок тонким вкусом. «Садился он за клавикорды и брал на них одни аккорды…»
– Ларошфуко, Паскаль, Лихтенберг, Шопенгауэр, Ницше печатали свои афоризмы, – уговариваю я. – Почему вам нельзя?
– Эка хватила. В России все скромнее. Называется «Записные книжки». Чехова, Ильфа, Олеши. Печатается посмертно.
– Ладно, будем ждать. Нам не к спеху.
Такой вот трупный юмор.
После пикника я везу его домой. Мы поднимаемся на лифте в его крохотную захламленную квартирку. Книжные стеллажи – под потолок. Одна стена отдана целиком видеолентам. Старинная пишущая машинка с трудом отбивает место на столике от журналов, конвертов, газет, фотографий.
Я веду его в спальню, помогаю раздеться. Вообще, все делаю сама. Он мешает мне, поминутно хватая мою руку и прижимая ее к губам. Я почтительно провожу пальцем по шраму на его груди, по скатам живота, по отросшим титькам, глажу по щеке. Мой паровоз привычно набирает скорость, но где-то на заднем плане, на горизонте. С Пал Пахомычем мне так нравится забывать о себе, не получать, а дарить. Нет, мимоходом я успеваю урвать свою волну тоже, но главное – доставить к месту назначения его драгоценный груз. И когда он испускает свой крик раненой птицы, я испытываю толчок такого блаженства, торжества, гордости – прямо как дирижер на последнем взмахе палочки, в финале концерта.
Он лежит обессиленный, слабо гладит меня по бедрам и бормочет:
– Праздник ты мой… Праздник мой золотой… За что ты мне?..
Но я вскакиваю и превращаюсь обратно в Золушку на кухне. Окна – протереть, посуду в раковине – перемыть, грязное белье – забрать в стирку, холодильник – перебрать, расчистить, выбросить гнилье, заполнить новыми продуктами.
– Смотри, мы забыли открыть лососину! Не дай ей пропасть. Срок годности – через две недели.
И напоследок подкрадываюсь к пишущей машинке, вынимаю из нее листок, покрытый бледными строчками.
– Можно? Я сниму себе копию и верну. Ты же меня знаешь…
Он кивает, улыбается, слабо машет мне рукой.
ЛИСТОК ИЗ МАШИНКИ П. П.
Он жил в мире ирреальных представлений. И знал это. Единственной реальностью в этом мире была его душевная боль. Именно поэтому он цеплялся за нее и раздувал до предела. Чтобы оставаться на почве реальности.

