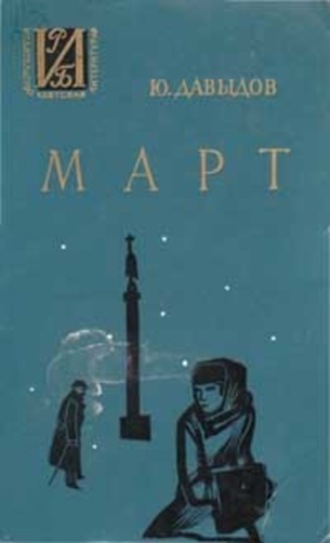 полная версия
полная версияМарт
Он поднял голову, огляделся. Степана не было. Сколько не видались? Полгода, пожалуй, с лета, с июня.
В июне Жорж ездил в Воронеж. Хорошо было очутиться в городе детства. Не детства – отрочества. Мальчиком привез его туда отец, бывший штабс-капитан, и определил в военную гимназию. Подставил для поцелуя колючую щеку, сказал насмешливо: «Смотри мне, не глодай, как дома, книжки, а то мозги высушишь». Тринадцать лет минуло… И вот совсем недавно опять увидел Воронеж. Оттуда рукой подать до деревни Гудаловки, до речки Семеновки. А в Гудаловке – дом, сестры. И мама. Милая мама всегда хорошо понимала своего Жоржа. А он гордился, да и мама тоже, он гордился ее близким родством с Белинским… Гудаловка была рядом. Но и думать не приходилось о свидании. Думать пришлось о другом. Совсем о другом. В те июньские дни – обыватели, как и встарь, бегали в цирк, а на пыльном Кадетском плацу духовой оркестр гремел попурри из опереток Оффенбаха, – в те дни все, в сущности, и определилось. Старые товарищи по «Земле и воле» съехались решать вопрос о политическом терроре. Михайлов с друзьями взял верх. И все-таки в те июньские дни не верилось, не верилось сердцем, что вот и конец «Земле и воле». А теперь… теперь это уж дело прошлое: есть «Народная воля» и есть «Черный передел», малочисленная, увы, группа.
– Здравствуй, Георгий!
– А! Ну наконец! Здравствуй, Степан. Садись.
Он любил Халтурина. Всей своей сутью отличался Степан от иванов-терпельников, которые так умиляли иных интеллигентов. Насмотрелся-таки Жорж на мужиков-каратаевых. Насмотрелся! Еще когда с Михайловым «ходил в народ». Ему претило их смирение… Некрасов писал: «вынесет все, что господь ни пошлет…» А иные интеллигенты, черт их дери, умилялись: вот, мол, это самое «вынесет все» и позволяет меньшому брату, русскому мужичку, выстоять под любым игом, начиная с монгольского. Черт бы побрал тех, кто, хоть и с последней искренностью, славит терпельников, на которых, дескать, Русь стоит, которыми, мол, Русь жива. Да и не славят они, вопреки самим себе, не славят они простолюдина – унижают в нем человека. Ибо чем, господа, отличается человек от животного? Способностью мыслить и потребностью бунта. Вот он – Степан Халтурин, столяр-краснодеревец, – этот не из терпельников, хоть и ошибается, полагая главной силой фабричных и заводских. Ошибается, но уж зато прирожденный мятежник, недаром мастеровые души в нем не чают. И уж если Степана залучить в «Черный передел»…
Желтыми пальцами постукивал Халтурин по граненому стакану с пивом, постукивал, слушал Георгия, изредка посматривая на него чуть исподлобья. А у Плеханова переламывалась черная татарская бровь, вызывающе вздергивалась эспаньолка. Плеханов был бледен, и горячо, быстро говорил он о несогласии с террористами и о том, что только ослы могут строить расчеты на кончике кинжала, на жестянке с динамитом.
– А я с ними, Георгий, – вдруг сказал Халтурин и усмехнулся. – С ослами.
Плеханов как споткнулся:
– Ты?
Халтурин улыбался своей странной улыбкой, вместе застенчивой и решительной. То, что он ответил, Жорж уже слышал не однажды: дезорганизация правительства, конституция, а там развернемся вовсю, дальше пойдем…
– Ну опять! Опять! – морщился Жорж, проводя ладонью по темным, коротко остриженным волосам.
– А как же? Они правы: иного покамест нет. Вот гляди – было дело в Москве. Да? А здесь какую песню затянул наш брат? Сразу головы-то подняли: погоди, говорят, такую штурму сделаем.
– Ни черта лысого! – вскипел Плеханов. – Одного Александра… – Он рубанул рукой воздух. – Другой – тут! Глупейшая надежда! – И потряс пальцем. – Не хочу быть пророком – кровью изойдете! Помяни мое слово, Степан!
– Кровью? «Дело прочно, когда под ним струится кровь…» – Он помолчал. Потом мрачно добавил: – Страшно, брат, а начинать надо. – И еще помолчал. – Нет, Георгий, я с ними. Ты пойми…
Шумел, гремел трактир «Китай». За Тимохиным столом гармонист, уронив голову, садил:
Я во Питере живал,Много денег наживал,Платки девкам покупал!Мороз усилился, луну опоясал радужным кольцом, сеялись звезды над Шлиссельбургским трактом. Плеханов шел, сунув сжатые кулаки в карманы пальто, подаваясь вперед, будто падая.
Если и Степан с динамитчиками… Если уж и рабочие… Что ж остается? Молодежь, студенты? Они зачарованы московским подкопом, известиями Исполнительного комитета. Стремнина террора увлекает пловцов. Не остановишь, не удержишь. Ей отдаются с безумным самоотречением. Не остановишь.
Он почувствовал себя беспомощным, почти жалким. И вспомнил пушкинское: «Громада двинулась и рассекает волны. Плывет… Куда ж нам плыть?»
* * *Снег валил, не кружась, в безветрии, городу будто заложило уши, все приглушилось: звон конок, стукотня экипажей, крики газетчиков, старьевщиков и лудильщиков, солдатский шаг, бой часов, фабричные свистки.
А в узком Графском переулке, неподалеку от Невского, от Аничкова моста, совсем было тихо, и зимняя сумеречная тишь стояла в доме, где Жорж с женою снимали чистенькую комнатку.
Роза, пышноволосая, синеглазая, зубрила «Руководство к общей патологии». Плеханов писал. Работалось легко, четвертушки бумаги ложились стопочкой. Только за столом, за работой, еще можно было отрешиться от смутного, почти отчаянного душевного состояния.
Недавно стало известно, что полиция готовит поголовную проверку паспортов, повальные обыски. Совет «Черного передела» решил отправить за границу Жоржа и еще двух-трех товарищей. Жорж не спорил: «Ищут бомбистов, а мы как во чужом пиру…»
И все же медлил. Он бывал за границей – три года назад после речи на демонстрации у Казанского собора – и помнил вкус чужбины. Разлука с родиной страшила, хотя он понимал, что там, за кордоном, переведет дух и сумеет окинуть взглядом всю картину, как живописец, отступивший на несколько шагов от огромного холста. И все же медлил.
Жорж бросил перо, похрустел пальцами. Роза, улыбаясь, подняла глаза. Он тронул ее мягкие волосы: «Умница ты моя». Еще несколько дней… Что будет? Как будет? Граница, жандармы, подложный паспорт… Да-да, на лето глядя, она тоже уедет.
– Я всегда с тобою, – тихо сказала Роза.
– Умница ты моя, – повторил он. II коснулся ее шеи. – Ничего! Мы недолго там. Правда?
А Розе казалось, что «там» они будут долго, слишком долго, но она кивнула:
– До следующей зимы.
Жорж повеселел, собрался в библиотеку. Роза придержала его, обняла, и они рассмеялись почти счастливо.
Каждый раз, направляясь в библиотеку, Жорж предвкушал особое удовольствие: читальная зала, полная завсегдатаев в «демократических» красных рубашках, диспуты в курительной, когда пенсне студентов сверкают, как лезвия, и это студенческое обращение: «Послушайте, камрад». В библиотеке наступает душевное равновесие, а потом выходишь на улицу, сознавая, что не зряшно провел время, и дышишь снежистым воздухом, и щуришься, и думаешь, что жить-то на свете куда как интересно.
Перекресток Садовой и Невского был бойким местом, где всегда околачивалась филерская братия, и Жорж осторожности ради не пошел прямиком по Невскому, а дал крюку, свернув к Александрийскому театру.
Он уже подходил к подъезду Публичной библиотеки, когда затылком почувствовал чей-то пристальный взгляд. Ощущение было совершенно явственным. Он, однако, не прибавил шагу, не оглянулся. Миновал библиотечный подъезд. На круглой афишной тумбе увидел свежие, в сырых пятнах афиши: «Бенефис г-на Ренара… Водевиль «Коко».
У афиши он стал закуривать. Вот теперь оглянись, будто пряча спичку от ветра. И он оглянулся. Так и есть: невзрачный субъект в котелке поспешно отвел глаза. Но и мгновения было довольно, чтобы увидеть эти глаза: остренькие, внимательные, деланно равнодушные.
«Оркестр русской оперы… – машинально читал Жорж афишу, соображая, что ж ему предпринять, – исполнит отрывок из оперы Кюнера «Тарас Бульба»…
«Исполним отрывок», – подумал Жорж, косясь в сторону Аничкова моста: оттуда погромыхивала конка.
Он пересек Невский, наверняка зная, что котелок увязался следом. «Исполним отрывок… На конку мы плюем…» Жорж старательно не смотрел на вагон. Но в ту минуту, когда кондуктор закричал: «Отправляемся» – и позвонил кучеру, Жорж, хлопнув себя по лбу, с видом простофили, вдруг что-то вспомнившего, прыгнул на подножку.
Вагон катился по Невскому. Жорж уставился в плакатик: «Остерегайтесь карманных воров!» Но вот он опять почувствовал эти остренькие глазенки. Они ползали, как клопы, хотелось шевелить лопатками.
Длинный приземистый Гостиный двор. Сурово распахнутые крылья Казанского собора. Вагон потряхивало. «Отправляемся!» – кричал кондуктор. «Остерегайтесь карманных воров!» – умолял плакатик.
Не доезжая Большой Морской, Жорж соскочил на ходу. Сутулясь, пошел по панели, стараясь затереться в толпе. Не тут-то было: субъект поспешал следом. «А, чтоб тебя…» – выругался Жорж и увидел, как из кондитерской, что была рядом с перчаточным магазином Бойе, вышел Михайлов.
Он поравнялся с Михайловым, шепнул:
– «Хвост».
– Иди. Догоню.
Михайлов давно изучил «воинство» Кириллова: нанял прошлым летом комнату на Литейном, как раз напротив дома начальника агентурной части, и часами разглядывал утренних посетителей Григория Григорьевича. Классифицировал шпиков, как зоолог насекомых. И наделял кличками, чтобы было легче распознавать «милые, но падшие созданья».
Нынешний, увязавшийся за Плехановым, тоже числился в «системе филерской породы», как шутливо говаривал Михайлов, числился под кличкой «Птичий нос».
«Эге, – думал Михайлов, догоняя Жоржа и уже сообразив, каким манером отцепить «хвост», – эге, Птичий нос, да ты, вишь, Невского удостоился, а раньше-то, бывало, все за Нарвской пошныривал…»
Он догнал Жоржа, указал ему ближайший проходной двор, а сам заглянул в аптеку Миллера.
Жорж сиганул в ворота, потом – в какой-то подъезд. Не переводя духа, взлетел во второй этаж. Из окна лестничной площадки увидел «своего»: филер кружил по двору, точно его рюхой подшибли. Котелок сбился, жеваное личико приняло обиженное выражение. Постоял. Плюнул. И побрел лениво на Невский.
А во дворе появился Михайлов.
Первым безотчетным движением было бежать к нему. К Сашке бежать. Старина, дружище, опять ты выручил! Выручил, как бывало… Но тут мгновенно: Архиерейский сад, запущенный, безбрежный, с елизаветинскими дубами, с мордовником и малинниками, с неистовыми соловьями. Летом в том саду он сказал: «Мне нечего делать с вами». Думал, ждал, что его окликнут. Кажется, Перовская окликнула: «Жорж! Погоди, Жорж!» И тогда Михайлов – как булыжником в спину: «Нет! Не надо! Хоть и жаль терять такого товарища, а не надо!»
Он услышал шаги на лестнице.
Поздоровались смущенно, старательно скрывая радость. С минуту оба молчали.
– Домой не ходи, – сказал Михайлов. – Может, на след твой напали.
– Роза…
– Я передам.
– Спасибо.
– Вот еще, – пробурчал Михайлов. – Есть где ночевать?
– Есть, – ответил Жорж.
Опять помолчали. Надо было проститься с Сашей перед отъездом, но Жорж вдруг застыдился: почему-то именно Михайлову он не мог сказать, что уезжает из России. А почему? Почему, собственно?
– Еду, – сказал он, не глядя на Михайлова.
– А!.. Понимаю… Когда же?
– Скоро. Дня через три.
– И надолго?
Плеханов пожал плечами.
– А Роза?
– После. Весной. – Он легонько ткнул его в плечо. – Ты бы навещал…
– Да, конечно…
Михайлов трудно вздохнул и простился с Жоржем.
* * *Машинист в меховой шведской куртке облокотился на подушечку с бахромой. Чумазый помощник машиниста совал в колеса лейку. Артельщики в валяных сапогах и нагольных полушубках тащили багаж. Седоусый начальник станции в красной фуражке разговаривал с каким-то ротмистром. Вдоль вагонов похаживали, придерживая шашки, стоеросовые жандармы.
Снег валил как из рукава. На Варшавском вокзале было то праздничное оживление, какое бывает у поездов, отходящих за границу. И толпа тут тоже была особенная – нарядная и веселая, разогретая шампанским, сытая, духами опрыснутая.
Жорж, в высоком цилиндре, с новеньким чемоданом, с тростью, шел по дебаркадеру.
У жандармского унтера засосало под ложечкой. Помилуй бог, где он видел этого смуглого господина? Ведь видел же где-то… А господин поставил чемодан. Господин щелкнул портсигаром, и вдруг – повелительно:
– Ну-ка, братец, снеси!
– Слушаюсь, ваше-ство! – Унтер мотнул подбородком, понес чемодан в купе.
Станционный колокол ударил в третий раз. Обер-кондуктор длинно засвистел. Локомотив, будто нехотя, сдвинулся с места. Состав звучно и голодно лязгнул.
Провожающие на перроне замахали руками, задвигались, закричали что-то такое, чего уж не могли разобрать пассажиры, и пассажиры тоже замахали руками и стали кивать, улыбаясь и отвечая что-то такое, чего уж не могли разобрать провожающие.
Жорж сидел в купе. Нелепость всей этой кутерьмы раздражала. Скорее бы! Лицо у Жоржа было неподвижное и надменное.
Поезд вырвался из вокзальной теснины.
Завершилось, кончилось что-то в жизни. К другому берегу спешит поезд, к другому берегу, где иная начнется жизнь, на прежнюю непохожая.
За окнами Петербург навзничь опрокидывался, аспидное небо, полное снежистого мрака, висело над ним.
Глава 8 БОЙ В САПЕРНОМ
Бо́тая сапогами, стуча шашками драгунского образца, полиция вламывалась в квартиры, меблирашки, фабричные казармы, обшаривала подвалы и чердаки, чуланы, антресоли.
Переступая босыми ногами, обитатели ночлежных заведений мрачно глядели на полицейских, и те начинали ни с того ни с сего посовывать куда ни попало чугунными кулаками.
В студенческих углах шумели:
– Ландскнехты!
– Инквизиторы!
И еще что-то галдели, городовым непонятное.
А в захудалом домишке на Петербургской стороне полицейские разбудили шестерых студентов-технологов. Поднялись они лохматые и яростные, кто-то из них сказал нарочито ласковым голосом:
– Митенька, повесели душу, пока фараоны управятся.
Здоровенный парень, с русой, в кольцах шевелюрой, снял со стены балалайку, сел, как был в одних кальсонах, на подоконник, подвернул ногу, задумчиво почесал волосатую грудь и грянул «барыню». А пятеро других, взявшись за руки, понесли дикими голосами:
Хо-дил, гу-лялИван-сударь…– Господа! Господа! – всполошился унтер. – Молчать! Арестую!
Митенька прижал струны, хор умолк.
– А за что? – удивился все тот же ласковый голос. – «Барыня» цензурой дозволена.
Унтер смешался, фыркнул:
– Приступайте!
Городовые стали рыться в книгах, ворошить тюфяки. А Митенька опять рванул струны, хор опять понес дикими голосами:
Сорвал цвяток, завил вянок…В маленькую гостиницу на Гончарной полиция явилась под утро. И господин помощник пристава, и городовые уже порядком утомились, и хотя помнили, что обыски в столице производятся не только по приказу градоначальника, но и по высочайшему повелению, наскоро, без тщания, заглядывали в номера.
В крайней угловой комнате двери отворил длинный, костлявый юноша.
– Паспорт? – сонно переспросил он. – Сделайте одолжение.
Паспорт был на имя Голубинова. Скользнув взглядом по смятой постели, по столу с недопитым чаем, городовые намеревались было уйти, но тут один из них увидел в ящике письменного столика газету и прочитал, шевеля губами: «Народ-ная во-ля». Крякнул:
– Придется начальство тревожить.
Явился курносый, щекастый добродушный офицер. Повертел в руках газету. Сказал укоризненно, отцовским тоном:
– Нехорошо-с, молодой чеаэк.
– Нехорошо, – согласился Голубинов. – Должен заметить, господин офицер, я действительно это читаю. Имею интерес. Понимаете? Интерес чисто теоретический к современной мысли. Однако не пропагандирую и не распространяю.
Щекастый подмигнул Голубинову, ври, дескать, ври, и покачал головой. Он, очевидно, хотел дать понять молодому человеку, что относительно «распространения» еще требуется проверить. Ну, а чтение-то само по себе, «теоретический интерес» сам по себе ничем особенным Голубинову не грозил: в те времена запрещенная литература подлежала изъятию, чтец попадал в списки «поднадзорных», и вся игра, «особенных последствий не проистекало».
– Вот-с, – сокрушенно вздохнул офицер, – сами, господа, вынуждаете. Ну зачем, зачем это? – Он потряс газетой. – Эх, молодо-зелено, ей-богу. То-то маменьке-папеньке карамель, а?
Городовые возобновили обыск. Вещей у Голубинова и было-то всего узелок с бельем да чемоданишко. Открыли чемоданишко. Ахнули:
– Ка-анцелярия!..
Голубинова привезли в градоначальство; чиновники секретной части занялись содержимым его чемоданчика. А заняться было чем: одних конвертов с подлинными документами насчитали семнадцать да еще столько же с копиями, а сверх того – образцы подписей нотариусов, старших должностных лиц полицейского ведомства, начальников военных учебных заведений, разного рода справки.
Но и это еще не все. В коробках из-под папирос лежали свинцовые и гуттаперчевые печати, оттискивать которые на сургуче или на бумаге всегда так приятно, ибо это придает обладателю казенной кругляшки много весу.
Голубинова привели к градоначальнику. Генерал, еще не старый, с жидкими светлыми волосами, зачесанными назад, и выпуклыми надбровными дугами, оглядел арестованного:
– Фамилия?
– Вы же знаете, – с ленцой ответил Голубинов.
Генерал шевельнул складками на лбу:
– А ежели по совести?
Арестованный молчал.
– Чего ты уставился? – рявкнул градоначальник, ударяя на «ты».
Голубинов скрестил руки, усмехнулся:
– В жизни не видел столь мерзкой рожи.
«Наглеца» следовало, конечно, отправить на Пантелеймоновскую, в Третье отделение. Но вот этого-то как раз и не хотелось градоначальнику: не лучше ли самим установить личность Голубинова да и опять утереть нос «голубым» зазнайкам, как совсем недавно арестом Квятковского с его планом Зимнего дворца.
Несколько дней спустя генерала обрадовали: фамилия – Мартыновский, Сергей Мартыновский, девятнадцати лет, бывший студент. Больше он ничего о себе, а равно и о своей «канцелярии» не сказал, несмотря на весьма убедительные доводы следователя.
– Изволите видеть, ваше превосходительство, – приятным тенорком говорил чиновник секретной части, показывая генералу копию паспорта на имя Квятковского, найденную в бумагах арестованного.
– Стало быть, и Мартыновский из этих?
– Точно так, ваше превосходительство. А вот-с другое. Изволите видеть – черновичок-с: метрическая выпись о бракосочетании дворянина Лысенко с дворянкой Рогатиной.
– Ну?
– Фальшивый документик, как есть фальшивый, ваше превосходительство. – Седенький чиновничек прижмурился, казалось, сейчас и замурлычет. – Я запросил адресный стол. Супруги имеют-с жительство в Саперном.
Они посмотрели друг на друга почти с умилением.
* * *В Саперном печатали дополнительный тираж «Народной воли».
Газета итожила год минувший. А год был печально-примечательный даже для России, которой не в диво лихие годины. Чем не карал минувший семьдесят девятый! И недородом, и чумой, и детской смертностью от дифтерита, и огненным полымем, пожиравшим не только деревни, но и города. И еще тот год «обрадовал» россиян важными деяниями высших властей: было учреждено главное тюремное управление, кандальников решено было возить на Сахалин в трюмах коммерческих пароходов.
Газета открывалась статьей «По поводу казней»:
РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ, КАК ВСЕГДА, БЕССТРАШНО И БЕЗ ОГЛЯДКИ ИДУТ НА БОРЬБУ, НО ГДЕ ЖЕ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА? ЧЕЛОВЕК ЗА ЧЕЛОВЕКОМ ВСХОДЯТ НА ЭШАФОТ, ГЛУХО РАЗДАЮТСЯ ПОДЗЕМНЫЕ СТОНЫ ЗАМУРОВАННЫХ В КРЕПОСТЯХ И ЦЕНТРАЛАХ, ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК БЕСКОНЕЧНОЙ ВЕРЕНИЦЕЙ ТЯНУТСЯ В СИБИРЬ, МЕЗЕНЬ, КОЛУ, НАРОД В ЗЕМЛЮ ВБИВАЕТСЯ, ОБЩЕСТВО ПОДТЯГИВАЕТСЯ ЧУТЬ НЕ НА ДЫБУ, СТУДЕНЧЕСТВО ПРИВОДИТСЯ К ЗНАМЕНАТЕЛЮ НИКОЛАЕВСКИХ ВРЕМЕН… НЕ ПЕРЕЧТЕШЬ ВСЕХ ПРЕЛЕСТЕЙ. А КРУГОМ ВСЕ МОЛЧИТ И НИЧЕГО НЕ ОЩУЩАЕТ, КРОМЕ ПОСТЫДНОГО ТРЕПЕТА.
Дом десять по Саперному переулку спал. В квартире девять не спали. Полосу за полосой оттискивали, не отходили от ручного печатного станка, и в комнатах пахло, как в керосиновой лавке.
В третьем часу ночи дело было кончено, измученные типографы повалились на постели.
Соне Ивановой ничего не снилось; спала она глухим, непроницаемым сном. Но потом в ее сон вторглось что-то смутное и тревожное, и ей почудилось, будто ноги проваливаются в пустоту. И вдруг, словно бы с нее сорвали одеяло, она вскочила, слепо вскидывая руки, и тут ее с головы до пят, будто голую, ожгло холодом.
В дверь ломились яростно, звонок злобно гремел. Соня заметалась. Она искала шпильки. Шпильки были на столике, рядом с постелью, она это знала, но будто б начисто позабыла и теперь металась по комнате.
Звонок на секунду умолк, и Соня, как по приказу, тотчас нашла шпильки. Нашла и отбросила, всхлипнув от бессильной ненависти к себе, к своему дурацкому мельтешению из-за этих ненужных проклятых шпилек.
А в соседних комнатах уже слышалось поспешное движение, зажигался свет. Бух говорил что-то напряженным громким голосом. Обо всем условились заранее. У каждого были свои обязанности. Как в гарнизоне, поднятом сигнальной трубою. И все ж понадобились минуты, чтоб типографы одолели некий темный жесткий барьер.
Соня увидела Буха. От его вседневного спокойствия ничего не осталось. Она даже почувствовала, как все в нем дрожит. А он вдруг произнес совершенно ровным и вместе с тем каким-то мертвенным голосом:
– Ну, что ж ты?
Соня кинулась крушить набор, темневший ровными столбцами в своей четкой и крепкой раме. Шрифт сыпанул на пол, и этот частый, дробный град почему-то ободрил Соню. Она схватила еще влажные, весомые, пахучие газетные полосы, наотмашь хлопнула печной дверцей, чиркнула спичкой. Отбрасывая волосы, Соня еще и еще чиркала о коробок. Бумага взялась квелым неохотным огнем. Соня плеснула керосином из лампы – в печи глухо и весело ухнуло.
Но как там все заиграло, загудело и понеслось, Соня уже не слышала, потому что в прихожей резко и отрывочно треснули смит-вессоны, а за спиною, позади Сони, звонко, дребезгливо, отчаянно полетели оконные стекла.
Лубкин-Птаха, припрыгивая, махал утюгом, как в драке. Надо было выбить все стекла до единого: поутру, заметив это, ни Михайлов, ни Перовская не угодят в полицейскую засаду… Он подпрыгивал, маленький Птаха, молотил чугунным утюгом, что-то выкрикивая своим тоненьким, детским дискантом. А стекла звенели, дребезжали, взвизгивали, и в Саперном переулке зажигались беглые, суматошные огни.
Полуночный ветер хлынул в комнаты. Вздувал, как кливера, портьеры зеленого бархата, вихрил бумажные клочья и сажу, гонял пронзительный пороховой дым. Все будто сорвалось с места, каруселью, шабашем пошло.
И от этого студеного ночного ветра, от всей этой карусели, оттого, что дверь трещала под прикладами, Соне вдруг мельком, но очень отчетливо вообразилось, что она в сражении, в «деле», как говаривал ее отец, старый кавказский офицер. Да-да, она в «деле», которое разгорается не в питерском проулке, а где-то среди гор, в черной долине, и вот-вот ворвутся дикари, брызнет кровь, но теперь уж ей, Соне, ни капельки не страшно, она еще и еще подбрасывает в печь, в камин газетные полосы и плещет в пламя керосин, а в другой руке у нее смит-вессон, через минуту она будет палить в ненавистные рожи.
Дубовая парадная дверь с массивными, кованой меди запорами не поддавалась. Пристав вызвал жандармов из соседних, Надеждинских казарм. И вот уж дверь перекосилась, шатнулась, кандально брякая цепочкой, обнажая рваную белизну дерева, вывороченные винты.
Настенные часы в столовой начали отчетливый швейцарский бой. Было пять. Еще не светало. Типографы встали в ряд. Как перед расстрелом. Бух сказал:
– А теперь, братцы, сыграем в четыре руки.
Жандармы и городовые вломились. Соня Иванова не знала, успела ль она выстрелить. Наверное, успела. Что-то громадное, черное, круглое, как пушечное жерло, означилось перед нею. На нее обрушились удары, и она провалилась в это круглое черное жерло.
Они все же «сыграли», если не в четыре, то в три руки. А потом их месили сапогами, рукоятками вороненых бульдогов, прикладами. Их месили, вязали, душили… Последнего выстрела никто, кажется, не расслышал. Он слабо, как бы немощно стукнул в задней комнате, у стола с наборной кассой: маленький наборщик Лубкин-Птаха не промахнулся. Да и как промахнуться, когда в свой висок упрешь твердое, недрожащее дуло?
Глава 9 СУНДУК С ДИНАМИТОМ
Камер-лакеи, раздирая рты зевотой, лениво смахивали пыль. Полотеры с карминными пятками лунатически поплясывали на узорчатом паркете. У караульных гвардейцев слипались веки. В Зимнем дворце одни уже проснулись, другие досыпали предутренние сладостные сны.
Император только что отпустил градоначальника. Вопреки правилам, тот примчал во дворец и самолично, победительно сияя всеми морщинами, доложил его величеству о ночном происшествии в Саперном переулке. Александр обрадовался, поздравил и поблагодарил генерала.









