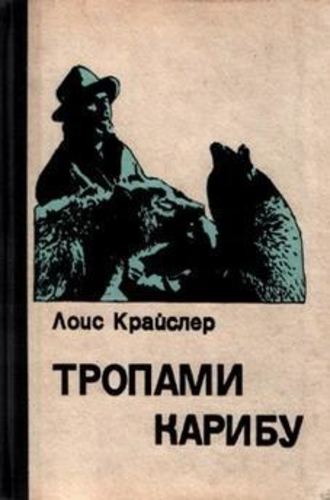 полная версия
полная версияТропами карибу
Это было поразительно. Казалось, протяни руку – и вот тебе ответ на все, что нам хотелось знать об оленях. Каковы их обычаи и привычки? Каковы великие законы миграций, незримо подготавливаемых, незримо протекающих?
Серые пушистые тела сплошным потоком текли мимо нас. Я смотрела озадаченно – напряженно, с чувством, уже испытанным однажды, когда Джон Кросс спросил меня, человека, не знакомого ни с летным делом, ни с Арктикой: «Куда и с какой скоростью дует ветер?» Прильнув к окошку «Сессны», я лихорадочно всматривалась в белую пустыню внизу, но, как ни напрягала свои мыслительные способности, ни до чего не додумалась. Оказывается, он хотел, чтобы я обратила внимание на тень от облака, бегущую по озерной глади. То была карта в руки. Какие же карты шли нам в руки сейчас?
Кое-что нам уже удалось подметить. Держа путь на запад, как и большинство оленей за последние дни, эти тщательно обходили озеро с севера.
Ни одно животное не ступило на скользкий лед. Ага! Значит, олени боятся льда.
На западной стороне озера, прямо против нашей стоянки, олени рассеялись по береговому склону и стали кормиться, разрывая копытами снег. Они удивительно напоминали веселую компанию, устроившую пикник на берегу замерзшей речки!
Тут мы обогатились одной из жемчужин, которыми так богата жизнь среди дикой природы. Крис пошел разгребать снег. Я стояла у двери палатки, наблюдая, как последние десятка два оленей гуськом огибают озеро с севера.
Внезапно они бросились бежать, потом замерли на месте, глядя назад, в ту сторону, откуда пришли. Я тоже посмотрела туда.
Крис! – негромко позвала я, и мы стали наблюдать вместе. Небольшое темношерстое, в светлых полосах жи вотное бежало прямо на застывших в ожидании оленей. Это была наша росомаха!
Глупышка! – сказала я, не в силах устоять перед соб лазном банального умозаключения. – Что она может с ними сделать?
Мы рассмеялись. Росомаха, неуклюже переваливаясь, упорно бежала вдоль строя оленьих ног. Олени поочередно наклоняли головы, поворачивали и медленно поднимали их, провожая взглядом пробегающее животное. Росомаха упорно не обращала на них внимания, направляясь ко второму скелету на ее обычном маршруте; олени неподвижно смотрели ей вслед. Перед нею ротозейничали живые карибу, а она даже не фыркнула на них для острастки!
Минут пять она прилежно занималась скелетом, потом поскакала галопом к следующему.
Я вспомнила о старинной плясовой эскимосской песне «Хлопотливая маленькая росомаха», ее пересказывала нам Ханна, жена Энди. «Мне нравится росомаха, – серьезно говорила Ханна. – Она такая храбрая, сильная, хлопотливая». Что хлопотливая – то верно! Но надеяться на то, что нам еще удастся воочию убедиться и в ее силе и храбрости, значит ожидать от жизни слишком много «жемчужин». Горожане, получая «жемчужины» целыми пригоршнями в кино или в пересказе, недооценивают их. И лишь люди, живущие среди дикой природы, знают, как они редки. Своими глазами увидеть, как ведут себя при встрече два более или менее крупных животных различных видов в естественных условиях, – это не каждому дано.
На следующий день мы по наивности решили, что уже пришла весна. Было солнечно и тихо. Я устроила себе купанье, и оно оказалось более холодным, чем можно было ожидать. Крис воздвиг шест с перекладиной и проветривал на нем спальные мешки.
Затем он сделал крюк из углового железа, заточил его, прикрепил к палке и принялся долбить в голубом льду аккуратный колодец – два фута в длину, два в ширину и пять в глубину. Эта затея показалась мне смехотворной, и я так прямо и заявила ему. Но как ни странно, в колодец насочилась вода, и мне осталось лишь поблагодарить его за то, что теперь можно покончить с рубкой льда и черпать воду прямо из озера.
В тот же вечер Крису пришла в голову еще одна идея: он смастерил жалкое подобие лопаты, чтобы привлечь к снегоуборочным работам и меня. Мы расчищали лед от затвердевших грядок снега, готовя посадочную дорожку для Томми; он должен был прилететь 17 мая с горючим.
Двигаться по голому льду надо крайне осторожно. В моральном кодексе человека, забравшегося в необитаемые места, есть одно важное правило. Я узнала его от Билли Эверетта, восьмидесятилетнего старика, живущего в глубине гор Олимпик, Это произошло при следующих обстоятельствах. Крис закреплял веревку, по которой нам предстояло спуститься со скалы. Мы с Билли ждали. Спокойно и уверенно Билли сказал: «Нет ничего хуже изувечиться в необитаемой глуши. Только доставишь людям лишние хлопоты».
Утром 17 мая нас постигло горькое разочарование. Впервые за время нашего пребывания здесь озеро обложил густой туман. Но потом произошло маленькое чудо. Без четверти двенадцать небо обдуло, в двенадцать Томми резво перемахнул через гряду гор на юге и сел на нашей дорожке. Он очень удивился, услыхав, что у нас был туман.
Он сидел на наших спальных мешках, держа в руках чашку кофе, которого у меня осталось совсем мало. С этим рейсом можно было получить все продукты, какие только имелись в Коцебу, если б я сделала заказ, когда Томми возил меня туда. Но тогда я даже не подозревала, как небогаты наши продовольственные запасы.
Томми привез горючее (теперь можно было жечь его для обогрева) и чудесный подарок в виде пачки журналов, старых и новых – лучших, какие только можно достать в Коцебу. Его выбор делал честь нашему вкусу: это были номера «Популярной механики», а не «Исповедей».
На дальнем берегу озера виднелось несколько оленей. Они казались совсем светлыми на освещенном солнцем снегу. Полушутя, полусерьезно Томми сказал:
– Мне бы следовало убить одного для вас.
Я почти хотела, чтобы он сделал это. Но мы попали сюда по своей воле, мы прилетели на самолете и должны были привезти с собой продовольствие. Жить где – либо на подножном корму явный анахронизм в наш век, за исключением случаев действительно крайней необходимости.
Мысль о тумане не давала мне покоя, и я вышла взглянуть на погоду. С востока, подгоняемый ветром, быстро надвигался туман. Томми сидел как ни в чем не бывало, глядя в открытую дверь палатки, выходившую на запад. Немного погодя он взглянул на небо и осторожно поставил чашку на пол.
– Мне пора. Увидимся в июле, – сказал он, прикрыл дверь и побежал к самолету. Сквозь последний просвет на северо-западе он взмыл ввысь, сделал над нами невидимый круг, и рев самолета затих в юго-западном направлении.
Снова похолодало, но теперь часто выдавались тихие туманные дни. Наш колодец на озере замерз. Палатка, вечно хлопавшая и полоскавшая на ветру, утихомирилась. Затихли и птицы: они пели всего день или два. «До поры до времени притаились, как и мы», – сказал Крис.
На меня накатил приступ клаустрофобии. Желание что-нибудь делать, выбраться из палатки во взаимодействующую среду, иметь перед собой цель, словно какой-то тупой и тяжелый предмет, толкалось мне в грудь. Это была какая – то пустая пора – даже не пора ожидания. Всякое движение, несущее в себе перемены, замерло. Лишь медленно затухал, как в театре, и вновь разгорался свет над Арктикой, серый на протяжении трех – четырех «ночных» часов, потом снова белый. "Прав был греческий философ, сказавший: «Ничто не изменяется», – думала я. Тот уголок мира, куда мы забрались, был замкнут, недвижим, скован стужей. И мы, малые, приверженные переменам создания, как правило, не сознающие постоянного тока перемен, подобных ливневым водопадам, через которые мы проскакиваем незаметно для себя самих, теперь мы осознали свое предназначение и тосковали по переменам.
Эти дни, казалось, подводили итог какому-то завершенному периоду. В течение этого периода, этих недель, прожитых здесь, от меня не требовалось никакого напряжения сил. А впереди (хоть я и не могла этого знать) меня ждала работа почти на грани моих возможностей. К моему удивлению, я не очень – то охотно распрощалась с этим периодом.
Полярная весна
В ночь на 23 мая пошел дождь! Вода лилась в палатку и стекала на пол.
Утром Крис откинул клапан палатки. В голубом небе над пестрыми, в бурых пятнах холмами тянулись длинные пряди облаков. Пели птицы, перекликались утки и гуси: «кьюк! кьюк!» и октавой выше, пронзительно: «хи – юуу!»
– Все прилетели на север в полночь, – сказал Крис. – Гуси прилетели с дождем. Еще прилетели какие-то маленькие птички с новыми голосами. Если я не ослышался, и чайки тут.
Мы завтракали при открытых дверях. Мягкий воздух звенел голосами птиц.
Теперь можно было выйти на волю и стать лицом в любую сторону, не думая о ветре. А еще только вчера нужно было выдержать целый бой, чтобы посмотреть на восток! Снег был теплый и рыхлый. А еще только вчера захватить его рукой было так же невозможно, как ущипнуть кусок стали.
К нам пришло чувство благополучия и уверенность в своих силах. Я видела это по глазам Криса, по его поведению. Радость надежды! Наконец – то свободны!
К нам вернулось чувство безопасности. Мы без конца спрашивали друг друга: «А помнишь, как было в это же самое время на прошлой неделе?»
Освобождение свершалось по этапам. Вот некоторые из них. Когда мы впервые смогли проветрить спальные мешки. Впервые искупаться. Впервые зачерпнуть ведро воды. Впервые свободно расстегнуть молнию и выходить, а не выползать из палатки. Самое важное «впервые» для меня – когда я могла сбросить облезающую малицу, надеть вместо нее свою полинявшую голубую поплиновую куртку для лета и содрать с пола грязный коврик изо льда и шерсти.
Это было сделано сегодня. Отныне нам не придется выуживать оленьи волосы из горячего молока.
И еще одно важное «впервые» – когда стало возможным снимать на ночь нижнюю шерстяную рубашку и штаны. Они постоянно сбивались вкривь и вкось в ворохе шерстяных одеял, и я мечтала о гладких простынях, в которых можно кататься чисто вымытым телом. (Простынь, разумеется, у нас еще не было.)
Следующий день ознаменовался ни с чем не сравнимой, совершенно неожиданной переменой в нашей жизни. Крис перенес палатку с рыхлого снегового уступа на гребень косы, где почти не было снега. В следующие два дня он пристроил к палатке веранду. Она состояла из пола, обнесенного брезентовыми стенами; позднее, когда появились комары, была сделана брезентовая крыша.
Однако неповторимость перемены состояла не в переустройстве нашей стоянки, а в изменении ее местоположения. Мы оказались в самом центре колонии гнездующихся лапландских подорожников, и они отнеслись к нам так же, как олени. Не вызывать страха в диком животном – это счастье, почти неведомое современному человеку. «Какие пустяки», – возможно, подумает городской житель. Но это не пустяки. Поживите достаточно долго среди дикой природы и вы почувствуете себя изгоем – все живое будет сторониться вас.
Тень человеческой жестокости покрывает Землю. Незаметно для нас самих она омрачает и наши души.
Подорожники сновали между нами и отскакивали от нас не дальше чем на ярд, когда мы спокойно проходили мимо по своим делам.
А еще они пели. Самки молчали, если не считать душераздирающих криков, которые мы у них исторгали, ненароком ступая на травяную кочку с прилепленным сбоку гнездом. Самцы пели с самых высоких мест, какие можно найти в тундре, а поскольку таких мест немного, они взмывали ввысь и пели на лету, как поют жаворонки.
Обычно самец вспархивает на высоту от пятидесяти до ста, редко до двухсот футов. В высшей точке взлета он распластывает крылья и наклонно скользит к земле, распевая свою песню. На крохотном треугольничке крыльев этот комочек торжествующе-непосредственной жизни планирует с не меньшим искусством и мастерством, чем иной властитель воздушной стихии более крупных калибров.
Планирование заканчивается в двух – трех футах от избранницы, которая трепетно ожидает самца. Обычно она сразу принимает его ухаживания. Но бывает и так, что она не проявляет никаких признаков волнения и в тот момент, когда самец спускается к ней, с безразличным видом вспархивает и улетает.
Готовка в тундре
Песня подорожника, очень быстрая и сложная, напоминает трели жаворонка и звучит как дуэт. А иной раз так оно и есть на самом деле. Почти всегда в теплое время дня над тундрой можно увидеть пару подорожников, забирающихся ввысь, чтобы потом заскользить к земле. Спускаясь, они вторят друг другу.
Сколько мгновений чистого наслаждения для человека, когда птица пролетает мимо в каких – нибудь шести футах и ее песня, еще более прекрасная вблизи, звучит на уровне вашего уха! Если восточный ветер относит певца к заснеженной пустыне озера, он быстро снижается и, поскольку спуск испорчен, не поет. Зато всякий раз, когда подорожник поет, он дарит вас свежим ощущением радости и довольства.
Самец из той пары, что гнездилась за нашей палаткой, был самой богатой птицей на косе: он мог петь с высоты палатки и веранды. Ветер сбивал его с верхушки шеста на перекладину, но он пел. Ветер ершил на нем мягкие перышки, но он пел. Он сидел на вершине палатки, в восьми футах от меня; я жарила оладьи на веранде, а он пел.
Крис смастерил стол для примуса, и теперь я стряпала стоя, а не на корточках. У нас появилась даже банная скамья. Купались мы на солнце на веранде, защищавшей нас от ветра: становились в пустую банку из-под горючего и обильно поливались теплой водой из другой, стоявшей на скамье.
Ходить к колодцу на озеро больше было нельзя: у берегов стояла вода, лед подтаивал. Зато за косой бурлил, разливался по тундре ручей, его постоянное русло в лощине еще не оттаяло.
Полярная весна – это стремительный поток событий, который несет тебя, как река на перекате. Зеленые колоски трав уже созрели и покрылись желтой пеной тычинок. С больших верб, стоящих особняком на коротком, длиной с палец, «стволе», сошел темно-розовый цвет. На другой день после нашего освобождения мы увидели паука. Спаривались немногочисленные мухи. Комаров пока еще не было.
– Сейчас в Арктике как в раю до грехопадения, – сказал Крис. – Пора между холодами и комарами.
У подорожников дела быстро подвигались вперед. Сегодня – ямка в боку травяной кочки, завтра – подстилка из белых перьев, скорее всего куропаточьих, послезавтра – яичко. Пять яичек – и самка уже высиживает птенцов. Теперь у подорожников появился новый крик. При нашем приближении к гнезду самец издавал бесконечно печальный, как у флейты, звук предупреждение самке: «тсит-пиир!»
Мы старались ступать с осторожностью. Надо слышать горестный крик самки, когда наступаешь на кочку, прикрывающую ее гнездо! Близлежащие гнезда мы отметили колышками. Но что наши ноги – горшие беды угрожали им! Вдоль берега, между палаткой и озером, тянулась проложенная песцами тропа. По ней ходила ласка. Встав на задние лапы, она пристально рассматривала нас. Мы замирали. У нее были оттопыренные уши и темная мордочка, на которой едва угадывались такие же темные глаза. С брюшка она была лимонно – желтого цвета, такого невероятно красивого меха я еще никогда не видела. Что-то от фиоритуры, от музыкальной трели было в том, как она прыгала вперед и вперед своим мягко изогнутым телом, неизменно напоминая мне какой-то нотный знак. В нору суслика и обратно – прыг – скок! Затем короткая стойка и опять взгляд в нашу сторону. Хотя бойцы из подорожников никудышные, они все же время от времени собирались стаей и стращали ласку.
В событиях весны не было ничего идиллического: они диктовались жизнью.
Как-то ночью я проснулась от громкого плеска воды и продолжительных, ни на что не похожих криков, словно заика пытался говорить о чем – то быстро и горячо. Я вышла наружу. Это были морянки – два самца и самка, занявшие накануне разводье среди голубовато – белого льда в том месте, где ручей впадал в озеро.
Самцы дрались. Один из них, привстав над водой под углом в сорок пять градусов, преследовал другого. Самка поначалу оставалась поблизости, затем вылезла на лед. Выгнув смертоносной дугой спину, отжав книзу остроконечный хвост, преследователь летел, звучно шлепая по воде косо поставленными лапами. Наконец соперники схлестнулись; забурлила, запенилась вода, замелькали тела птиц. Затем последовал захват: один из самцов держал другого под водой так долго, что у меня зашлось дыхание. Бедняга еще пытался бороться. Его голова на мгновенье показалась над поверхностью, но победитель снова затоптал ее под воду.
Эта ночь принесла мне одно расстройство: я проклинала себя за то, что не разбудила Криса и он не мог заснять этот бой. И вот теперь мне представился случай загладить свою вину. В золотистом свете низкого солнца я возвращалась к палатке, и мое внимание привлекло какое-то движение в небольшой лощинке перед нею. Это были два песца, тусклые и бесцветные, как прошлогодняя трава. Рыжевато-коричневые, они были одного цвета с тундрой и потому нефотогеничны. Да и вели они себя неинтересно – просто сновали по лощине. Будить Криса ради них не хотелось. Но по «долгу службы» я все же расчехлила кинокамеру и собственноручно отсняла несколько футов пленки.
Внезапно ситуация стала памятно фотогеничной. Песцы поднялись на гребень берегового ската, еще покрытый снегом, и один из них съехал по крутизне вниз, присел по-кошачьи и с вызовом задрал морду к тому, что стоял наверху. Тот бросился вниз, налетел на первого, и они кубарем покатились по снегу. Потом один из песцов отделился и вторично помчался наверх с явным намерением снова прокатиться с горки.
Песцы безмолвно играли, отбрасывая длинные голубые тени. От каждой, даже малейшей, грядки снега тоже тянулась длинная голубая тень.
Я поспешно развернула громоздкую махину, сфокусировала, нажала кнопку.
Никаких признаков жизни. «Испортился! – вне себя от ярости подумала я. – Испортился, проклятый!» Уже бросившись – увы, слишком поздно! – за Крисом, я сообразила: просто кончилась лента. Песцы взглянули на меня и потрусили рысцой вдоль занесенного снегом берега. И бой селезней, и игра песцов были «самородочным материалом». «Самородок» – это действие, а не просто портрет, причем такое действие, которое можно заснять. Три самородка за сезон Крис считает большой удачей. А я за одну ночь упустила два!
Ухаживание, бои за самок, насиживание яиц, цветение – поток жизни бурно стремился вперед. Среди скал, на юго-западных отрогах гор, распустились первые цветы. Это были какие-то неизвестные мне цветы и бледно – лиловые ветреницы, «Надели свои малицы», – заметил Крис, имея в виду их мохнатые стебли. Тундра пестрела нарядными куртинками желтого ледникового гравилата, тоже с мохнатыми стеблями.
Но все это было ничто по сравнению с одиноким кустиком желтеньких цветочков, на который я набрела, идя по голому гребню горы. Кустик этот ютился среди бахромчатых веероподобных лап белого лишайника. Он был в дюйм высотой, дюйма два толщиной и сиял, как неоновая реклама. Осмотрев его, я поднялась и внимательно огляделась вокруг. Впервые я с удивлением отдала себе отчет в том, что пройдет месяц и эти многомильные, монотонные, рыжевато-бурые пространства оденутся зеленью.
Особенно глубоко запал мне в душу один вечер. Вечерами в тундре вообще хорошо. Весь день тундра лежит широкая, плоская, горячая, пустая и мертвая.
И вся колышется от марева. А вечером оживает и обещает кое-что показать.
Вечерний свет широкий, теплый, приятный.
Мы ужинали на веранде. Я хотела обратить внимание Криса на пять оленей, казавшихся жемчужными в свете низкого солнца, и уже начала говорить, как он перебил меня, негромко воскликнув:
– Вот они! Те самые птицы, что поют как ветер.
Над белым озером показались две темные птицы – короткохвостые поморники, совершающие брачный полет. Они летели, почти соприкасаясь кончиками крыльев, – ведущий и ведомый. Летели они быстро. Их острые V – образные крылья созданы для стремительного движения и маневрирования в воздухе, и этот полет был вершиной их летного искусства. Они ныряли вниз, к самому льду, под острым углом отпрядывали назад, взмывали ввысь и снова пикировали. У нас дыхание перехватывало при виде такого совершенства и дерзновения. Они были как два сказочных конькобежца – ведущий и ведомый, с отчаянной дерзостью и мастерством скользящих не в двух, а в трех измерениях.
Выступления наших прославленных конькобежцев на льду покажутся после этого вымученным, жалким дилетантством.
Тут появился еще один поморник. Стремительный танец прервался. Птицы разъединились. Послышалось ворчливое мяуканье. Крис рассмеялся.
– Им не нравится, что этот тип встревает между ними!
Когда я начала мыть посуду, одинокий поморник вновь сделал попытку пристать к первым двум. Супруги грелись в ярком свете низкого солнца, лившемся над лощиной, – спокойные, нахохлившиеся, друг подле друга. Самка лежала, самец стоял рядом, чуть отступя назад. Смешно было видеть, как они согласно вертели головами: она поворачивала голову направо, и он – направо; она – налево, и он – налево. Быть может, причиной этого была новизна обстановки? Или и на берегу океана они столь же внимательны и осторожны? Всякий раз, как раздавалась песня подорожника или пронзительный крик утки, они настороженно поворачивали головы, словно голоса птиц говорили им о чем – то.
Итак, третий поморник снова подлетел к ним. Он должен был искать себе пару в здешних краях, иначе долгое путешествие в тундру лишалось для него всякого смысла. «Мяу!» – клювы супружеской четы немедленно раскрылись, издав тонкий, пронзительный крик. Тут только непрошеный гость окончательно отказался от своих намерений и улетел.
Супруги снова угомонились и сидели спокойно один возле другого, поглядывая вокруг.
Над берегом, неподвижно повиснув в воздухе, щебетал перепончатокрылый песочник. Он щебечет так быстро, что человеческий язык просто не в состоянии воспроизвести издаваемый им звук. «Птица с мраморными шариками в горле», называл его Крис. Эскимосы называют его звукоподражательно «лива – лива».
Песни птиц переплетались в воздухе. Вот взвился ввысь, а потом начал планировать подорожник. Торжествующе оглядывая сверху тундру, он с песней устремился вниз – подвижная, белеющая на солнце пушинка, в совершенстве владеющая искусством скольжения в воздухе. Еще один подорожник поднялся справа от меня. «Наш», обосновавшийся на шесте веранды самчик пел. Очень может быть, все они бегали птенцами по этой косе у озера и их отцы тоже пели здесь тихими просторными вечерами.
Над головой раздался звук кофейной мельницы, и возле веранды опустилась куропатка. В тот же миг поблизости опустились два подорожника, и куропатка, испугавшись, снова взлетела. Раздалось хлопанье крыльев, что-то прошмыгнуло у меня под ногами: куропатка пролетела через веранду и села на перекладину над самым моим лицом. Я замерла, потом съежилась и чуть подалась назад, чтобы как следует разглядеть алые египетские брови, трагически удлиненные, черные, как уголь, глаза и клюв. Спина птицы мраморно – четко выделялась на синеве неба; белоснежные меховые «чулки» казались удивительно мягкими.
Я повернула голову и молча посмотрела на Криса, который тихо подошел со стороны озера. Уставив на нас краснощекое загорелое лицо, он улыбался в свою темную бороду. Мы с любопытством ожидали следующего движения неробкой птицы.
Она наершилась, рельефно подчеркнув каждое перышко светло – голубой тенью.
Тут Крис, который зачастую проявлял себя сперва наблюдателем, а уж потом только фотографом, чем нимало и сердил, и смешил меня, расчехлил камеру и успел – таки щелкнуть куропатку во весь кадр, прежде чем она улетела.
В эту ночь нам довелось видеть солнце наиболее близко к полуночи. Дело в том, что по ночам небо обычно было затянуто облаками. Проснувшись в два часа ночи, мы увидели расплывчатое золотистое пятно в центре северной стенки палатки.
Поздравляя меня и себя с событием, в нашей жизни никак не запланированным, – ведь нам прежде и во сне не снилось, что мы будем жить в Арктике в палатке, – Крис с наивным удовольствием произнес банальную фразу:
– Страна полуночного солнца.
В данном случае банальность точно отражала ситуацию: именно в этой стране мы и были – Крис и я. Эта мысль настроила меня на приподнятый лад, и я окончательно проснулась. Все равно. Доносившийся снаружи шум не помешал Крису снова задремать, но я не могла последовать его примеру.
Причиной шума была куропатка. На следующие два часа она избрала верхушку палатки своей резиденцией. Сидела она тихо, время от времени издавая низкий, чуть слышный звук кофейной мельницы – какое-то слабое урчанье, и опять – таки время от времени с глухим стуком сбрасывала на тугой брезент очередную порцию катышков. Потом, шумно трепыхая крыльями и пустив «кофемолку» на полную мощность, она куда-то улетала, чтобы через десять пятнадцать минут вернуться с тем же самым звуком. Мое непрестанное ворочанье с боку на бок в палатке нимало не тревожило ее, разве что лишний раз извлекало из «кофемолки» низкое ворчанье.
Спать мне не хотелось. Да и что может быть приятнее и заманчивее этого неяркого, низкого солнечного света, жизнерадостно озаряющего палатку?

