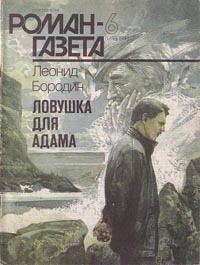полная версия
полная версияБожеполье
– На какой почве будем общаться? – спросил Артем, глядя ей прямо в зрачки, так ей показалось, не в глаза просто, но в зрачки, словно своим взглядом цеплял, как ловушкой, ее взгляд и не позволял увернуться.
Сто вариантов реакции могло бы найтись и на его тон, и на слова, сто первый, что вывернулся из какого-то глухого закоулка мозга, оказался не лучшим:
– А без почвы… это ты можешь?
Наивно было бы ожидать, что взгляд его потеплеет.
– Ну, ты же, наверное, такая умная и образованная, как с тобой без почвы?
Он сказал… она сказала… снова он – все это было лишнее и могло продолжаться долго, а времени в обрез.
– Ты уже все тут знаешь?
– Где?
– Деревню я имею в виду. Ходил? Смотрел?
– Прогуливался. Интересуешься сельскими видами?
– Клуб какой-нибудь есть?
– Даже дом культуры.
– Сходим?
– Зачем?
– Нужно.
Нет, ее не смутило, что он откровенно не хотел никуда с ней идти. Если я делаю ошибку, подумала она, то, значит, ошибка неизбежна, потому что времени нет, и если он тот, кем она его почувствовала, каким увидела еще тогда, в поезде, то все должное произойдет. Сейчас, понятно, ему нелегко, ведь где-то по периметру суетится доступная самка с арбузной задницей. Нужно вывести его из поля действия ее кошачьей похоти, чтобы для начала он мог почувствовать себя таковым, каков есть, тогда откроется его зрение к равному себе. Сделала вид, что не замечает, как он закрутил головой, как досадой исказилось лицо, в руках суетливость, а губы все-таки произносят нужное: «Ну, пойдем».
– Папа, мы погуляем немного.
Ее несокрушимый и невозмутимый папа расцвел типично стариковской радостью, поднялся, подошел к ним, слегка споткнувшись о деревянную решетку у крыльца, обнял их обоих, – этакое откровенное благословение, – прошептал многозначительно:
– Конечно, конечно! Погуляйте. К реке сходите. Там хорошо!
Насчет реки это было ниже всякого уровня, Наташе стало стыдно за отца, она оглянулась и встретилась со взглядом хозяина дома, Сергея Ильича. Он, конечно, тоже улыбался, но зря, потому что когда рот улыбается, а глаза гневаются, то это уже не улыбка, а оскал.
Последний раз Артем крутанул головой, когда они уже шагов на сто отошли от калитки. Повезло. Кофточка не объявилась. Теперь все зависит от других обстоятельств, которые могут сложиться удачно, но могут и провалить всю затею.
– Может, скажешь, чего это тебя потянуло на сельскую культуру?
– Музыку любишь?
– Музыку? – почему-то удивленно спросил он.
– Я имею в виду настоящую музыку.
– Я люблю хорошую музыку.
В ответе прозвучал странный вызов, и сам ответ был плох, так плох, что дальше некуда. Конечно, она должна была сказать ему, что музыка не бывает хорошая или плохая, она бывает настоящая и ненастоящая, музыка и не музыка, и это элементарно для всякого образованного человека. Скажи она так, и все! И больше ничего не будет. Даже надежды. Господи! Как он плохо ответил! Словно половина образа, что воссоздала в душе, – крест-накрест… Торопливо глянула на него, пришлось остановиться и обернуться, чтобы как следует, глаза в глаза… Да нет же! Черты лица – это же не просто форма плоти, это всегда еще и шифр души, и она не могла ошибиться в расшифровке. Теперь все зависело от простой удачи, от нескольких счастливых совпадений…
Еще она чувствовала и догадывалась, что взяла с ним очень неверный тон, октавой выше и мажорней нужного. Ему бы говорить с ней таким тоном, а ей бы тогда достался неторопливый аккомпанемент левой руки, возможно, лишь с некоторой коррекцией и опережением темы, когда одним аккордом можно менять строй и тональность, а правая рука и не заметит даже своей ведомости, увлеченная умело предложенной формой общения. Нужно было найти аккорд.
Улица, которой они шли, чем-то напоминала диканьковские виды Гоголя: домики, палисадники, лавочки у калиток, тихое безлюдье. Людей можно вообразить, как хочется душе, в том же гоголевском настрое, – они добры, по-хорошему хитры и непостижимы, как миф, среди них можно жить или пребывать в роли тактичного привидения – смотри и не вмешивайся, и получишь заряд спокойствия и оптимизма…
– Хорошо здесь, – тихо сказала Наташа.
– Кому?
– Что?
– Кому хорошо?
Наташа поняла. Он несчастен. Потому один аккорд для него – пустое и даже раздражающее звучание. Нужно быть осторожной и тонкой.
Вот, пожалуйста, словно в унисон его озлобленности, «гоголевский» пейзаж развалился на глазах, преобразился в безобразие пыльной площади, окруженной отвратительными строениями, заполненной ревом моторов и криками людей. Специально он ведет ее не в обход «ада», а через него… Мог бы под руку взять, но не берет. Хорошо, что хоть идет рядом, а не впереди.
В другом конце пыльного облака Наташа увидела цель их похода и в нетерпении прибавила шагу. «Господи! Только бы все совпало!»
Все совпало, и это был добрый знак. Клуб открыт. У первого же встреченного человека (им оказался худрук, человек с худыми руками!) Наташа спросила:
– У вас здесь есть инструмент?
– Какой инструмент? У нас оркестр…
– Рояль или пианино, – возмущенно уточнила она.
– Пианино на сцене. А что?
– Как пройти?
Он показал и не пошел за ними, и это тоже была удача. Последнее – лишь бы не расстроенное… Два-три аккорда – и радость!
– Спустись в зал и сядь в третьем ряду. Подожди! Знаешь, что я буду играть? Я буду играть про тебя.
– Да ну! А не замучаешься? – спросил он с ухмылкой.
– Если можешь быть серьезным, то попытайся, ладно? Иди, пожалуйста.
* * *Наташа была уверена, что до нее никто и никогда так не исполнял «Прелюдию» Рахманинова, потому хотя бы, что такое исполнение вообще возможно только один раз, только однажды, и она сама больше никогда не сможет повторить… Она ему рассказала все, что поняла, о чем догадалась, что увидела в его лице и что услышала в его нарочито грубых словах. Она рассказала ему о нем то, что он сам, скорее всего, не знал о себе, и ничуть не беспокоясь, что тем самым и сама раскрылась ему…
Паршивенький дом фальшивой культуры в минуты ее и рахманиновских откровений перестал быть безвкусным нагромождением бетона и кирпича, серебряные звуки великой музыки, как заклинание алхимика, преобразили его в каждой мельчайшей материальной частице и превратили на мгновение звучания в сверкающий храм, где свершаются самые заветные откровения, храм для двоих, только для двоих. Чтобы никто чужой не услышал и не подслушал, она силой своего вдохновения опустила его в самый центр земли. Став иноприродным, храм великих звуков не встретил сопротивления грубой материи и пребывал там, в бездне, в состоянии невесомости ровно столько, сколько длилось и свершалось действо.
Тихо и аккуратно она подняла храм из глубин, помогла ему утвердиться на прежнем месте, и когда, стыдясь и конфузясь, восстановилась полнота материального безобразия, она уронила руки с клавиатуры. Воздух вокруг, как самая чувствительная сфера восприятия прекрасного, еще был полон озоновым серебром, но слезы радости слишком долго высыхали в его атмосфере, и она, достав из кармана платья платочек, протерла глаза. С последним движением ее руки прекратилось чудо, рожденное музыкой. Она встала и повернулась к Артему.
Ох уж эти мужики! Ведь ошарашен и потрясен, но мышцы лица как в кулак сжаты, чтобы кто-нибудь, не дай Бог, не догадался о подлинном состоянии души, а то как же, мужчина – и вдруг чувства, несовместимые с мужественностью, к которой приговорен по рождению. Даже в глаза смотреть не решается!
С другого конца зала к ним спешили с нелепыми восклицаниями тот, что представился худруком, и еще какие-то две женщины, но Наташа, схватив Артема за руку, шепнула: «Бежим отсюда!» Они нырнули в боковые двери и чуть ли не бегом пересекли пустой вестибюль. Прыгая через ступеньку, вырвались на площадь и пересекли ее в минуту.
Теперь можно бы и к реке, но в какой стороне она? Спрашивать не хотелось. Нужно дать ему прийти в себя, пусть вымолчится, остынет, пусть чувства преобразуются в мысли, ведь с мужчиной можно общаться только на уровне мыслей, но не чувств… Да и самой нужно успокоиться, вон как пальцы напряжены, не разжимаются на рукаве его куртки.
Бочком протиснулась коротенькая мысль о том, что, наверное, нехорошо, если ей не хочется туда, где больной отец и где мама, но так бывает, и это в порядке вещей, в том нет предательства, но есть жизнь…
Кажется, они шли той же самой улицей. Но тогда она была пуста. Теперь же то тут, то там – люди, около домов, в палисадниках, у водоколонок, и все оглядываются на них, в том тоже какая-то хорошая справедливость. Но все же лучше бы сейчас выйти из деревни. К речке, или в поле, или в лес. Идти петляющей проселочной дорогой, нарвать цветов, настоящих, полевых… И говорить вовсе не обязательно… Вот только одно серьезное неудобство – она не видит его лица, а им сейчас уже пора хорошенько посмотреть друг другу в глаза. Он, скорее всего, не выдержит, отведет взгляд, виноват же…
– Скажи, у тебя с этой, с «розовой кофточкой», это же так, баловство, да?
Взгляд, который он кинул на нее, был слишком коротким, чтобы угадать, но желваки она заметила и пожалела о своем вопросе. Не следует мужчину тыкать носом в его собственный стыд, закомплексуется, чего доброго, потом раскачивай его! Не ответил. Она обхватила его руку, плечом прижалась к ней, он должен понять, она раскаивается, она закрывает навсегда эту тему. Тем более что никаких недобрых чувств не питает к дочке гостеприимного директора школы, она очень даже понимает ее, ведь несусветная глупость – это так называемое целомудрие, и очень даже досадно, что на нем сейчас жесткая куртка, а на ней такое же жесткое джинсовое платье, а хотелось бы полного прикосновения, она уже знает, как оно взволновало бы ее.
– Можешь сказать, о чем ты сейчас думаешь? – почти шепотом спросила она.
– Могу, – ответил он, хмыкнув.
«Не рано ли?» – забеспокоилась. Не торопит ли события, отстоялся ли настолько, чтобы произошел разговор понимающих друг друга людей, чтобы ни одной фальшивой интонации, ни одного слова двусмысленного или просто лишнего.
– Ну, скажи.
Щекой она почти прижалась к его плечу.
– Я думаю о том, сколько репетиторов померло, пока они выучили тебя барабанить всю эту ретруху.
Рука, плечо, щека – по всей плоскости соприкосновения ожог такой силы, что темнота в глазах. Она оторвалась, отклонилась, закачалась от нестерпимой боли. Он схватил ее за руки выше локтей, сжал так, что кисти онемели.
– Ну да! Ты же привыкла, что весь мир существует для тебя, ты, так сказать, в центре, а вокруг тебя одни декорации и манекены. Ты ресничками хлоп-хлоп, и все перетусовались, как тебе удобнее!
– Пусти! – простонала она.
– Тебе и в голову твою подкремлевскую прийти не может, что у этой, как ты сказала, «розовой кофточки» может быть не только имя человеческое, но и душа настоящая! Верхи все могут, низы ничего не хотят!.. Я вот, к примеру, зачем тебе?
– Пусти, пожалуйста, пусти!
Она взглянула ему в глаза и вдруг заплакала, заревела, сотрясаясь от судорог, что начинались где-то в груди и по всему телу… Смотрела на него и ревела. Громко, почти не слыша его брани.
– …от нечего делать?! Приехала – покорила? Я таких, как ты, с вашими бетховенами в гробу видал! Понятно?!
Он отпустил ее, и она чуть не упала. Пятясь от него на всю ширину улицы, сотрясалась от рыданий. Откуда-то сбоку услышала грубый женский голос: «Эй, ты, чего девку обижаешь!» Он шагнул было к ней, она вскрикнула и побежала.
Бежала, чтобы спрятаться от всего мира, от всех, кто мог бы ее видеть, понимать и сочувствовать. Или злорадствовать. Сворачивала в узкие улочки, оказалась в пролете между огородами, тропинкой выскочила к реке.
Разве можно утопиться в этой жалкой проточной луже, когда она еще в десять лет, обученная бывшим олимпийским чемпионом, плавала как рыба.
Истерика прошла. Она смотрела на воду и успокаивалась. Противоестественное, глупое и позорное чувство, овладевшее ею, словно вышло из души, и на некоторое время задержавшись поблизости напротив, чтобы она могла спокойно рассмотреть его, затем плотным туманным облачком стало отдаляться, на том берегу реки она еще видела его, но через мгновение это была всего лишь точка на горизонте. Исчезающая точка. Надо было дождаться темноты… Или вернуться в город, где не бывает горизонтов.
Было стыдно. Но это ее личное дело. Она заслужила, потому что дерзнула выйти за пределы реального мира и вступила в отношения с фантомами, с голограммами, имитирующими реальность. Он… этот объект ее ошибки, оказался прозорливее, он сразу понял, что и она для него – фантом, и высек, и отхлестал, и поставил на место. Молодец! Она всю жизнь будет благодарна ему за урок, она его никогда не забудет…
Надо было возвращаться. А для того чтобы возвратиться, нужно было снова обо всем подумать по-доброму, например, об этой речке – что она красиво изгибается ивовыми берегами, что звук движения воды ненавязчив, как и голоса невидимых птиц, что воздух вокруг хорош и в меру прохладен, что вообще все вокруг миролюбиво, спокойно и даже дружелюбно, и потому нет оснований для того, чтобы ломать пальцы и хрустеть суставами, пальцы ни в чем не виноваты перед ней, скорей, она виновата перед ними, и эту вину она искупит всей оставшейся жизнью. Еще она виновата перед реальными участниками ее жизни – перед отцом и матерью, и это тоже будет исправлено.
Некрасивая женщина с красивыми, большими синими глазами коротко и исчерпывающе точно объяснила Наташе, как выйти к дому директора школы. Еще из-за последнего поворота, увидев у калитки «Волгу», Наташа побежала. Ее, запыхавшуюся и испуганную, в дверях перехватила мама.
– Ну, где же ты гуляешь? Сейчас уезжаем!..
– Почему сейчас? Ведь завтра же…
– Я прозвонилась в район. Нам здесь делать нечего.
– А что папа?
Тут же появился и папа. Он крепко обнял Наташу, она не помнила прежде за отцом таких нежностей, встревоженно взглянула ему в глаза. Он выглядел уставшим или… старым, хотелось жалеть его очень большой жалостью.
– А где Артем? Он разве не с тобой? Я не могу уехать, не попрощавшись с ним. Знаешь, Наташенька, я обещал помочь ему кое в чем, а получается, что обманул, а он такой замечательный человек. Любаша, как же быть?
Вокруг них засуетились Сергей Ильич с его улыбающейся дочкой… Наташа не вспомнила ее имя… Они пытались отговаривать от поездки, отговоры были чистосердечны, но мама была неумолима, папа растерян, а Наташа металась взглядом от отца к матери, от матери к отцу, изъявляя абсолютную готовность к любому их решению.
– Ты не волнуйся, папа, – шепнула отцу, – этот парень без тебя не пропадет.
Мама поблагодарила ее взглядом, и все начали прощаться друг с другом, передвигаясь по комнате вокруг папиного чемодана и маминой сумки. «Розовая кофточка» чмокнула Наташу в щечку и шепнула: «Приезжайте просто так, отдохнуть!» «Спасибо!» – ответила Наташа и пожалела, что не запомнила ее имя, а при прощании никто, как назло, ее имени не произнес.
Пока шли до машины, папа искрутился:
– Ах, как нехорошо! Любаша, я чувствую себя просто…
Он был очень трогателен в этой своей тревоге. Трогателен и жалок. Мама же оставалась совершенно равнодушной к его беспокойству, делала вид, что не замечает его, и в том тоже была какая-то необычность, странность, Наташе непонятная. И расставание у машины мама сократила до минимума, буквально впихнув их с отцом в машину, а дверцей, сев с водителем, хлопнула так резко и решительно, что Наташа с отцом внезапно и с равным испугом переглянулись.
В машине папа продолжал вертеться и этим начал раздражать Наташу. Ей хотелось сказать ему открывшуюся ей правду об отцовском любимчике, но даже подумать было страшно о таком проговорении, потому что с такого момента – возьми и скажи она – навсегда исчезнет образ отца, справедливого человека и мудрого государственного мужа. А что останется? Это прикосновение к его плечу и слезы, что наворачиваются на глаза при одной только мысли о том, что жизнь – не вечное продолжение времени, но неизбежное стремление к концу всего существующего одновременно с тобой и опережающего тебя в скольжении в никуда… Впереди не радость, а утраты и затем одиночество…
На дорогу выскочил странный старикан. То ли он хотел перебежать… но подергался и отскочил назад к палисаднику. Наташа даже вскрикнула, так крепко вцепился ей в руку отец. Когда, тормознув, проехали, они одновременно с отцом оглянулись назад. Старик стоял, опустив руки, и смотрел им вслед.
– Господи, чуть не сбили, – прошептала Наташа.
Отец был бледен.
Когда отъехали достаточно далеко от деревни и деревня скрылась за холмами, отец вдруг попросил остановить машину.
– Хочу еще раз на одно место взглянуть, – сказал он, словно извиняясь перед всеми.
– Только я с тобой, – потребовала Наташа.
Он кивнул, а мама промолчала.
Они преодолели кустарниковые заросли и взобрались на пологий холм. Глазу открылась безобразная и безбрежная черная яма. Наташа удивленно посмотрела на отца. Он понял взгляд и, отдышавшись, сказал:
– Когда-то здесь был прекрасный луг. Лучшие сенокосные угодья во всем уезде. Божеполье называлось. Божье поле…
Такое, однако же, представить было невозможно, и Наташа просто поверила на слово.
– Когда-то вот там… – Он указал в середину грязно-черной ямы… И замолчал, опустив руку. Что-то происходило с его лицом, разнообразные чувства прочитались бы по движениям бровей, губ, по меняющемуся выражению глаз, по судорогам щек. Наконец это очевидное смятение чувств прекратилось, лицо застыло, и сам он весь выпрямился, собрался, – это был прежний, хорошо знакомый ей человек воли, ума и достоинства, а в сосредоточенности лица проглядывалось еще что-то похожее на злость, на большую злость…
На обратном пути он отказался от ее руки и в машину уже не влез, как в деревне, а подошел и сел. И только бледен был непривычно…
* * *Самолет пересекал пространство. Тайна и чудо заключалось в том, чтобы сесть, пристегнуться, закрыть глаза в одном измерении, а затем через некоторое время очнуться в другом, знакомом и привычном, где все немногочисленное количество объектов восприятия реально и однозначно по смыслу, без подвохов, сюрпризов и перевоплощений. Чем уже мир, тем достовернее он.
12
Чем уже мир, тем иллюзорнее его равновесие. Так начинала понимать Любовь Петровна. Это горькое и обидное понимание пришло не сразу, то есть оно пришло очень поздно, катастрофически поздно. Лучше бы ей не понять этого никогда. Но если понято и поздно, то как жить и чем жить? К тому же такое открытие не приходит одно, оно влечет за собой еще более горькие понимания, от которых уже становится так тошно, что пропадает желание жить. Желание умереть не приходит тоже, и маета поселяется в сердце, и руки опускаются. Впрочем, насчет рук – это к слову. Глаза боятся, а руки, как известно, делают.
Отъезд мужа как раз кое в чем развязал руки. В кратчайший срок Любовь Петровна провернула дело с дачей и гаражами и теперь могла быть спокойна хотя бы в этом отношении, потому что вчерашние лакеи и лизоблюды все громче начинали вопить о «привилегиях», и мелкие, острые их зубки хронометраж но постукивали с экрана телевизора. Лакеи требовали доли. Скоро они войдут во вкус и будут требовать всего. А власть пятится и оправдывается. Как же не вцепиться ей в глотку и не отведать кровушки!
Жорж пригласил ее на вечеринку по поводу юбилея известного диссидента-разрушителя. Именно по поводу, потому что самого юбиляра не было и, как выяснилось, не могло быть именно в этой компании вчерашних подпевал, а ныне борцов за человеческие ценности. Она ожидала, что это будет богема, пестрохвостые гении слова и красок, приготовилась к выслушиванию интеллектуального бреда о страдальческой миссии творческих личностей, находящихся между молотом и наковальней, то есть между тупой властью и злобной толпой. В прошлом это была коронная тема собутыльников Жоржа. Но ошиблась. Ничего подобного! Она оказалась в компании анонимов. Знакомя ее с присутствующими, Жорж был предельно лаконичен: «Замечательный человек!», «Замечательный человек и надежда России!», «Об этом человеке ты еще услышишь!», и ни слова о социальном статусе «замечательных людей». Только исключительное умение владеть собой, своим лицом и голосом спасало в этот вечер Любовь Петровну от оплошностей. Изумлению ее не было предела.
Во-первых, все «замечательные» в один голос несли генсека за то, что он, оказывается, разрушает медленно, нерешительно и не до конца. Любовь Петровна высоко ценила свое личное отношение к Первому – она его ненавидела… А эти – презирали! И она почувствовала себя обкраденной и обманутой. Оказалось, что она принижала себя, привязав такое великое чувство, как ненависть, к человеку, того недостойному. Чтобы отстоять себя, Любовь Петровна торопливо приговорила компанию Жоржа к простейшей формуле: черти, бесы, домовые, леший и прочая мелкая нечисть взбунтовалась против своего родителя и тешится собственной смелостью и дерзостью. Но увы! Приговор был воистину тороплив. Он только помог ей войти в роль простушки, которой повезло оказаться в одном помещении с «замечательными людьми». Жорж – молодец, оценил ее игру, не раз восхищенно подмигнув ей. Все же прочие, слишком занятые собой и друг другом, поначалу еще раз-другой обращались к ней как к равной, но скоро совершенно выключили ее из своего общения, а один, который «надежда России», небрежно хлопнув ее по коленке, толком не обернувшись даже, попросил «повторить кофейку», что она и выполнила с удовольствием под многозначительное мерцание Жоржевых зрачков.
Удовлетворение собственной игрой было непродолжительным. Добросовестность требовала определиться относительно множества разноречивых эмоций и впечатлений, штурмовавших крепость поспешно сотворенной формулы мелкого бесовства компании Жоржа.
Каждый из присутствующих в отдельности внешне был вполне симпатичным человеком, за исключением, разумеется, невероятно раскрашенной дамы, тоже «замечательной», основательницы какого-то двусмысленного фонда. Убежденная в том, что женщины всегда проницательнее мужчин, Любовь Петровна именно с ее стороны ожидала опасности разоблачения. Но «замечательная» с минуты знакомства определенно решила, что имеет дело с любовницей Жоржа, и вовсе не удостаивала Любовь Петровну внимания, чем безусловно обнаружила свою глупость и самонадеянность и в течение всего вечера успешно демонстрировала эти качества то длинными монологами, то многозначительными репликами, то откровенным игнорированием мнения собеседников. Все, что она говорила, ничуть не противоречило общему говорению, каждый импровизировал на одну и ту же тему, но она постоянно настаивала на том, что в таком-то вопросе ее понимание точнее, в таком-то глубже, а все прочие не додумываются до сущностей и глубин обсуждаемых проблем.
Убедившись в том, что дама – типичная «разведенка» и «эмансипэ», Любовь Петровна исключила ее из своего контроля и стала присматриваться к остальным, не выпуская из поля зрения и Жоржа, который, к немалому удивлению, весьма умело выполнял роль своеобразного координатора общения, но, как ни напрягалась Любовь Петровна, не могла высчитать направление этой координации.
Вообще же смысл политической болтовни менее всего был предметом интереса Любови Петровны. Совсем иное интриговало и тревожило ее. Впечатление постоянно раздваивалось. То ей казалось, что всех их и каждого в отдельности она видела и слышала по телевизору, что каждый ей визуально определенно знаком, но в то же самое время она буквально холодела душой от предчувствия соприкосновения с совершенно незнакомым ей миром сознания и поведения, что она пребывает в состоянии открытия чего-то столь значительного, что станут неизбежными принципиальные переоценки самых фундаментальных представлений ее о вещах, в правильном понимании которых была уверена абсолютно.
Они говорили, говорили… Более и активнее других самоутверждался еще молодой, не старше тридцати пяти, очень интеллигентно смотрящийся мужчина с вычурно выстриженной бородкой, румяными щечками и задиристой курносостью. Во время говорения он весь сиял, откровенно наслаждался бесспорным преимуществом в грамотности речи, точностью определений, лаконизмом ответов и реплик. Любовь Петровна залюбовалась им, несущим неслыханный вздор. Степень неслыханности вздора сказочным образом превращалась в свою противоположность, – в смысл, способный зачаровать или повергнуть в уныние. Вздор обретал смысл и материализовался в бытие, которое пестрой стенкой, стеной, крепостью выстраивалось перед сознанием Любови Петровны, оттесняя ее мир и ее бытие к опасной обочине, за которой канава, обрыв, пропасть, бездна…
Она зашаталась, теряя равновесие, она оглянулась в поисках опоры и с ужасом поняла, что ее опора – старый человек, старик, так же, как она, до этого момента, до момента горького и страшного прозрения, не подозревающий о существовании иного, нового мира, обладающего всеми качествами реальности и преимуществами молодости. Он возник, он есть, и он ни за что не захочет отказаться от существования. Он, как всякое бытие, подвержен, доступен уничтожению или изничтожению, но разве это под силу старику, сколь мудр он ни будь! Да и мудрость! Совместима ли она с дряхлостью? Сама по себе мудрость – только половина факта. Другая же ее половина – действенность. Бессильная, бесполезная, холостая мудрость – это что? Разновидность социального онанизма? О, Боже! Какая пошлость ввинчивается в мозги!