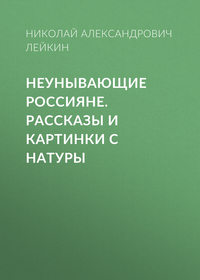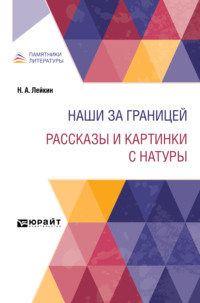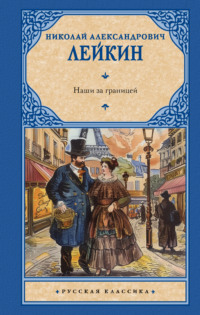Полная версия
От него к ней и от нее к нему. Веселые рассказы
«Зверь зверем! Сейчас нас ругать будет!» – подумали про него приказчики, так как в этот день торговали плохо и в лавке, как на беду, не было в это время ни одного покупателя. Но хозяин молчал, сверх чаяния даже и в лавочную книгу не взглянул, а прямо направился в верхнюю лавку. «Или пьян, или какую-нибудь каверзу задумал сделать», – решили они про него и с недоумением прислушивались к его тяжеловесным шагам и глубоким вздохам, раздававшимся в верхней лавке.
Через четверть часа хозяин заглянул вниз и, обращаясь к «молодцам», сказал:
– Дошлите парнишку к соседу Степану Потапычу. Пусть сейчас ко мне придет. По очень-де нужному делу…
Приказчики ревностно встрепенулись и чуть не взашей погнали за соседом лавочного мальчика. Степан Потапыч не заставил себя долго ждать и через несколько минут уже подымался по лестнице в верхнюю лавку. Оглотков встретил его со скрещенными на груди руками и с поникшей головой.
– Степан Потапыч, друг ты мне или нет? – спросил он.
– Еще спрашивать! Что случилось? В чем дело? Только ежели насчет денег, так денег у меня нет, потому сейчас только по векселю три с половиной екатерины уплатил.
– Что деньги! Не в деньгах дело! Садись.
Купцы сели.
– С измалетства, еще, можно сказать, мальчишками, мы с тобой вместе росли, – начал Оглотков, – каверз друг другу не делали, издевки не творили… Так ведь?..
– Так! Это точно…
– Помнишь, когда ты банкрутиться задумал, так я и товар твой от кредиторов припрятал, а потом, когда дело на сделку пошло, все в целости возвратил и ни единой капли не стяжал. Помнишь?
– Помню и завсегда благодарю… Это точно, в несчастье помог. В чем же дело-то?
Оглотков развел руками и со вздохом произнес:
– А теперь, друг любезный, я сам впал в несчастие!..
– Это ничего. Коли с умом дело повести, так может и счастие выйти. Сколько должен…
– Друг, ты все насчет банкротства, но не в этом дело. У меня совсем другое несчастие. Помоги советом… Как тут быть? Ум хорошо, а два лучше… Ужасное несчастие! И не думал, и не гадал…
– Говори, говори!
– Так нельзя. Побожись прежде всего, что никому не скажешь… Потому тут позор. Узнают соседи – задразнят, и тогда проходу по рынку не будет.
– Ей-богу, никому не скажу…
– Перекрестись!
Степан Потапыч перекрестился и приготовился слушать.
– Приезжали тут как-то ко мне городовые покупатели… – начал было рассказ Оглотков, но тотчас же схватился за голову и воскликнул: – Нет, не могу, не могу! Взгляни на образ и скажи: «Будь я анафема, проклят, коли ежели скажу!..»
– Да, может быть, ты человека убил?
– Что ты! Что ты! Заверяю тебя, что, кроме моего позора, ни о чем не услышишь.
– Коли так, изволь: «Будь я анафема, проклят!» – пробормотал Степан Потапыч и взглянул на образ.
Оглотков обнял его и поцеловал.
– Теперь вижу, что ты мне друг, – сказал он. – Пойдем в трактир, там я тебе и расскажу, потому здесь нельзя: услышат молодцы, и тогда все пропало!
Приятели отправились в трактир. По дороге Степан Потапыч несколько раз приставал к Оглоткову насчет несчастия, но тот упорно молчал. Когда же они пришли и, засев в отдельную каморку, спросили себе чаю, Оглотков наклонился к самому уху Степана Потапыча и слезливо произнес:
– Сегодня мировой судья приговорил меня к семидневному содержанию при полиции.
– Врешь? За что? – воскликнул Степан Потапыч.
– За избиение и искровенение немца!
– Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Поздравляю! Ручку! Литки с тебя! Ставь графинчик!
– Степан Потапыч, да разве я за этим пригласил тебя? Клялся, божился, а теперь издеваться!
– Молчу, молчу! Говори…
Оглотков глубоко вздохнул.
– И ведь немец-то какой! – сказал он. – Самый что ни на есть ледящий и даже внимания не стоящий!
– Ледящий там или не ледящий, а говори по порядку, как дело-то было… – торопил его Степан Потапыч.
Оглотков махнул рукой.
– Да что, и говорить-то нечего! Пошел с городовыми покупателями в трактир запивать магарычи, а после очутились в Орфеуме. Сидим в беседке да попиваем… Ну, известно, выпивши… Вдруг откуда ни возьмись немец: подошел к нашему столу, по-немецки болтает и ну на нас смеяться. Мы ему ферфлюхтера послали, а он ругаться… Взорвало меня, знаешь, вскочил я с места да как звездану ему в ухо да в подмикитки, подмикитки! Товарищи, вместо того чтобы меня удерживать, фору кричать начали, а я рассвирепел да и искровенил его. Ну, известное дело, сейчас полиция, протокол… Пятьдесят рублей немецкой образине давали, чтоб дело покончить, – не взял! И вот сегодня – на семь дней при полиции… – закончил Оглотков и поник головой.
– Дело скверное, – произнес Степан Потапыч. – Так как же, садиться надо? Апелляцию в сторону? – спросил он.
– Какая тут апелляция! Дровокат говорит, что за этот приговор с руками ухватиться следует. Еще милость божия, что у мирового никого из моих знакомых не было, а то бы прошла молва, и тогда просто хоть в гроб ложись!
– Погоди, может быть, еще в газетах пропечатают.
Оглотков всплеснул руками.
– О боже мой! боже мой! За что такое несчастие! – воскликнул он. – Степан Потапыч! Друг! Я пригласил тебя для того, чтобы ты утешил меня, а ты дразнишь! Да и что тут интересного? Экая важность, что человек искровенил немца! А ты вот лучше измысли, как мне быть, чтобы об этом деле не узнали ни домашние, ни знакомые: потому завтра мне садиться следует. Узнает жена, молодцы, пойдет молва, и тогда по рынку проходу не будет… задразнят. Друг, посоветуй, что делать?
– Дело обширное. Коли так, требуй графинчик! Выпьем и тогда сообразим.
Через четверть часа купцы допивали графинчик и закусывали осетриной.
– Скажи домашним, что в Москву по делам едешь, а сам в часть садись. Это самое лучшее будет, – наставлял Степан Потапыч.
Оглотков развел руками.
– Нельзя, – проговорил он. – Во-первых, только три недели тому назад был в этой самой Москве, а во-вторых, там у меня женины родственники. Быть в Москве и не зайти к ним невозможно, а как я из части-то?..
– Ну, куда-нибудь в другой город…
– Тоже нельзя: приказчики догадаются, потому очень хорошо знают, что у меня по городам никаких дел нет. Да к тому же они и повестку от мирового видели, где явственно сказано: «По делу об оскорблении действием…» О господи, господи! Сказать разве, что у меня начинается оспа и отправиться будто бы в больницу…
– А навещать придут?
– Запретить. Объявить, что у меня самая злющая черная оспа. Или не сказать ли лучше, что у меня чума?..
– Посылки со съедобным посылать начнут. Да и что за радость болезнь на себя накликать? Чума! Разве ты лошадь?
– Что же делать-то? Что же делать-то? Степан Потапыч, решай! Ведь завтра садиться надо! – воскликнул Оглотков и чуть не плакал.
Степан Потапыч щипал бороду, чесал затылок и соображал. Вдруг лицо его просияло.
– Нашел! – проговорил он, ударяя себя рукой по лбу. – Нынче у нас Великий пост – прекрасно! Ты не говел еще?
– Нет. На Страстной неделе хотел…
– А коли не говел, так скажи всем, что едешь говеть в Новгород, в монастырь, и тогда преспокойно садись в часть.
– Вот так голова с мозгами! Друг, ты меня воскресил из мертвых! – воскликнул Оглотков и бросился на шею Степану Потапычу.
* * *В тот же день вечером Логин Савельич Оглотков сидел в кругу своего семейства за чайным столом. Он был в халате, в туфлях, по-прежнему мрачен и тяжело вздыхал. Жена заваривала чай.
– Будешь перед чаем водку-то пить? – спросила она.
– С сегодняшнего дня ни водки, ни рыбы, ни даже и елея не вкушаю, – отвечал он. – Баста! Пора и о душе подумать. С завтрого по всей строгости говеть начинаю…
– С завтра? – удивилась жена. – Так что ж, тогда уж и нам говеть – по крайности все вкупе, за один скрип… Только я не знаю, как мы с Варенькиным платьем успеем, потому новое шить надо?..
– Это уж как хотите, это уж ваше дело, – говорил Логин Савельич. – Сходите завтра в лавку и выберите там, а приказчики отрежут. С завтрашнего дня я ни до чего житейского не касаюсь и еду в Новгород, в монастырь. Там и отговею…
– Как в Новгород? А мы-то как же?
– Вы здесь сподобитесь.
– Ну вот! Что на тебя за монастыри! – с неудовольствием сказала жена. – Будто не все равно, где не говеть, да говеть. Да и что за радость духовников своих менять? Духовников менять – все одно, что по разным верам толкаться…
Логин Савельич пристально посмотрел на нее и дрожащим голосом заговорил:
– Аграфена Гавриловна, ты ли это говоришь? От тебя ли это я слышу? Ты всегда была женщина богобоязненная и вдруг теперь кощунствуешь. Знаешь ли, что через эти самые слова ты сбираешь горящие уголья на свою голову? Разве можно так о святых обителях относиться?
– Да я что же?.. Я ничего… – начала было жена, но муж перебил ее и продолжал:
– Нет, постой, погоди. В монастыре ли говеть или в мире? Здесь соблазн, от слова лихого не убережешься, а там… там другое дело… там благодать! Там схимонах за каждый грех тебя отдельно отчитывает… по требнику… Видишь перед собой постный и согбенный лик и умиляешься, возносишься горе… О господи, господи! Муж за собой чувствует тяжкий грех, хочет замолить его, покаяться, – так и тут ему жена помехой!.. Правда есть сказано: неженивые да не женитеся.
– Логин Савельич, да когда же я?.. – слезливо воскликнула жена.
– Бог с тобой, Аграфена Гавриловна, бог с тобой! Муж тяжкий грех на душе чувствует, хочет покаяться, а она – на-поди! Да разве можно здесь тяжкий грех замолить? Я тебя спрашиваю: можно? К примеру, хочешь просвирку за свое здравие съесть, так тут перемешают ее, и ешь ты за чье-нибудь чужое спасенье, а не за свое… А там, по крайности, на нижней корке на просвире прописано и твое имя, и твоих чадов и домочадцев… Там до небес сердцем-то возносишься, горячей пищи не вкушаешь, плоть свою умерщвляешь, а здесь у тебя трактир под рукой… Господи боже мой! – и это жена, жена богобоязненная! – закончил Логин Савельич и умолк.
Аграфена Гавриловна окончательно расчувствовалась от слов своего мужа и даже прослезилась. Видя все это, маленький сынишка Оглоткова фыркнул и уткнулся носом в рукав своей рубахи.
– Вон, постреленок! Ты чего смеешься? – ни с того ни с сего крикнул на него Логин Савельич, но тотчас же спохватился и в прежнем тоне продолжал: – Ты там, как хочешь, думай, а я должен замолить свой тяжкий грех и потому поеду в Новгород. Мне уж и так в нощи видение было…
– Да поезжай, голубчик, Логин Савельич! Поезжай! Кто же тебя удерживает? – всхлипывала жена.
– Явился старец, сединами убеленный, и изрек: «Логин, возьми одр твой…»
– Не рассказывай, голубчик, не терзай моего сердца… – упрашивала его жена, но муж продолжал:
– Наутро я и свечи ставил, и молебен служил, но тяжкий грех все-таки гнетет.
– С Богом, голубчик, с Богом! Варенька вот пелену вышивать кончила, так и ее свези. Пусть в обители хранится… Хорошая гарусная пелена… – бормотала Аграфена Гавриловна и набожно крестилась.
Через десять минут семейство успокоилось и мирно пило чай. Аграфена Гавриловна лизала с ложечки мед и припоминала знакомых, кого помянуть за здравие, кого за упокой.
– Я полагаю, все это можно оставить и втуне… – говорил Логин Савельич. – Потому где мне обо всех упомнить? Мне впору только о своем грехе думать… потому там ведь не так, как здесь. Там утреннее бдение, часы, литургия, вечернее бдение, всенощное, да еще правила разные… Ну-ка, учти!..
– Все-таки Федора-то Леонтьича с семейством следовало бы помянуть… Отец ведь крестный Ванечкин…
– Ну его к богу! Шестой месяц семьдесят рублей должен и не отдает, а на три дня брал.
– А сестру Софью Савельевну?
– Эту бы и можно, да женщина-то она неосновательная! Неделю с ней в мире, а неделю в ссоре, – так что за радость?..
Спустя четверть часа семейство Оглотковых перебралось из столовой в спальную. На столе лежала пелена и бисерный колпачок под паникадило. Аграфена Гавриловна сбирала мужа в дорогу и доставала из комода белье.
– К причастному-то дню я положу тебе сорочку с вышитой грудью… – говорила она.
– Зачем? Ничего лишнего не надо! – крикнул Логин Савельич. – Коли человек кается, так должен быть в смирении, а не о наряде думать. Положи пару белья, полотенце, платки, а новый сюртук я на себя надену.
– Пирожков с грибками не испечь ли, пока кухарка-то спать не легла?
– Говорят тебе, что не токмо что масла, а и горячей пищи вкушать не буду!
Часу в двенадцатом Оглотков тяжело вздохнул и отправился в молодцовую. Молодцы повскакали с мест и начали запахивать халаты.
– Завтра я в лавку не приду, – сказал он им. – Я еду на неделю в новгородский монастырь и там говеть буду. Кузьма Федоров над вами старший остается. Слушаться его, не пьянствовать, со двора не ходить и по трактирам не шляться… Поняли?
– Поняли-с… – отвечали молодцы.
– А теперь простите меня, Христа ради, в чем согрешил перед вами или обидел вас…
Логин Савельич поклонился до земли.
– И нас простите… – заговорили молодцы и также поклонились.
Спустя еще полчаса Логин Савельич хотел уже ложиться спать, как вдруг за дверями спальной послышался чей-то кашель.
– Кто там? Войди! – крикнул он.
– Это я-с… – отвечал старший приказчик Кузьма Федоров и вошел в спальную. – Я к вам, Логин Савельич, можно сказать, с почтительною просьбою. У меня вот тут письмо к дяденьке и пять рублев, так как они, значит, в Новгороде проживают по своей старости, так ежели вам не в труд… Сделайте милость… свезите…
Оглоткова даже в жар кинуло.
– Да что я вам, почтальон достался или рассыльный? – крикнул он во все горло.
Приказчик юркнул за дверь.
– Ну, чего ты сердишься? Ложись спать и спи спокойно! – утешала его жена. – Завтра пораньше встать да послать за каретой… Мы тебя на железную-то дорогу всем семейством проводим…
– Господи! Только этого недоставало! – всплеснул руками Оглотков. – Да что я, на три года в Китай еду, что ли? Карету! Да что у нас, деньги-то бешеные? Это наказание!
– Молчу, молчу, не сердись только!
– Да нельзя не сердиться, матушка! Ты ведь сама знаешь, что дальние проводы – лишние слезы, а между тем провожать хочешь. Что же это и за говение для меня будет, коли ежели без лишений? Ведь я толком тебе говорил, что у меня тяжкий грех на душе и его как следует замолить надо.
– Замаливай, Господь с тобой! Я за твое здоровие калачиков по тюрьмам разнесу… Пусть молятся за тебя заключенные-то…
Жена не посмела его больше тревожить, укрылась халатом и умолкла.
* * *Прошло уже несколько дней, как купец Оглотков сидел в части. Однажды поутру он вышел из арестантской комнаты и шел по коридору в сопровождении солдата, как вдруг сзади себя услышал следующий женский голос:
– Служивый, погоди маленько! Дай заключенному калачика подать!
Оглотков обернулся и остолбенел. Перед ним стояла жена и держала в руках калач. Сзади нее виднелся старший приказчик Кузьма Федоров с корзинкою, наполненною пирогами и сайками.
– Вы зачем здесь? – крикнул Оглотков после некоторого молчания и ринулся на них с кулаками.
Приказчик в недоумении попятился, а Аграфена Гавриловна уронила из рук калач и, как сноп, опустилась на близстоящую скамейку.
– Пожалуйте, господин купец, здесь драться не приказано. Идите, куда вам следовает, – проговорил солдат и схватил Оглоткова за рукав.
Говельщик
С натуры
Великий пост. Первый час дня. В трактир входит пожилой купец и садится за стол около буфета.
– Давненько у нас бывать не изволили, Родивон Захарыч… – приветствует его из-за стойки буфетчик.
– По нынешним дням нашему брату и совсем бы по трактирам-то баловать не следовало, – отвечал купец. – Собери-ка чайку поскромнее.
– Уж не говеть ли задумали?
– Говею. Грешим, грешим, так тоже надо и о душе подумать.
– Это точно-с.
Купец вздыхает. Служитель подает чай.
– Это что же такое? – спрашивает купец, указывая на блюдечко с сахаром.
– Сахар-с… – отвечает служитель и пятится.
– То-то сахар! Ты меня за кого считаешь? За татарина, что ли? Убери блюдечко и принеси медку или изюмцу…
– А ведь это, Родивон Захарыч, я полагаю, одна прокламация только, что вот, говорят, будто этот самый сахар бычачьей кровью очищается. Потому учтите, сколько бы этой крови потребовалось, – замечает буфетчик.
– Прокламация там или не прокламация, а только коли мы истинные христиане, так себя оберегать должны, – отвечает купец и начинает пить чай.
Молчание. В комнату входит тощий купец.
– Родивону Захарычу почтение! – выкрикивает он тонкой фистулой, подает руку и садится против толстого купца. – Чайком балуешься?
– Да… Говею я, был у обедни в Казанской, а вот теперь и зашел. «Да исправится молитва моя» пели… То есть, господи, кажется, целый день стоял бы да слушал! Просто на небеса возносишься…
– А я так летом говел. Признаться сказать, тогда, перед Успенским постом, сделал с кредиторами сделку по двугривенному за рубль, захватил жену и отправился на Коневец. Монашки там маленькие. Прелесть! Даже в слезы введут. В те поры мы не токмо что масла, а даже горячей пищи не вкушали… Да, хорошо, коли кто сподобится! – со вздохом заканчивает тощий купец, умолкает, барабанит по столу пальцами и спрашивает: – А что, не толкнуть ли нам по рюмочке?
Толстый купец плюет.
– Никанор Семеныч, да ты в уме? – спрашивает он. – Человек говеет, а он – водку!.. Пей сам, коли хочешь.
– Я-то выпью…
Тощий купец подходит к буфету, пьет и, возвратясь на свое место, говорит:
– Водка… То есть, ежели сообразить: что в ней скоромного? Гонится она из нашего русского хлеба, монашествующим дозволяется… Пустяки! Чай-то, пожалуй, хуже, потому из китайской земли идет, а китаец его всякой скоромью опрыскивать может… Дай-ка графинчик! – обращается он к буфетчику.
На столе появляется графинчик. Толстый купец вертит его в разные стороны, рассматривает грань и, наконец, вынимает из него пробку.
– Что, или выпить хочешь?
– Нет, что ты! Дивлюсь я, как это нынче пробки эти самые гранят! Чудо! А что, кстати, почем нынче судачина мороженая?
– В воскресенье я по тринадцати покупал.
– Так. О господи, господи! – вздыхает толстый купец, лижет мед, пьет чай с блюдечка и через несколько времени говорит: – А ведь и водка, коли ежели по немощи, болящему, значит, так она во всякое время разрешается, потому лекарствие.
– Всякое былие на потребу, всякое былие Бог сотворил, – отвечает тощий, глотает вторую рюмку и тыкает вилкой в груздь.
Молчание. Толстый купец вздыхает и потирает живот.
– С утра вот сегодня нутро пучит, – говорит он. – Даве в церкви так и режет, пришел в трактир – поотлегло, а теперь вот опять…
– Простуда… Сходи в баню да водкой с солью… да внутрь стаканчик с перечком… Бог простит.
– То-то, думаю… Баней-то мы, признаться, вчера очистились, а вот внутрь разве?.. На духу покаюсь. Ах! Как сегодня отец Петр возглашал: «Господи Владыко живота моего»… Умиление!.. Пришли-ка графинчик с бальзамчиком!
– А на закуску семушки?.. – откликается буфетчик.
– Чудак! Человек говеет, а он рыбой потчует! Пришли сухариков…
На столе стоит графинчик с «бальзамчиком».
Толстый купец выпил и говорит:
– Рюмки-то малы. С одной не разогреть.
– А ты садани вторую… Даже и в монастырском уставе говорится: стаканчик. Мне монах с Афонской горы сказывал… ей-богу!
– Зачем стаканчик, мы лучше рюмками наверстаем… Закусить вот разве? Андроныч, – обращается толстый купец к буфетчику, – закажи-ка два пирожка с грибами да отмахни на двоих капустки кисленькой! И масла-то, по-настоящему, вкушать не следовало бы… – со вздохом заканчивает он.
– С благополучным говением! Желаю сподобиться до конца! – возглашает тощий купец и протягивает рюмку.
– О господи, что-то нам на том свете будет!.. – чокается толстый.
Через час купцы с раскрасневшимися лицами сидят уже в отдельной комнате. На столе стоят тарелки с объедками пирогов, осетрины и четыре опорожненных графинчика. На полу валяются рачьи головы.
– С утра обозлили, а то нешто бы я стал пить? – говорит толстый купец. – В эдакие дни и то обозлили. Приказчик в деревню едет – деньги подай, жена платье к причастью… дочке шляпку… Тьфу ты! Даже выругался! Смирение нужно, а тут ругаешься.
– В мире жить – мирское творить! – утешает его тощий. – Что жмешься? Или все еще пучит? – спрашивает он.
– Пучит не пучит, а словно вот что вертит тут…
– Сем-ка мы сейчас бутылочку лафитцу потребуем. Красное вино хорошо; оно сейчас свяжет.
– А и то дело! Вали!
Бутылка лафиту опорожнена. Толстый купец встает с места и слегка заплетающимся языком говорит:
– Пора! Сначала в лавку зайду, а там и к вечерне…
– Полно, посиди! – удерживает тощий. – Для чего в лавку идти? Услышат приказчики, что от тебя водкой пахнет, и сейчас осудят. И себе нехорошо, и их в соблазн введешь. Садись! А мы лучше вторую сулеечку выпьем. Красное вино – вино церковное. Его сколько хочешь пей – греха нет!
– Ах ты, дьявол, искуситель! – восклицает толстый и, покачнувшись, плюхается на стул.
Часы показывают пять. Тощий купец сбирается уходить; толстый, в свою очередь, удерживает его.
– Нельзя, – отвечает тощий. – В Екатерингоф на лесной двор ехать надо. У меня и конь у подъезда. Нужно к завтрему триста штук тесу да шестьдесят двухдюймовых досок.
– Успеешь! Досидим до всенощного бдения. Отсюда я прямо ко всенощной, потому сказано: «Иже и в шестой час»…
– Нельзя. Гуляй, девушка, гуляй, а дела не забывай! Молодец! Сколько с нас?
– Верно! Коли так, возьми и меня с собой! По крайности, я хоть проветрюсь маленько.
– Аминь! Едем!
Через час купцы едут по Фонтанке по направлению к Екатерингофу. На воздухе их уже значительно развезло.
– Мишка! Дуй белку в хвост и в гриву! – кричит кучеру тощий купец.
– Боже, очисти мя грешного! – вздыхает толстый.
– Что? Аль опять нутро подводит?
– Щемит!
– Мишка! Держи налево около винной аптеки!
Семь часов. Стемнело. Купцы выходят из погребка, покачиваясь.
– Не токмо что ко всенощной, а теперь и к запору лавки опоздал, – говорит толстый купец, садясь в сани. – А все ты со своим соблазном…
– Мишка! К Евдокиму Ильичу на лесной двор! – командует тощий купец.
– Да уж теперь заперто, Никанор Семеныч!
– Коли так, жарь к вокзалу!
Через десять минут купцы входят в вокзал.
– Ах ты, господи! – вздыхает толстый купец. – И не думал, и не гадал, что на эдакое торжище попаду! Тут и тридцатью поклонами не отмолишь. Ну, Никанор Семеныч, ты там как хочешь, а в зало, где это самое пение происходит, я ни за что не пойду.
– Нам и в отдельной комнате споют.
– Боже мой! Боже мой!
Часа через два купцы, как мухи, наевшиеся мухомору, бродят по буфетной комнате.
– Принимаешь на себя весь мой грех? – спрашивает толстый у тощего.
– Все до капельки принимаю.
– Врешь?!
– С места не сойти!
– Коли так, значит, друг!
Купцы целуются. Мимо них проходят две девушки.
– Охота это кавалеру с кавалером целоваться! – говорит одна из них и лукаво улыбается.
Толстый купец скашивает глаза.
– Какую ты имеешь праву кавалерами нас обзывать? – огрызается он.
– Ну, господа купцы, коли так…
– То-то. Почет, брат, нам с тобой, Никаноша! – восклицает он.
– Хоть бы холодненьким угостили за почет-то…
– Вчера бы пришла. Нешто по эдаким дням пьют шипучку? Тут дни покаяния, а она на-поди!
– Верно, на ярмарке прогорели, так оттого и каетесь?
– Что? – восклицает толстый купец и вытаскивает из кармана бумажник. – А это видели, чем набито? Ну, теперь садись и требуй три бутылки белоголовки!
– В отдельную комнату пожалуйте, ваше степенство. Там будет много сподручнее! – предлагает лакей.
– Веди! Да захвати с собой и вазу с апельсинами для барышень!
– Загуляла ты, ежова голова! – вскрикивает тощий купец и следует за товарищем.
Второй час ночи. Толстого купца лакей сводит с лестницы. Тощий кой-как следует сзади. У подъезда стоит кучер.
– Ах, грехи! Хоть бы к заутрени-то сподобиться поспеть, – коснейшим языком бормочет толстый купец и лезет в сани. – Никаша, поспеем? – спрашиваете он товарища.
В ответ на это тот только икает.
– Вези да оглядывайся! – говорит кучеру лакей. – Грузны очень. Долго ли до греха!
– Не впервой! Сначала хозяина отвезу, а потом и гостя домой предоставим, – отвечает кучер.
Через час кучер, сидя рядом с толстым купцом и придерживая его рукой, возит его по Ямской.
– Ваше степенство, не спите! Указывайте, где же вы живете? – спрашивает он купца.
– Прямо!
Сани останавливаются у ворот. На скамейке дремлет дворник.
– Дворник! – кричит кучер. – Иди посмотри, не ваш ли это купец?