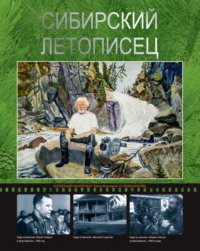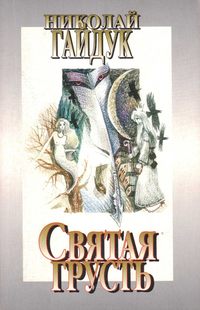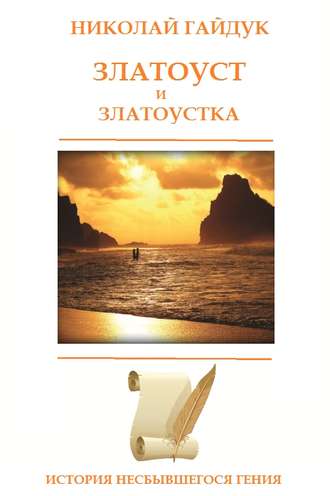
Полная версия
Златоуст и Златоустка
Подкидыш, подавленный величием того, что он увидел в Большой Художественной Галерее, глаз до утра не мог сомкнуть. Ему расхотелось бумагу марать и ходить по редакциям, по издательствам. Правильно дед говорит – баловство. Лучше на кузне работать, подковы на счастье ковать.
Утро было серенькое. Тихое. И даже Музарина, всегда румяная, была в это утро поблекшая, глаза погасли; она, видно, сердцем почуяла, что не скоро увидит Ивашку, который объявил, что уезжает.
Азбуковед Азбуковедыч попытался отговорить, но вскоре понял: бесполезно. И тогда пошёл он переодеваться, чтобы проводить в аэропорт.
– Надел бы шапку-невидимку, да и всё, – посоветовал парень.
– По Сеньке шапка, а по ядрёной матери колпак, – ответил Абра-Кадабрыч. – Шапку-невидимку можно износить по пустякам, а когда приспичит, то шапка не сработает. Шапку, парень, надобно беречь. Так что я сегодня, в это серенькое утро, буду серый скромный житель Стольнограда. Ну, ладно, почапали. В третий раз, между прочим, уже сбираемся. Бог любит троицу.
Музарина зарделась на пороге прощания, чмокнула парня в щёку и отпрянула.
4И наконец-то шумный Стольноград – разноцветный и разноязыкий, суетливый, крикливый и шепотливый, прекрасный, но всё-таки гранитами угнетающий душу, – Стольноград остался за спиной. Небо за городом – словно с колен поднималось, в полный рост распрямлялось, зачёсывало набок русую чубину облаков, пронизанных солнцем. И дальше, дальше небо – сочно и просторно – открывало синие глаза. С перезвонами и перещёлками запели птицы, бойким бисером бросаясь там и тут… Ветер встрепенулся в кустах, в деревьях – на краю аэродрома. И заслышался гигантский гул, легкой лихорадинкой наполняющий землю.
– А как же с билетом? – заволновался Подкидыш. – Кассирша говорит…
– Жди меня здесь! – приказал старик, облачённый в серую сермяжку старорежимного покроя с позолоченными пуговицами, на которых красовались то ли царские, то ли дворянские гербы и вензеля. Только это было не сукно, в котором спаришься по нынешней погоде – эта современная сермяжка походила на сюртук общеевропейского покроя из легких, «летних» тканей.
Подкидыш стал рассматривать репродукции, засиженные мухами: горы, водопады. Это были картины современных художников – от слова «худо». После вчерашних полотен Подкидыш на все эти мазюкалки даже вполглаза смотреть не хотел. Да и некогда было…
За спиной раздался бодрый голос:
– Корыто подано! – Абра-Кадабрыч потрясал билетом над головой. – А ты боялся!
– Достал? А кассирша говорила…
– Кассирша не пророк. – Старик с любопытством поглядывал по сторонам. – Ох, как тут всё расстроилось. Муму непостижимо. Кругом стекло и мрамор. Я не был тут, наверно, лет сто тридцать…
Простован недоверчиво покачал головой.
– Столько не живут!
– А я не живу – существую. Оруженосцу от литературы ни пенсии, ни выходного пособия. Нет, я не жалуюсь, ты не подумай. Это к слову пришлось.
Посмотрев на билет, Подкидыш увидел солидную сумму.
– А как же я деньги верну? Куда можно выслать?
– На деревню девушке. – Азбуковедыч улыбнулся. – Деньги – пыль на дорогах истории.
Услышав этот каламбур – «на деревню девушке» – Подкидыш вдруг ощутил какой-то удивительно знакомый аромат, облаком прокатившийся рядом. Он не сразу понял, что это, а вернее – кто это. Это была Музарина, влюблённая в него. Музарина, плутовка, взяла без спросу шапку-невидимку и до самого трапа проводила парня и поцеловала напоследок. И вот когда она поцеловала – тогда только дошло до парня, что это за облако ароматами дышит. Но это открытие он сделает немного позже, а пока он слушал тираду старика.
– Сынок! Поезжай до дому, пиши, как знаешь, дуй во все лопатки и никого не слушай. Знаешь, как сказал один французик, с которым я встречался в прошлом веке или позапрошлом, дай бог памяти. – Вспоминая, старик поцарапал загривок. – Французик этот, каналья, очень ловко тогда завернул. Дайте, говорит, мне две любые строчки любого поэта, и я приговорю его к гильотине. Ты понял?
– А что это такое? – рассеяно спросил Ивашка, вдыхая странный аромат незримого облака. – Гиль… тина… Или как её?
– Гильотина? Ну, это тот же топор, только с французским акцентом. Понятно? Так что пошли они, эти козлы… Алхимики, алфизики и всякие другие мудрецы. Вот уж кого надо под топор! – Абра-Кадабрыч ладонью рубанул по воздуху и неожиданно закричал: – Рубить надо! Рубить дурные головы! Рубить как острохамские арбузы!
– Тихо. – Подкидыш стал озираться. – Народу полно.
– А что народ? Народ у нас безмолвствует! – раздухарился побледневший старик, промокашкой вытирая потный лоб. – Как я давеча просил, как умолял Солнце русской поэзии. Будь другом, говорю, возьми да напиши: «Народ глаголет! Народ кипит!» Так разве он послушает. Повеса.
Поначалу Ивашка стеснялся; казалось, весь народ аэропорта только то и делает, что смотрит на них и даже пальцем показывает. Однако людям было не до того, они горели жаждой как можно больше чего-то увезти из богатого Стольного Града. Свертки, коробки, авоськи, упаковки и вязанки всевозможных товаров – всё это время от времени наплывало откуда-то из дверей, настырно и тупо толкало то справа, то слева, то спереди, то сзади. И никто из этих деловых и суетливых граждан не обращал внимания на болтавшего старика. Только однажды милиционер мимо прошёл, покосился.
И наконец-то объявили посадку. И в эту минуту Ивашка вдруг ощутил странно-щемящее, болезненно-сладкое чувство родства, чувство единой крови с этим чудаковатым и необыкновенным Стариком-Черновиком. И показалось, будто они уже давным-давно знакомы, и хорошо понимают друг друга.
– Спасибо, – смущённо сказал парень. – До свиданья, стало быть, и это… Привет и поклон Музарине…
– Да, да, конечно. Будьте здоровы быки и коровы. Пока, пока. Долгие проводы – лишняя проза. Иди на ковёр-самолёт. – Старик обнял его и не сдержался от каламбура: – Я иду по ковру, ты идёшь пока врёшь… Я правильно склоняю или нет? Ха-ха. Бороду даю на отсечение, что ты сейчас глядишь и думаешь, будто я из дурдома сбежал.
– Ну, вот ещё! – Парень вздёрнул подбородок.
– Сейчас твоё лицо, – сказал старик, – напоминает мне лицо надменного лорда Байрона. Это хорошо. Это обнадёживает. Ну, всё, ступай, ступай…
Старик что-то ещё хотел сказать, но вдруг заметил на полу капельку, упавшую откуда-то словно с потолка. (Это была слеза Музарины).
– Странно, – пробормотал он, поднимая голову. – Дождика нет, а крыша протекает.
«Что болтает, сам не знает!» – Принюхиваясь, Подкидыш поймал себя на странном ощущении: этот дивный аромат, который в последние минуты преследовал, – дух Музарины, Музы.
5Автобус подвёз пассажиров к могучему лайнеру и, войдя в салон, Подкидыш опять увидел земляка – бодрого, подтянутого лётчика Маковея Литагина, жизнерадостного Звездолюба, которому был доверен огромный ковёр-самолёт Ту-134. И опять на сердце парня стало спокойно, светло, будто встретил старшего брата или друга по духу, по мечте и дерзновенности.
Приятный человек был Маковей Литагин; добравшись до высокого летчицкого кресла, он остался верен своему характеру – открытому, приветливому, не думал много о себе, не зазнавался.
Когда самолёт набрал необходимую высоту и занял привычный эшелон, командир передал управление своему помощнику и ненадолго покинул кабину.
Пройдя по ковровой дорожке – вот уж действительно ковёр-самолёт! – Звездолюб остановился около Ивашки. Присел на свободное место – напротив. Поправил свой двубортный тёмно-голубой костюм из чистошерстяной материи на шёлковой подкладке.
– Ну, как? – улыбчиво спросил. – Не зря смотался в Стольноград?
– Отлично! Где только я не побывал, что только не повидал…
– Молодец! Я рад за тебя!
– А я за тебя, – простодушно ответил Ивашка, рассматривая позолоту каких-то наплечных знаков различия Звездолюба. – Ты генерал? Или кто?
Засмеявшись, лётчик неожиданно склонился к нему.
– Земляк! – сказал заговорщицки. – Пошли ко мне в кабину. Хочешь? Ну, пошли. Но только уговор: ты ничего не трогаешь руками.
– Ясное дело! – Парень развеселился. – А ногами можно? Солнце горело где-то сбоку и сзади – лайнер летел на северо-восток на высоте нескольких тысяч метров. А на таких высотах краски изменяются до неузнаваемости. На обочинах небесного пути – то справа, то слева – лениво разрастались зеленовато-золотые облака, похожие на кроны райского сада, уже немного тронутого предосенним дыханием. А там, вдали, в преддверии Господнего предела, верхний край небосвода был червонно-синий с переходом-переливом в голубизну океанской безбрежности, расплескавшейся так широко, что глазам становилось больновато – от перенапряжения, от жадного желания заглянуть куда-то за пазуху горизонта. А тут, вблизи – вдоль крепких многослойных стёкол, которые и пуля не прокусит, – время от времени пробегала рваная дымка, стремительно скрывавшаяся под крылом или серебристой паутинкой мелькающая вдоль фюзеляжа.
– А у него какая скорость? – поинтересовался Ивашка.
– Летит быстрее молнии! – пошутил Звездолюб и скороговоркой добавил: – Крейсерская скорость – восемьсот пятьдесят. Потолок – двенадцать тысяч сто.
– Ого! – Подкидыш посмотрел на потолок кабины. – А что это за лампочка мигает?
– Вот эта? – Литагин улыбнулся. – Эта сигнальная лампочка. Она говорит, что, мол, хватит постороннему в кабине находиться. Хорошего, мол, понемногу.
Парень засмеялся и ушёл на своё место. Долго смотрел в иллюминатор, будто заснул с открытыми глазами.
Величаво, неспешно ковёр-самолёт всё летел и летел над землею. Летел, сверкая серебром и золотом узоров на крыльях, на фюзеляже, плавно покачивался на воздушных лазоревых волнах, с облако на облако соскальзывал, будто с одной белоснежной горы на другую. Улыбаясь, Ивашка отрешённо думал, что примерно такие же горы были в детстве у него. Чистые-пречистые снега запомнились – облакообразно громоздились под окнами, вспухали во дворе, на огородах. А снегири залётные – весёлые да искромётные – как проблески зари полыхали среди белоснежных, не примятых никем облаков.
Летел Ивашка – и в ус не дул. Спокойненько парил, вольготно лёжа на боку и подперев одной рукою щёку, за которой медленно истаивала «взлётная» карамелька, не схрумканная сразу, а припасённая для сладкого мечтания. Он отдыхал и телом и душой. Не думал ни о чём и не загадывал – что там, как там будет впереди? На часах истории русского Ивана была такая редкая, прекрасная минута, когда можно просто так любоваться милою землёй – от края и до края горизонта. Смотри, любуйся, впитывай в себя волшебные картины Родины твоей. Смотри и удивляйся – как много тут лесов и гор, как много рек, озёр, полей. А сколько сёл и деревень, и городов промелькнуло уже под ковром-самолётом! А сколько ещё промелькнёт! Какая огромная это земля – Россия-матушка, Святая наша Русь! Какую упрямую, гордую силу даёт она русскому сердцу, русскому духу!
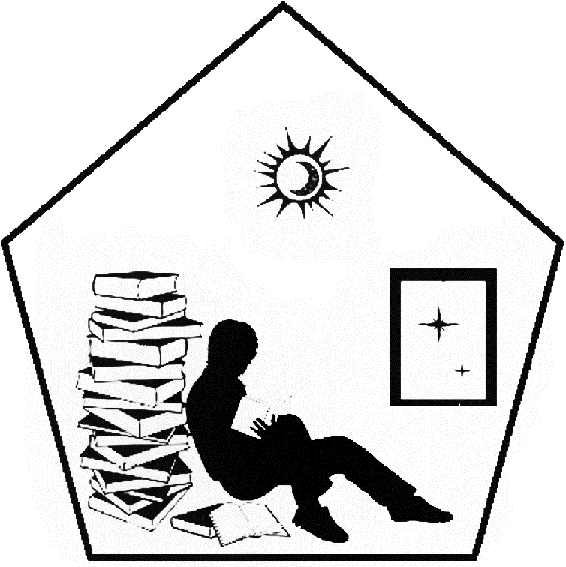
Глава шестая. Великогроз
1Несколько веков тому назад Житейское море было необитым, но всё-таки в бухте Святого Луки встречались корабли древних греков – триеры, биремы с боевыми башнями; древнерусская ладья на волнах баюкалась; лёгкие стремительные струги. Загружая трюмы необходимой провизией и порохом, корабли разбегались – по всем направлениям Розы Ветров. И никто теперь уже ни в каких папирусах не найдёт названия того корабля, который однажды взял на борт отчаянно-весёлого матроса, рискнувшего пуститься на открытие новых земель. И никто не скажет, после какого шторма или урагана от корабля остались одни щепки, а от команды остался один матрос. Оказавшись на пустынном берегу, он уходил всё дальше и дальше от моря – ураганный ветер гнал по свету. И забрался он в тайгу, в такое заветерье, в такую глухомань, где проживают русалки да лешие, где паутинка в тишине дрожит-звенит как струночка на гуслях.
Легенду эту рассказывали прадеды, легенду о том, как появилась деревня Изумрудка – скромная, старинная, десятка три-четыре тёмных от времени кондовых изб, вольготно стоящих на берегу светлоструйной реки Изумрудки, шумной и шустрой в верховьях, а возле деревни спокойной, протекающей между громадными белыми валунами, похожими на черепа доисторических чудовищ.
По поводу названия реки и деревни ходило много россказней. Кто-то говорил, в здешних заводях в старину водилась утка-изумрудка, такое изумрудное имела оперение, какого не встретишь у павлина. А ещё рассказывали, будто охотник утку подстрелил, а у неё полный зоб изумрудных камешков. И такую же побаску рыбаки рассказывали: один поймал стерлядку – полное пузо изумрудного груза, а другому попался таймень, набитый самоцветами.
Люди в Изумрудке из века в век жили тихо, мирно: в тайге промышляли, землю пахали. Была в деревне кузница – дело привычное, ремесло прозаичное. Только однажды, говорят, пришёл откуда-то кузнец-волшебник, глухонемой Данила Простован, которого прозвали Кузнецарь. Кроме прозаической работы, которой всегда невпроворот, глухонемой Данила занимался «лирической» ковкой, применял какую-то чёрную магию, известную лишь кузнецам.
Говорят, он сказки сочинял на своей весёлой наковальне. Зимою, например, используя «металл-чародей», он мастерил горячие красные розы, приносил в подарок своей милашке. И эти волшебные розы – несмотря на морозы – до утра горели под окном, расплавляя сугробы и согревая девичье сердце. А иногда Кузнецарь мог на плече притащить наковальню, поставить в зимнем саду возле дома зазнобы – и до утра в саду звенели соловьи-разбойники, сереброзвонили, выбрасывая дивные коленца. (Он был глухой, но не совсем; мало-мало слышал перезвоны). Вот таким манером этот Кузнецарь крепко-накрепко приковал к себе жену-красавицу. И родились у них сыновья; кто в пахари пошёл, кто стал охотой да рыбалкой промышлять. И только старший сын – Великогроз – прикипел к отцовскому рукомеслу. Спервоначала был подмастерьем, на подхвате, на подстуке, а в дальнейшем дорос до кузнеца, потомственного мастера, который каштаны таскал из огня и людям раздаривал – три-четыре окрестных деревни обслуживал.
Глухонемой отец-кузнец передал Великогрозу тайны своего рукоремесла, а перед смертью показал какую-то железную загогулину. Это была огромная куриная лапа, уже почти откованная, – обновка для избушки на курьих ножках. Только нужно было коготь сделать. Оглушёный смертью отца, Великогроз напрочь позабыл про эту лапу – не до того. А когда уже отпоминовали, Великогроз на кузницу пришёл, горнило взялся распалять. И тут появляется какой-то молодчик, похожий на чёрного ворона в человеческий рост; на одной руке три пальца, как три птичьих когтя.
– Отковал? – спросил-прокаркал варначина.
– Чего? Кого? – не понял Великогроз.
– Корову! Тебе разве отец не говорил? Кузнецу не понравилось такое обхождение.
– А как он скажет? Глухонемой.
– Ты шутки свои в другом месте шути! – одёрнул непрошеный гость. – Давай, работай, дядя! Не рассусоливай! А то мы без дела стоим которые сутки…
– Кто это «мы», интересно?
– Значит, папка не сказал? И мамка не поведала? – снова прокаркал нагловатый гость. – А у самого умишка не хватает – догадаться? Нет?
– Ты мне загадки тут не загадывай. – Кузнец играючи поднял пудовый молот. – А то, знаешь, некогда.
Двуногий варначина расхохотался-раскаркался.
– Гроза! Да ты никак грозишь? Успокойся, дядя, нам не надо собачиться. Мы делаем общее дело. Ты бороны куёшь, плуги, а мы ходим-бродим по земле, семена просвещения сеем…
Странный хлопчик популярно рассказал, что вот эта здоровенная куриная лапа, – от избушки на курьих ножках, которая давненько простаивает.
Великогроз набычился.
– Не буду я вам, нечистям, ничего ковать.
Усмехаясь, варначина трёхпалою рукою вынул уголёк из горна – прикурил.
– Тятенька твой был сговорчивей.
– Верни на место уголёк… – Великогроз отбросил пудовый молот. – И ступай отсюда с богом!
– А вот это шиш тебе, – сказал молодчик и трёхпалой рукою фигу скрутил. – Я только с чёртом. Ну, пока. Мы ещё встретимся.
Ворон-человек с необычайной легкостью взял на плечо железное бревно – куриную ногу – и растворился в раноутреннем тумане. А под вечер кузница сгорела. Причём сгорела во время ливня. В небесах грохотал грозобой, сотрясая округу, вода кругом шкворчала как яичница на сковородке. Ливень был такой – сухой иголки не осталось даже под столетней могучей елью, шатром стоящей неподалёку; всё насквозь промокло. И, тем не менее, – сгорела кузня. Одни головёшки остались.
Великогроз, конечно, заново отстроился, для мастерового человека не проблема. Только гордости в нём поубавилось. Кузнец к той поре оженился, пригожую дивчину в дом привёл, и нечистая сила застращала его: дом обещали спалить, с молодою жёнушкой потешиться, и детишек взять на воспитание в избушку на курьих ножках. Делать нечего – пришлось ломать характер. И стал наш кузнец потихохоньку работать на чертей. Иногда коготок откуёт для куриной ноги, задвижку для дверей, топор для палача, ну и так ещё по мелочам. А куда тут денешься? Был бы один, сам себе господин, тогда другое дело, а так получается, как в той поговорке – не привязанный, а визжишь.
Годы шли, ковач крепкую семью себе сковал – два сына, дочка. (Родной-то сын один, а второй Подкидыш). Старшего сына звали – Апора. Парнишка с малолетства землю полюбил; за плугом, как за другом, пошёл по огородам, по родным полям. Дочка – Надёжа, была рукодельница, ковры, полотенца ткала. А третий – Подкидыш, в грозовую ночь нашли на покосе под кустиком, пожалели. Странный был дитёнок. Необыкновенный. Хрусталина, жена, ставшая мамкой для Подкидыша, заметила такую штуку: когда брала ребёнка на руки – вдруг переставала землю под собою ощущать. Ребёнок рос, ребёнок тяжелел, казалось бы, а на самом-то деле – становился будто всё легче и легче. Хрусталина всё реже и реже касалась пола, а потом вообще караул – приподнималась над полом, над землёй. Голова её порой касалась потолка, а если женщина была на улице – могла на несколько минут зарыться в облака, улететь под радугу-дугу после дождя, прикоснуться к звезде или месяцу. Перепуганному кузнецу приходилось к ногам жены привязывать железо, чтоб не улетела. Но всё это было ещё – безобидная присказка. А сказочка такая началась – мороз по коже.
У Подкидыша оказались удивительно устроенные глаза. Он видел то, что другие не видели. Впервые это стало понятно, когда от него прятали соску: мальчик безошибочно смотрел туда, где соска – на правую руку или на левую. А позднее, когда мальчуган повзрослел и старшие дети затевали игры в прятки, он безошибочно находил схоронившихся в тёмном углу или в дальнем чулане. Мальчик видел куриные яйца, когда они в сарайке на гнёздах появлялись под несушками. Видел, как волки однажды зимой в полнолунье прибежали из леса и хотели зарезать корову. Подкидыш, внезапно проснувшийся, переполошил родителей. Кузнец тогда вышел с ружьём, отпугнул. Мальчик видел мать-и-мачеху под сугробами, синие и жёлтые подснежники, кусты и зелёные травы, заваленные снеговищем.
Приёмные родители с потаённой опаской наблюдали, как мальчик растёт, и всё больше и больше тревожились, втайне уже иногда сожалея о том, что усыновили такое чадо. Что из него получится? Кто?
Крёстный у парнишки был – Литагин Серафим Атаманыч. Башковитый мужик. Крёстный однажды присоветовал кузнецу: если, мол, хочешь узнать, кто он будет по жизни – дай мальчишке золотое кольцо. Если ребёнок в рот кольцо потянет – будет красноречивым. Если зажмёт в кулачке – будет богатым. А если выбросит кольцо – быть ему философом.
Кузнец махнул рукой – ерунда, мол, все эти приметы. Но из любопытства решил попробовать. И что бы вы думали? Мальчишка в рот кольцо потянул.
– Златоустом будет! – воскликнул крёстный.
Однако в следующий миг малец колечко выбросил, да так далеко – насилу нашли. Крёстный озадачился.
– Нет, – сказал, скобля загривок. – Быть ему философом.
– Дармоеда в этом доме я не потерплю, – заявил кузнец. – Будет пахать, как миленький.
И Подкидыш пахал, скирдовал – помогал приёмным родителям. Он легко и азартно впрягался в любую работу – глаза горели, но через какое-то короткое время он остывал. Неинтересно было заниматься нехитрыми житейскими делами. Через день да каждый день Подкидыш уходил в тайгу, бродил в полях, всё искал свой философский камень, только не тот, который алхимикам известен как волшебный эликсир, при помощи которого можно металлы превращать в золотишко. Нет. В ту далёкую пору Подкидыш был настолько наивен, что философским камнем называл всякий камень, на котором человек сидит и размышляет – философствует. И таких «философских» камней у него было много – в тайге, в полях, где он подолгу просиживал, думая о чём-то или просто глядя на небеса, на землю. Этот странный отрок всё никак не мог определиться, куда идти, к чему приткнуться. Поначалу за братаном тянулся, пробовал землю пахать, но бросил. Попробовал сестрице помогать – нравилось узоры сочинять на полотенцах, на коврах; когда-то ведь это была великая премудрая наука – письмена, так роскошно исполненные руками потомков. Но скоро он и это бросил – бабье дело, что ни говори, с тряпками возиться.
И тогда Подкидыш отправился на кузницу, издалека похожую на звонкую шкатулку, в которой злато-серебро пересыпается.
Приземистая кузница находилась на краю деревни. Звонкая эта шкатулка, издалека волшебная, вблизи смотрелась прозаично и даже убого; угловатые потемневшие брёвна казались коваными – гвоздя не вобьёшь. Подкидыш был от природы крепким, дюжим, сызмальства охотно стал помахивать игрушечным молотом – тятенька смастерил. А попозже, лет, наверно, с двенадцати одарённый отрок уже вполне по-взрослому помогал отцу – железо мог месить с утра до вечера, не зная устали. Однако и это занятие – по глазам было видно – мало душу грело. Но никакого другого дела под руками не было пока, и потому парнишка продолжал ходить на кузню, помогать отцу.
Помощничка этого Великогроз Горнилыч самолично вытурил и в сердцах наказал: чтобы ноги тут не было. Такой неожиданный гнев приключился оттого, что паренёк тайком на кузнице умудрился выковать старославянский золотой алфавит, каждая буква которого мельче просяного зёрнышка. Два мешка такого проса наковал, стервец, да ещё один мешок пыли золотой – это были точки с запятыми, вопросительные знаки да восклицательные. Великогроз ему тогда врезал сгоряча. Да и как не врезать? Золотой расплав был приготовлен для работы златокузнецов, которые жили в городе – Великогроз иногда золотишко да серебришко выплавлял из каких-нибудь старинных штук, возил на продажу. А Подкидыш этот что наделал? Оставил семью без прокорма. Правда, позднее городской гражданин приезжал, охал и ахал, разглядывая золотой алфавит. И разглядел-то не просто – сквозь лупоглазую лупу.
– Левша отдыхает! – сказал городской. – А кто это сделал?
– Ванька, чтоб ему…
– Твой сынок? А где он?
– Да где-то в тайге околачивается.
После разговора с горожанином Великогроз Горнилыч душою смягчился, хотел опять Подкидыша зазвать на кузницу, но было поздно. С парнем беда приключилась, да не простая беда – золотая. Влюбился парень. Да так влюбился, хоть репку пой…
– Совсем голова у него открутилась, – горевал кузнец. – Плюнул на работу и пошёл, хрен его знает, куда. Царевну какую-то ищет.
Жена улыбнулась.
– Ну, так он же сам Иван-царевич. Пару себе думает сыскать.
– Иван-дурак он, а не царевич! – осерчал кузнец. – Из дому вышибу, так будет знать!
– Угомонись, Вулкан, – с улыбкой говорила жена. – Разбушевался.
В деревне, да и в семье мало кто знал, откуда у него это прозвище – Вулкан. Ну, то, что характер горячий – это понятно, но дело не только в характере, надо ещё знать историю.
2Вулкан Великогроз когда-то находился в Житейском море – неподалёку от города Святого Луки. И где-то там, на острове, у подножья вулкана, как гласит семейное предание, в 17 веке родился богатырь. И нарекли того богатыря – Великогроз. И это было не в бровь, а в глаз. Характер оказался кипящий, вулканический. Человек тот, дерзкий и отчаянный, был капитаном, ходил под чёрным флагом, украшенным Адамовой головой, – старинный символ смерти и бесстрашия. Стремительный корабль Великогроза по морям-океанам летал быстрее молнии, настигая добычу в самых неожиданных местах. И тогда лазурная вода становилась червонно-багровой, и на запах крови к месту побоища торопились акулы – жадно рвали тела убиенных заморских купцов, моряков. А капитан Великогроз приказывал причалить к дикому какому-нибудь острову. Поднимали костры до небес, открывали бочки с вином и ромом, и начинали многодневный пир. А всякий пир, известно, кончается похмельем, от которого башка трещит.
Горькое похмелье изведал капитан Великогроз, когда однажды поутру прочухался и увидел себя крепко связанным. Страшно сказать, что случилось на острове, где проживало племя каннибалов. Аборигены, никогда ещё не пившие такого крепкого хмельного, до того развеселились – всю команду сожрали за ночь. А капитана – как породистого самца – оставили для улучшения своего людоедского племени. Капитану построили отдельный шалаш, в котором поселился целый гарем – штук двенадцать папуасок. Три с половиной месяца капитан Великогроз прожил на том острове, с ужасом глядя на головы своих верных товарищей – отрезаные головы на копьях были воздеты к небу и день за днём какие-то неведомые птицы, похожие на грифонов, терзали черепа, оголяя до белой кости, ослепительно сверкающей на тропическом солнце. Капитан Великогроз плохо понимал тарабарскую речь людоедов, но красноречивый нож в руке вождя – нож, испачканный кровью – хорошо объяснил, что может быть с невольником, если он не станет слушаться вождя. И невольник покорился. Сто дней и ночей капитан улучшал породу людоедов, сотрясая шалаш и окрестные пальмы так, что бананы падали на крышу, а красотки в гареме по ночам и средь белого дня так визжали, так взывали о помощи – людоедов охватывал ужас. Людоеды приходили посмотреть, что вытворяет белокожий зверь – может быть, он живьём пожирает бедных папуасок. Успокоившись, аборигены даже полюбили капитана. Наивные как дети, они подходили к Великогрозу, бесцеремонно приподнимали набедренную повязку и восхищённо трогали священное сокровище.