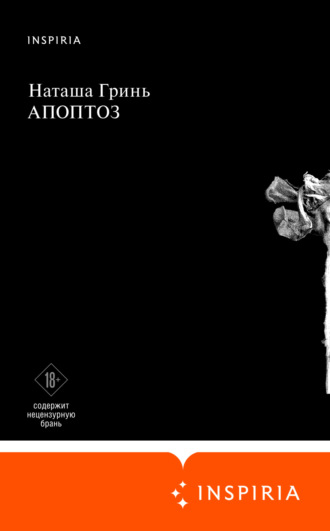
Полная версия
Апоптоз
Чем-то удивленный автомат для выдачи талонов на полувздохе показал язык, и я вяло вырвала его. П033. Почти как мне. Ждать здесь своей очереди, в этом борделе единиц и нулей, как правило, приходится долго. Из вынужденных развлечений – русская ругань, калейдоскоп лиц и витрины с марками. Последние нужны мне, как и первые. Они ведь что-то вроде тайнописи и междустрочья, иногда могут сказать больше, чем разверзшееся чрево конверта. У меня тут есть любимые, намоленные, будто другим невидимые – если кому их и отправлять, то только самой себе. 2017 год, король Сиама Чулалонгкорн и император Российской империи Николай II, 1897 г., 22 рубля. 2018 год, Храм-Памятник на Крови, Екатеринбург, 27 рублей. 2019 год, 100-летие Государственного музея-усадьбы «Архангельское», 35 рублей. 2018 год, А. И. Солженицын, 1918–2008, 27 рублей. И сторублевки хватит за весь наш короткий XX век.
Сегодняшнее письмо мое хотело не как обычно – истории, святых или живописи у себя на соленом лбу, а какого-то позорища или угловатого сюра, вроде вон той кровянистой марки с Марксом или с НТВ, больше похожей на оммаж инопланетянам. Уже не впервой замечаю, что эта почта будто практикует прием по ментальной готовности, ведь ровно в тот момент, когда я делала выбор и нащупывала в сумке кошелек, из аквариумного пластика вынырнула женщина-оператор с улыбкой аксолотля и плоской, как планета Земля, грудью. Мысленно передав привет ее предкам (не с Урала ли?), я спросила, есть ли марки с Путиным, чего уж. Подпрыгнувшие брови женщины отвечали, что, конечно, нет, он же еще живой, на что я вполне серьезно сказала, ну ладно, тогда ждем. И пока ее нервно-икотный смех смывается слюной в желудок, я в таком случае возьму вот эту с Новым годом за двадцать три и давайте парочку историй отечественного пчеловодства, которые восемнадцатого, да. Будет такой ржавый оксюморон. Засветившийся терминал я молча покрыла банковской картой, и вот тут-то и встретились мои пальцы в чернильных язвах с почтовыми бровями, нарисованными по трафарету. Да, похожи.
Черной ручкой я заполнила бирку новорожденного письма, наклеила марки и столкнула конверт в пасть красного почтового ящика. Все, мой почерк переезжает в Европу. Надеюсь, что его приютят в L’Autre Monde или, если будет особенно хорошо себя вести, где-то недалеко от Frohe Zukunft. Может быть, он там встретит девушку, женится на ней, располнеет, раздобреет, раздвоится или даже растроится, купит квартиру побольше, попросторнее, а если денежка позволит – целый дом, как и мечтал. Заведет собаку, будет плакать, когда она умрет от старости. Похоронит ее на заднем дворе. Выдаст своих замуж или зажен, подарит им что-то новое, что-то старое, что-то взятое взаймы и что-то голубое (синь всегда знак). Отпустит тонуть самостоятельно. Потом начнет избегать зеркал, больше курить, наконец засядет писать или побежит фотографировать, не только цветы и пейзажи, а что-то свое – девочек-подростков, одноглазых, женщин в париках. Будет наблюдать, как кренится от ветра паутина, сцепившая крашеный забор и посаженное дерево. При большом желании ее можно будет намотать на палец, как сладкую вату, и вспомнить, как раньше, здесь, ее продавала грузная женщина с выжженными солнцем волосами, в коричневых сандалиях и с сумкой, рассекавшей грудь налаполом. Вкус – банановый. Большая – сто рублей, Средняя – пятьдесят, «Кроха» – тридцать. И все брали «Кроху», не из-за цены, а то ли из-за имени, то ли из-за кавычек. Расскажет про это внукам, а через год – еще раз. Изменит жене – не по злому сердцу, а по неиспользованной возможности. Пожалеет. Обрастет новой машиной и телевизором пошире, чтобы разглядывать тех, кто всегда сзади. Начнет раньше ложиться и раньше вставать. Стричься будет не у парикмахера, а у себя на кухне. Книги станет читать до середины. Свою – забросит. Пару раз забудет, где спрятаны деньги. Найдет старые фото. И вдруг заметит, как время выкипело в седину. Как отомстила кожа. Улыбнется, поплачет в себя и все проклянет. Закрутится в дождь на брошенных детских качелях. Раскручиваться будет разговорами с жизнью через точки и тире, насколько хватит букв. Потом до костей промерзнет, начнет прерываться. Замрет где-то под утро после удара тугой капли по бумаге. Проститься не успеет, не с кем. Все спят, уже или еще. День – и найдут последнюю волю: что хотите, только не огонь. Они ведь горят, еще как – места живого не остается.
Реальность часто опаздывает, вот и тогда не успела подстроиться. Прямо напротив чайного домика, куда выдыхает почта, я увидела старушку в летней шляпе с обкусанной лентой, игравшую на скрипке что-то итальянское, так ель-еле, чу-чуть, с западающими звуками. Абсолютно не российская сцена. Не поднимая глаз, я положила в ее взывающий, застиранный пакет скупые пятьдесят рублей – за морщины, за воспоминания, за близкое ничто, тянущее ко всем руки. Я знаю, она будет здесь и завтра, значит, заплачу дважды.
Течь по улицам всегда приятно, особенно когда цель – внимательно наблюдать, искать, высматривать. Щупать глазами. Что-то. Я делаю так всегда, но не постоянно, когда нужно или хочется. Не я одна у нас такая. Не так давно узналось, что где-то в начале девяностых бабушка вписала в свою тонкую светло-зеленую тетрадь с чучелоподобной надписью «Рецепты» и состарившимся утенком на обложке: «созерцание – это простейшее сложнейшее». А потом захлопнула, всунула ее в нутро советской стенки, завалила шершавыми открытками в блестках и наверняка больше не вынимала, оставила перевариваться. Забыла – сознательно или бес. А я нашла. Вот недавно, когда разбирали вещи в ее сгорбившейся квартире. И если бы бабушку хоть раз удалось сбить с вопросов о том, что я ем, нет, ты конкретно скажи, как учеба и почему нам до сих пор не выделили квартиру в Москве, я напишу письмо президенту, она бы узнала, что внучка ее не спит ночами, любит книги в возрасте и примагничивает всех городских безумцев с масляными глазами, так само получается. Мы с ними давно сошлись. С ума. Что она тоже знает, каково это – уметь видеть. Насколько видеть – сложно. И как редки встречи с теми, кто тоже – видит. Зачем говорить мне это, наше, вот так, теперь, языком случая, из-под полы, шепча в словесное зеркало с облезшей амальгамой. Зачем всю жизнь давить из себя что-то глазами, обсуждать неважное, таить существенное. Мне и раньше было ясно, что жизнь что-то бормочет, но я едва ли что разбирала. Теперь голос ее разветвился, мокрыми волосами ползет по спине. Придется не только видеть, но и слышать. Слушаться. А это – куда сложнее, миру рот не заткнешь.
Меня знакомо тянуло вниз, туда, где врезаются друг в друга Златоустинский и Маросейка. Сценарий прежний. Перебежать светофор, глянуть в пробор Большого Спасоглинищевского, моргнуть камерой, люблю это место. Заправить обрезанные по шею волосы за ухо, просто так, ни для чего, все равно не удержатся, выпрыгнут из-за раковины. Себе не изменять, за асфальт хвататься всеми шестьюдесятью килограммами, бывало легче, ну и пусть. В теперь моем, застывшем моменте никто из всех этих прохожих-ратаев, покрытых пропотевшей пылью и облученных 4G, даже и не догадывается, что водяные, ноющие мозоли свои я заклеила цветастыми детскими пластырями и спрятала в кроссовки. Сойдут не скоро, через неделю, а то и две. Когда простыня устанет заглатывать жирную мазь, наслюнявленную на ночь, а в здешних квартирах под крышей сменятся жильцы. Тут, на этих улицах, хорошо притворяться слепым, угадывать подошвой сбой плитки, шататься, ловить книксен асфальта, подыкивать, врезаться в чьи-то чужие души, брошенные в тела. И ждать не приходится – толпа тогда режется сама собой, с каким-то решительным состраданием. Рушась под ритмом сердечных ударов, моих. Удар – это шаг, еще один – еще один. Вот и дорога, которой не видно, стропотный путь, так называемая жизнь. И если в Москве и плакать, то только здесь, где есть, куда стекать. Слепые, наверное, плачут наверх.
Дальше по прямой никак нельзя, я человек переулочный. Случайный сворот в сторону толчковой руки, в городе все бессильно. Мое путешествие по оконным отражениям, через офисные столы и вздувшиеся папки-регистраторы, прерывалось людьми и лицами. Раз. Бородатый мужчина облизывает губы языком, вкалывая в него свой жесткий волос, как славяне иглы в стены. Два. Женщина во всем очень желтом кричит в обмылок телефона, что у нее родился внук, четыре двести, почти плачет. Волосы наверняка завязаны бархатной желтой резинкой, но я не обернулась. Стало быть, мальчик под знаком Близнецов. Хорошо. Раньше других узнает, что разрублен на две половины. Кое-кто мне недавно рассказывал, что все страны мира тоже делятся по знакам зодиака и что Россия – Водолей. Я сначала не поверила и рассмеялась, а потом пришла домой и вбила в строку поиска этот странный запрос. Оказалось, правда. Теперь понятно, почему мне здесь так плохо, с Водолеями у меня самая низкая совместимость. Ладно, три. Грустная девушка в футболке с кричащей надписью GIVE ME A SIGN смотрит исключительно под ноги, не понимая, что так держит судьбу с кляпом во рту. Наверное, надо помочь. Расстояние сокращается, и я максимально распахиваю глаза, утыкаюсь в ее тонкие веки и не моргаю, даю знак. Секунда – девушка резко поднимает голову, и наши взгляды встречаются. С испуганным «Блядь!» она отскакивает к стене, как кошка от незаметно подложенного огурца. Ее глаза тогда были почти моими, такими же полыми. Надеюсь, в них успело затечь что-то важное, сама же попросила.
Погоде ужасно идут зеленый и серый, я у нее и подсмотрела. Еще один сворот, теперь налево, не люблю несправедливость. Через открытые первоэтажные форточки слышались усталые шлепки по бритым щекам и световым выключателям, затянувшийся рабочий день окончен. Это время рафинированных старых дев с тяжелыми серьгами и короткими стрижками, чьи шеи обмотаны шифоновыми платками, а пальцы – корпоративными пакетами. Единственный момент нашей встречи, трещина в часах, когда я сочувствую их жизни, а они моей. Саднит только одно: им – домой, а мне – мне обратно. Обратно, туда, где было столько всего и не было еще большего. В нашу комнату, где всегда пахнет сном и стиральным порошком, а сушилка простирает руки к небу. Она стоит, ноги на ширине плеч, рядом с горой книг, привалившихся друг к другу на сдвинутых тумбочках, места больше нет. И страницы от влажности вьются и пухнут, голодая по коже на ладонях, в черный день их уже не продать. И вся эта прооранная здесь боль за годы не зарубцевалась, и все эти провинциальные слезы от того и сего не высохли, а набились под дешевые обои и запеклись там намертво. Всплывают ночами, тогда особенно слышен их прибой, и спится хорошо, я знаю, только в море расступившемся и морем захлебнувшимся. И так, и так – все едино, на дне. Всегда было интересно, сколько же там трупов.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
«Инстаграм» – продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией в России.








