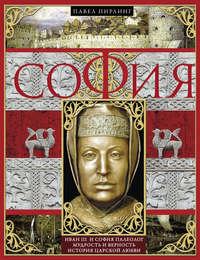Полная версия
Дмитрий Самозванец
Заявление Михаила Нагого могло быть чревато самыми серьезными последствиями. Как мы знаем, царевичу было всего восемь лет. Конечно, у него не могло быть личных врагов; единственное, чем он мог возбудить темные чувства, были его наследственные права на власть. Возникал вопрос: уж не послал ли к нему наемных убийц какой-нибудь тайный честолюбец? Легко понять опасность этой догадки: естественно, что следователи желали уничтожить ее в самом зародыше. Вот почему они немедленно изменяют все направление своей работы, теперь главной задачей их является опровергнуть или, по крайней мере, ослабить главное показание князя Михаила. Для этой цели нетрудно было воспользоваться свидетельством двух других Нагих – Андрея и Григория. Оба они вместе с Михаилом прибежали ко дворцу и вообще находились в одинаковых с братом условиях. И однако они не только не видели того, что видел старший брат, но, напротив, успели заметить совсем другое. Таким образом, вся ответственность за смелое показание падала на одного князя Михаила. Но этого мало. Явился еще новый свидетель: это был некий Русин Раков – какая-то темная личность из категории низших служащих. Он разыграл роль раскаявшегося соучастника злодейства и раскрыл целый заговор, который окончательно скомпрометировал старшего Нагого. По словам Ракова, князь Михаил намеренно натравил толпу на мнимых убийц и погубил совершенно невинных людей: он хотел будто бы, чтобы эти несчастные жертвы были признаны за настоящих преступников. Сам Раков, по приказанию князя, зарезал 18 мая курицу; в ее крови он смочил ножи и огнестрельное оружие, а затем положил его возле трупов. Таким образом, князь Михаил хотел выгородить толпу и себя самого, как ее подстрекателя. Пусть-де видят, что убиты были вооруженные люди, которые – ясное дело – пустили в ход свое оружие. Конечно, для того чтобы эта хитрость удалась, нужно было, чтобы она осталась тайной для московских следователей. Поэтому шесть раз в течение одного дня князь Михаил требовал к себе Ракова и брал с него клятву, что тот будет молчать. Раков так и делал. Но затем он одумался и решил сам прийти в комиссию, чтобы повиниться и загладить свой проступок. Показания Ракова нанесли свидетельству князя Михаила тяжкий удар. Для окончательного опровержения слов Нагого нужно было теперь противопоставить ему другого свидетеля, который дал бы еще более обоснованные и удостоверенные показания. Как мы видели, почву для этого подготовили уже двое других братьев Нагих. Фундамент под все это строение был подведен Василисой Волоховой, которая сообщила при этом и все необходимые детали. Василиса занимала самое видное положение среди женщин, окружавших царевича: она была мамкой несчастного Дмитрия. Ее уж никак нельзя было признать нервнобольной, зато она видела всякое и не лезла за словом в карман. Сын ее был убит в свалке, как один из соучастников преступления; ее саму помяли изрядно, но ни боль, ни горе матери, ни волнение ничего не могли сделать с ней. Василиса выступает как непосредственный свидетель происшествия. Она все видела, все слышала; память не изменяет ей ни в чем, и слова, как горох, сыплются с ее языка. Если верить ей, она обнаружила во время трагедии изумительное хладнокровие, можно сказать, почти героическую твердость духа. По ее словам, царевич страдал эпилепсией. Время от времени с ним случались жестокие припадки. В конвульсиях он однажды поранил свою мать большим гвоздем и искусал руки дочери Андрея Нагого. За несколько дней до несчастья он опять хворал. Потом ему стало лучше, и он снова вернулся к своим обычным играм. В субботу, 15 мая, царица послала его к обедне, а затем отпустила погулять на двор. Тут-то и случилась беда.
На дворе, кажется, было всего-навсего три женщины и несколько детей. Царевич весело играл в тычки и, собираясь бросить свой нож в цель, держал его, как полагается, в руке. Вдруг с ним случился припадок. Он опрокинулся навзничь и накололся горлом на нож. Тотчас же он забился, затрепетал и скончался. Выбегает царица. Она видит сына своего в крови, сердце у нее упало… Но гнев в ней оказался сильнее любви. Она схватила полено и набросилась на мамку, грозя разбить ей голову. Мы представляем себе эту картину… Мать в отчаянии кричит, что царевича убили; в лицо Василисе она бросает имена злодеев; между ними – сын мамки, Осип… А Волохова под градом ударов, осыпаемая гневными укорами, спокойно требует суда… Между тем подбегает Григорий Нагой. Царица передает ему полено и велит бить мамку по пояснице… Затем, полумертвую, ее бросают и принимаются бить в набат. На вопли колокола собирается отовсюду встревоженный народ; возбужденная, взволнованная чернь врывается на двор. Новая картина: Василису терзает уже народ; в лохмотьях вместо платья, простоволосую, ее тащат в тюрьму. Но мамка не теряется и здесь: внимательным оком своим она следит за всеми перипетиями разыгравшейся кровавой драмы. Она видит, как один за другим подбегают те, которых называют убийцами царевича; только одного из них приволокли на место силой. Василиса слышит, как царица и ее брат Михаил требуют смерти злодеев. На ее глазах их тут же и приканчивают… Но она не плачет, не жалеет царевича, зато помнит, как убили какого-то несчастного только за то, что он выразил ему сострадание. На следующий день после всех этих ужасов она все еще настолько бодра, что помнит, как казнили какого-то юродивого. Его обвинили в том, что он будто бы напустил беду на царевича.
По-видимому, показания Василисы разом пролили свет на все дело. Можно сказать, что россказни мамки как нельзя лучше соответствовали тайным намерениям комиссии. При таких условиях было совершенно не важно, видела ли она все собственными глазами или же нет[5]. Вот почему никто и не думает проверять ее свидетельства. Явные несообразности в передаче Василисы не обращают ничьего внимания. Об очной ставке с другими лицами не возникает и вопроса. Ловкая мамка разрушила версию о предумышленном убийстве царевича; этим самым устранялись всякие опасные догадки. Василиса дала формулу, к которой оставалось только присоединиться всем остальным свидетелям.
И действительно, как будто бы кто-то заранее продиктовал им условленный ответ; точно они заучили его наизусть. Кое-что, наиболее трудное, они рассказывали на память, своими словами. Во всяком случае, во всех этих показаниях неизменно повторяется один и тот же мотив. Дмитрий сам убил себя в припадке; он накололся горлом на нож; долго бился и, наконец, испустил дух. Разумеется, первое слово должно было принадлежать свидетелям-очевидцам. Мы знаем уже, что в момент несчастья с царевичем играли другие дети. Их было четверо. Уже один их возраст являлся гарантией искренности. Допрашивая каждого из них в отдельности, можно было без всякого труда, хитростью или насильно, вынудить их рассказать все, что они видели. Комиссия предпочла иной путь: дети все вместе, в унисон, повторили перед нею все те же заученные слова. То же самое, как эхо, услышали московские следователи и от двух женщин, состоявших при царевиче. И таким образом, список главных свидетелей по делу был исчерпан комиссией с удивительной быстротой. Казалось, что, найдя нужную версию, следователи старались поскорее предупредить всякие возражения против нее: очевидно, им хотелось, чтобы она во что бы то ни стало сохраняла свою силу.
Для этого комиссия воспользовалась целой массой услужливых свидетелей. Если очевидцев несчастья было мало, то людей, слышавших о нем, находилось сколько угодно. Страшная весть мгновенно облетела город и распространилась по его окрестностям. Таким образом, свидетелей оказалось бесконечное множество: оставалось брать их обеими руками. И вот перед комиссией потянулись горожане и сельские жители, должностные лица всяких званий и духовенство разных родов… Тут были и архимандриты, и монахи, и простые священники… Один из таких попов, по прозвищу Огурец, был когда-то смещен в пономари за то, что слишком рано лишился жены. Конечно, были допрошены и все служившие во дворце – начиная с детей боярских и кончая поварами, поваренками, пекарями, истопниками, конюхами и скотниками. Раза два-три – правда, очень робко – послышались в этом хоре свидетелей некоторые диссонансы. Но в общем формула Василисы повторялась всеми самым добросовестным образом, весьма определенно и в совершенно одинаковых выражениях.
Допрос уже подходил к концу, когда новая группа свидетелей внесла в дело совершенно неожиданный элемент. Читатель помнит, что смелый обличитель убийства царевича, Михаил Нагой, сам оказался в роли подстрекателя к расправе над мнимыми преступниками. Теперь свидетели заявили, что весь день 15 мая князь был мертвецки пьян. Таким образом, его показания теряли силу; с другой стороны, с него снималась всякая ответственность. Словом, здание, с таким трудом воздвигнутое комиссией, грозило рухнуть в прах. Однако следователи торопились в Москву: они совсем не были расположены снова приниматься за дело с самого начала. Поэтому ограничились занесением нового свидетельства в протокол и не придали ему никакого значения. Они едва согласились уделить несколько минут царице Марии. В самый день их отъезда мать царевича пригласила к себе митрополита Геласия. Она ни на что не жаловалась, никого не укоряла, лишь просила помиловать «червей земных»; так называла она собственных братьев.
Протоколы следствия были увезены комиссией в Москву. Конечно, они должны были лечь в основу судебного разбирательства. Что же можно сказать об этом материале?
Были ли вполне добросовестно собраны все данные по угличскому делу? Конечно нет. По-видимому, Шуйский с товарищами не слишком озабочены были раскрытием истины. Они заносят в свои протоколы ряд самых вопиющих противоречий и нисколько не стараются разобраться во всем этом хаосе. Невольно бросается в глаза искусственное построение следствия: оно ведется явно тенденциозно. Цель его нетрудно угадать. Комиссия стремится во что бы то ни стало устранить предположение о предумышленном убийстве и подтвердить версию об эпилептическом припадке. Конечно, в этом случае незачем было бы отыскивать тайных вдохновителей убийства.
Протоколы угличского следствия уже не раз подвергались самому тщательному анализу со стороны историков. По правде говоря, весь этот труд нам кажется потраченным даром. Мы уже сказали, что комиссия Шуйского не заслуживает никакого доверия. Если бы даже ее данные сами по себе и были неуязвимы для критики, во всяком случае, одно, чисто внешнее обстоятельство сводит на нет значение всего этого материала. Дело в том, что сам председатель комиссии, Шуйский, отрекся от дела собственных рук. После целого ряда самых подозрительных колебаний он торжественно поклялся перед аналоем, что Дмитрий пал невинной жертвой наемных убийц и заслужил мученический венец. Мы еще увидим, как этот клятвопреступник будет первым простираться в прах перед останками «святого» Дмитрия при перенесении их в кремлевскую усыпальницу русских царей. Разве не говорит все это о том, что руководимое Шуйским следствие не заслуживает никакой веры?
Впрочем, никто еще не предвидел возможности такого оборота дела со стороны Шуйского, когда 2 июня члены комиссии прибыли в Москву. Весь собранный ими материал был немедленно передан царю. Федор отослал его патриарху Иову, митрополитам и всему собору. В присутствии высшего духовенства и бояр документы, привезенные из Углича, подверглись пересмотру. По прочтении их первое слово было предоставлено креатуре Годунова, патриарху. Иов был человеком непостоянного и слабого характера. Впоследствии, подобно Шуйскому, и он отрекся от своих слов. Но в данный момент он высказал взгляд, который, очевидно, был составлен им заранее.
По мнению патриарха, материал следствия был достаточно полон и не заключал в себе никаких противоречий. Ясно как день, что Дмитрий погиб в припадке болезни, а князь Михаил воспользовался этим случаем, чтобы свести со своими врагами личные счеты: так совершилось неслыханное, гнусное злодейство. Вместе с князем Михаилом в преступлении повинны оба его брата, а также все угличане. Патриарх, очевидно, совершенно не признавал ни смягчающих обстоятельств, ни различных степеней виновности. В его глазах все обвиняемые оказывались убийцами, все они должны были отвечать перед судом и понести самую тяжелую кару. Словом, Иов был сторонником массовых мер. Впрочем, ввиду мирского характера всего дела он смиренно предоставлял его на благоусмотрение царя. Ведь государь обладает неограниченной властью казнить или помиловать, и воля его руководится велением свыше. Что касается его самого, то он, инок Божий, будет неустанно молить всеблагого Создателя за царя и царицу, прося ниспослать им здравие, спасение и мир. Всеми этими заявлениями глава русской церкви, очевидно, заранее развязывал руки Годунову. Мало того, он обещал ему беспрекословное одобрение всех мер, которые тому заблагорассудится принять.
Таков был суд патриарха. Теперь оставалось только санкционировать его приговором самого царя. Трудно сказать, насколько был способен Федор понять то, что происходило; во всяком случае, он предоставил судьям полную свободу действий. Таким образом, все теперь зависело от Бориса Годунова. Обвиняемые попадали в руки беспощадного мстителя. Понятно, что кара, их постигшая, была ужасна; согласно обычаю времени, она становилась тем тяжелее, чем ниже жертвы ее стояли в обществе. Царице Марии пришлось постричься в инокини и искупать в монастырском уединении свой мнимый недосмотр за сыном. Трое братьев ее, которые, по данным следствия, были виновны не в равной степени, все были отправлены в дальнюю ссылку из Москвы: их поселили безвыездно в различные города. Самые жестокие наказания постигли, конечно, простых угличских людей. Все они были признаны в равной мере ответственными за совершенные убийства, поэтому в отношении к ним не знали жалости. Двести человек были казнены, многим отрезали языки; большинству пришлось покинуть родину и ехать в Сибирь, где они и поселились в Пелыме. Суд не пощадил даже колокола, который своим набатом собрал народ ко двору: его сослали в далекий Тобольск. Милостивым приговор оказался лишь для Василисы Волоховой, которая сумела найти версию, нужную следователям и удобную для большинства свидетелей; разумеется, такое же благоприятное положение создано было и для родственников тех лиц, которых во что бы то ни стало хотели изобразить жертвой народной ярости.
Таким образом старался суд стереть всякие следы угличского преступления. Но горько ошибался Годунов, надеясь потопить в крови и слезах самую память об этом мрачном злодействе. Уже одна жестокость кары, постигшей мнимых виновных, навсегда запечатлела это событие в народном воображении. Разумеется, подозрения, возникшие уже раньше, теперь должны были еще усилиться. В Угличе было убито несколько человек… Неужели из-за этого нужно было наказывать его жителей чуть ли не через десятого? Неужели нужно было разгромить весь город и рассеять в разные стороны его население? Правительство должно было бы наказать только виновных… Своими мерами не старалось ли оно скорее устранить всех свидетелей, которые могли быть для него опасны?
Не безнаказанно пролита была невинная кровь. Близился час, когда увлажненная ею земля должна была родить страшную жатву проклятия и мести.
Глава 2
Таинственный призрак. 1601–1604 гг
I
С 1599 года представителем римского престола в Кракове, при дворе Сигизмунда III, был нунций Клавдио Рангони – князь-епископ Реджио. Уроженец Модены, аристократ по происхождению, он едва успел четыре года пробыть в своей епархии, когда милость папы Климента открыла ему дипломатическую карьеру в Польше. На этом поприще все было ново для Рангони. Он не знал ни страны, куда должен был ехать, ни людей, с которыми ему предстояло иметь дело. Сами обязанности его при краковском дворе едва ли представлялись ему достаточно ясно.
Между тем пост нунция в Кракове был тогда одним из самых завидных. Ни один вопрос общеевропейской политики не миновал тогда польской столицы; война с турками – этот кошмар тогдашней эпохи – неустанно обсуждалась здесь различными дипломатами. Таким образом, для Рангони открывалось самое широкое поле деятельности. Но этого мало. Если в Кракове было много привлекательного для государственного человека, то для уроженца Италии здесь оказался как бы уголок его отечества. Высший класс польского общества был уже затронут веяниями Ренессанса; вместе с Боной Сфорца сюда проникли новые идеи, и пионеры гуманизма недаром перебрались через Альпы, чтобы основаться на берегах Вислы.
Личные отношения папского нунция с королем Сигизмундом III были, конечно, безукоризненны и даже не лишены известной теплоты. Правда, этот государь был потомком дома Ваза, двоюродным братом его являлся сам Густав Адольф. Тем более удивительно, что в лице Сигизмунда мы находим как бы другого Филиппа II – только без надменности испанского короля. Быть может, свою глубокую религиозность он унаследовал от матери, Екатерины. То была настоящая дочь Ягеллонов – и не столько по своему происхождению, сколько по нравственным качествам, в особенности же по страстности своей веры. Во всяком случае, под высоким покровительством короля католическая реакция делала в Польше все новые и новые успехи. Вот почему, когда папскому нунцию приходилось вмешиваться в государственные дела, он всегда был уверен, что встретит поддержку. Верными союзниками его оказались известная часть знати и епископы – католики, которые все заседали в сенате. В довершение всего еще кое-что манило Рангони в столицу славянского королевства: во имя этого он готов был примириться и с ее снегами, и с ее стужей. Далеко впереди он видел головной убор кардинала. Дело в том, что при возвращении в Италию папский нунций обыкновенно бывал украшен уже пурпурной мантией.
Донесения Рангони хранятся в Ватиканском архиве и у князя Дориа-Памфили. В них как нельзя лучше выступает весь нравственный облик этого человека.
Листы эти выцвели от времени; некоторые – увы! – скоро, быть может, погибнут навсегда. Но, перебирая их, мы живо воскрешаем перед собой образ прежнего римского прелата. Перед нами лицо, привыкшее к самому избранному обществу. Это одновременно и клирик, и придворный. Он в совершенстве изучил все требования этикета. Он – сама аккуратность, сама предупредительность, воплощенное самообладание. К услугам его в любую минуту оказывается неистощимый запас банальных формул. Все эти черты мы встречаем у большинства коллег Рангони. Лишь в одном отношении этот дипломат превосходил других государственных людей: он отлично умел добывать всякие сведения и хорошо информировал своего государя. В сущности, этим вполне удовлетворялось его честолюбие. Напрасно стали бы мы искать у него новых идей или оригинальных планов: Ран-гони менее всего был способен к ответственной роли реформатора или пропагандиста каких бы то ни было идей. Об этом ясно говорят его пространные и пресноватые донесения. В них постоянно фигурируют какие-нибудь комбинации. Это не значит, что Рангони злоупотреблял этим понятием; мы хотим сказать только, что в этой сфере он чувствовал себя особенно привольно.
Так или иначе, папский нунций был persona qrata при польском дворе. Являясь горячим сторонником союза с Австрией и брака с эрцгерцогиней Констанцией, он вполне сходился в этом с королем Сигизмундом. Мало того, он оказывал ему деятельную поддержку в этом направлении и даже был посредником в сношениях короля с Прагой. Более нелюдимые современники упрекали порой Рангони в том, что он был слишком предан светской жизни, по их мнению, он переходил меру в своем стремлении играть роль в обществе. Для этих суровых судей было великим соблазном видеть, как епископ весело пирует с магнатами или ухаживает за прекрасными полячками: подобные слабости казались несовместимы с высоким саном папского нунция. В довершение несчастья, при Рангони состоял его племянник, граф Александр Рангони; надо сознаться, что суровая добродетель совсем не была его идеалом. Пусть даже он и не был притчей во языцех в Кракове, как утверждают некоторые. Во всяком случае, несомненно, что за свои легкомысленные похождения он поплатился впоследствии высылкой из Рима. В силу всех этих обстоятельств Ватикан относился к нунцию гораздо более сдержанно, нежели краковский двор. Несколько раз король Сигизмунд просил папу возвести Рангони в сан кардинала: Павел V не хотел внять этим ходатайствам. Однако король не сдавался. Он периодически возвращался к этому вопросу; для него это стало как бы делом чести… Он не жалел похвал в адрес своего протеже и горько укорял Рим за противодействие. Он не остановился перед отправлением в Ватикан особых уполномоченных, в специальной записке он восставал против «клеветников», очернивших ни в чем не повинного Рангони, наконец, он ответил отказом на предложение папы назначить кардиналом кого-нибудь из среды польского духовенства. Все было тщетно: Павел V был неумолим. Снисходя к представительству Сигизмунда, он охотно соглашался жаловать своего нунция бенефициями и пенсиями, но даровать ему пурпурную мантию он находил решительно невозможным. В подробные объяснения по этому поводу он не пускался: он просто заявлял, что имеет самые серьезные основания не отступать от принятого решения.
Надо думать, что при отъезде Рангони из Рима он представлял себе будущее в гораздо более радужном свете. Новый нунций отправлялся в Краков, полный самого горячего рвения. Между прочим, он вез с собой специальные инструкции от 20 февраля 1599 года: здесь было нечто такое, что прямо касалось Москвы. Прошло уже семнадцать лет с тех пор, как Поссевин побывал при русском дворе, такой же срок миновал со времени перемирия при Киверовой Горе. Жизнь значительно двинулась вперед. Но Рим не спешил с пересмотром своей традиционной политики в славянских землях. Он оставался верен своей мечте о союзе Польши с Москвой; тем самым он надеялся установить религиозное единство на севере Европы. По этому вопросу Рангони имел самые подробные указания; во всем остальном ему предоставили полную свободу действий. Папа знал о вступлении на русский престол Годунова, но он не был осведомлен о ходе польско-русских отношений и при таких обстоятельствах предпочитал довериться чутью и такту своего представителя. Впрочем, он выражал желание, чтобы, если только не поздно, стороны обратились к римскому посредничеству; при этом почин должен был принадлежать Годунову. Таким образом, создался бы прекрасный повод оказать московскому государю важную услугу: разумеется, это обязало бы и царя Бориса не остаться в долгу. При переговорах с русским правительством нунций мог бы возбудить вопрос о постройке в Москве католической церкви, клир которой составился бы из иезуитов. Очевидно, Климент VIII стремился к тому же самому, что и Григорий VIII. Если бы Борис Годунов оказался более сговорчивым, чем Иван IV, Рангони удалось бы примирить Польшу с Москвой торжественным актом папского вмешательства. Тогда, опираясь на свой успех, упорно ускользавший от всех его предшественников, нунций мог бы добиться того, в чем неизменно отказывали Поссевину, – другими словами, католическая церковь впервые могла бы обосноваться в Москве. К несчастью, весь расчет оказался неправильным. Во главе польских войск уже не было грозного Стефана, над Москвой уже не тяготел ужас опричнины. Исконные враги находились в равных условиях, при которых чужое вмешательство становилось излишним.
Скоро папскому нунцию пришлось самому убедиться в этом. В 1600 году король Сигизмунд отправил в Москву с предложением союза канцлера литовского Льва Сапегу. Как известно, по всем вопросам, которые касались соединения церквей, послу польского короля дан был самый решительный и высокомерный отпор. Сапега сам сообщил об этом Рангони, не скрывая от него своего разочарования и досады. Впрочем, как мы знаем, ему удалось заключить с Москвой перемирие на двадцать лет. Это вполне соответствовало видам папы и традициям старой дипломатической рутины. Все, казалось, налаживалось по-прежнему. И вдруг совершенно необычное событие открыло перед Римской курией самые неожиданные перспективы.
1 ноября 1603 года Рангони был принят Сигизмундом. Король заговорил о странных слухах, распространяющихся по всему государству. По его словам, в Польше появилась какая-то загадочная личность. Это пришелец из Московского государства, который называет себя Дмитрием, сыном царя Ивана IV. Некоторые из русских людей будто бы уже признали царевича и стали на его сторону. Дмитрий находится в Волыни у князя Адама Вишневецкого. Он мечтает вернуть себе наследственный престол при помощи казаков и татар. Всю эту затею король признавал чистым безумием: ему казалось невозможным возлагать свои надежды на наемников, которые ищут не столько чести, сколько добычи. Что касается самого героя всех этих отчаянных замыслов, то король выражал желание узнать его поближе. Он приказал Вишневецкому привезти новоявленного царевича в Краков и представить королю особое донесение.
Конец ознакомительного фрагмента.