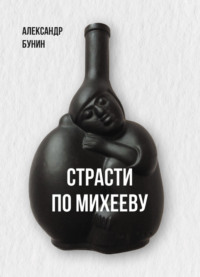Полная версия
Огурцы растут ночью
У стойки заполнения таможенных деклараций любовно бранится пожилая пара в английских костюмах китайского производства, купленных в Болгарии. Они делят свободно конвертируемую валюту, рисуя непривычные цифорки в экономных мелкосемиотических бумажках, усиленно не интересуясь обильно лежащими везде яркими обложками, где под искусственными пальмами на фоне белых гор пылко обнимаются зарубежные люди.
Названия чуждых денежных знаков супруги произносят боязливо, дрожащими голосами, чуть не шёпотом, спортивно вращая головами в оглядке на других людей. Крепка, крепка ещё советская власть в умах и душах нерасторопного населения.
– Евро… Евро у тебя, так?
– Не так. У меня никогда не было евро. У меня всегда были доллары.
– Как доллары? У тебя должны быть евро из третьего тома Чехова. Они всегда там были.
– А у меня доллары. И не из Чехова, а из Островского. Я их в «Дворянском гнезде» брал.
– Островский… дворяне… гнездо. Зачем ты вообще полез к Островскому? Чего тебе от него надо? Все деньги из-за него перепутали. Не на дачу едем.
Валютчики – начитанный, образованный народ. И у них всегда есть дача.
А посреди этих агрессивных, громко озабоченных особей учтиво и бережно располагался круглосуточно прилично одетый Саша Куприн. Пока ещё трезвый, но уже доброжелательный. Он любовался зелёными названиями городов, беззлобно материл материки и пытался представить себе красивых смуглых женщин, играющих на укулеле в прибрежном ресторане. Вокруг таковых не было. Ни женщин, ни берега, ни ресторана.
Жену он скоропостижно, но мягко упаковал в самолётку и его поджидали, бия копытом, две недели малозаботного одиночества. Но было как-то не празднично. Обычно как-то было.
Работа в планы не вмещалась – надоело проживать среди бухучёта, издавать англоязычные звуки и елозить по занозистым горбам биржевых котировок «голубых» и не очень фишек, приглядывая за индустрией. Роздых следовало дать, пока он окончательно не возненавидел пролетариев всех стран и прочих специалистов в области низких технологий, не ведающих синергии и переговорной концепции «win-win». Душе хотелось разворота и поворота.
Можно было, конечно, погрузившись в сладостную сегрегацию, позвонить Джессике, стройной студентке из Ганы, которая иногда его почему-то любила. А иногда и не иногда. Можно было. Его по-прежнему волновала её нежная кожа.
Была ещё умная, умелая, но не очень привлекательная внешне учительница испанского. Но нет. Не сегодня. Секс с ней можно было рассматривать как благотворительность. Но он не рассматривал.
Можно было поехать в дорогущий спортзал, где всегда обреталось много старых знакомцев, попиzzдить о былом, под действием лирики нажраться водки, упав в наспех нарисованные галлюцинации, а поутру обнаружить у себя в простынях блондинистую игручую дылду с сорок пятым номером башмачков и унылой бабочкой на измятой заднице. Можно было, конечно, но Сашу завсегда терзала культурная потребность в разнузданных предметах, которые нельзя сожрать или трахнуть. Всегда. Он вёл беспорядочную духовную жизнь.
Был он и физиком, и лириком. Единовременно. Физиком по образованию, а лириком по внутреннему обустройству. Когда-то давно он работал в академическом институте, и после защиты диссертации приобрёл неплохие карьерные перспективы роста в отношении себя. Он даже постригся в ожидании намеченного пути, чтобы люди не завидовали. Под «полечку».
Но тут произошла история. История СССР. Она брезгливо метанула его под каменные колёса безжалостной перестройки.
Институт превратился в предприятие вредного питания пополам с магазином верхней одежды, а его перспективная исследовательская программа возымела устойчивый тренд обречённости на неуспех. Тщетность дальнейших усилий стала очевидной.
Зарплаты не хватало даже на сигареты. И он, вместо того, чтобы бросить курить и забыться в парусной секции, сделался необитаемым человеком и ушёл в бандиты, в коих успешно и пребывал долгие двадцать лет, внимательно следя за просторностью торговых артерий нации и затейливым круговоротом вещей в природе, нисколько не роняя сна и аппетита от эдакого беспокойства. Многоступенчатое поведение своё варьировал, работая буйком, за который нельзя заплывать: иногда бывал груб с подопечными, а иногда и чрезвычайно обходителен, употребляя всегда лишь строго ограниченные эмоции.
Так промчались молодые и средние годы. В задумчивости о решении цели не стало быть в нём романтизма. Он сделался криминальным авторитетом-интеллектуалом, завязавшим с криминалом, не без успеха опекавшим самого себя и свою же средних размеров консалтинговую компанию. И ещё пяток усиленно хозяйствующих субъектов, получая дополнительные средства для своих беспечных нужд. Серьёзная репутация и обширные сомнительные связи позволяли делать всё это без опаски чего-нибудь. Важно ведь не то, что ты делаешь, а то, в чём тебя обвиняют.
Такой режим существования оказался для него наиболее предпочтительным, чего он и сам от себя не ожидал.
А ещё он был лентяем и потому много работал, чтобы никто не прознал о его истинной сущности. Отдыхал он с ещё бо́льшим усердием.
Он был и молод, и стар. И современен, и старомоден. Пресыщен и одинок. Никогда не путал необычное с невозможным. Многие пытались разгадать его тайны, но не смогли…
Кто-то близстоящий произвёл неосторожный восклик. Как восхлип. Послышались звуки молитвенного ламаистского барабана, и он сбежался на этот шум.
Девушка с бежевыми волосами в беспечности не уследила свой бородатый от бахромы изящный ридикюль – тревожный чемоданчик. Женские предметы острой необходимости большим радиусом действия разошлись по́ полу, рискуя испортиться под шагающими людьми.
Предметов было в достатке. Бермудский треугольник по сравнению с дамской сумкой прост и понятен, как холодильник с пивом, и пуст, как забытый комод. Но! Если можешь помочь – помоги.
Пружинно согнув ноги, он, проявив гендерную учтивость, пустился складировать временно утерянные вещи в обратной последовательности, бодро двигаясь гусиным шагом в стиле танго «Абордаж», пресекая по пути блажь и смятение пассажирских мокасин. Хорошо иногда побыть идиотом в угаре запоздалого мальчишества. Да и девушек время от времени полезно удивлять.
Время собирать камни промчалось быстро, настала пора оценить урожай.
Он встал: для усиления дальнейшей привлекательности и в ожидании благодарственных событий, слегка звякнув суставами своего возраста.
А она была красива. Или почти красива. Как Изольда Извицкая.
Красива забытой чёрно-белой красотой Марлен Дитрих и Марики Рёкк, далёкая от эпохи «flower power». Девушка из рассказов о доблести морских офицеров с кортиками. Большие антилопьи глаза, в которых отражалось многообразие материального мира и сверкали улыбчивые огни.
Правильные черты матового лица. Бедро – замысловатая поверхность, полученная в результате сложных опытов по разделению масляной капли.
Задорная юбка-татьянка фирмы «Burberry» и шляпка «саке-walk» неизвестного производителя.
В ней была заключена физика мягкого тела. Женщина серебряного поколения, летающая на странных крыльях. Из той эпохи, где играли на кельтских арфах и чай пили из фарфоровых сервизов, а не из добытых литьём в кокель грубых цилиндрических кружек с надписями «Аня», «Маня» и «Петрович».
Но с мужчинами у неё, по всему видать, было строго: можешь хоть обсеренадиться весь – на балкон не выйдет.
Вот таков он предмет его любви, радости и беспокойства, которому хочется за любой пустяк принести надрывные извинения.
Он нашёл прекрасное в повседневности. В нём взбеспорядочилась аномальная нежность, захотелось взять её за руку с аметистовыми щёточками на красивых пальцах и прижать к груди.
Видимо, от законов природы мы зависим гораздо больше, чем иногда себе представляем. Да и немудрено.
Не похоже было, что она замужем. Была в ней какая-то особая незамужняя независимость.
Она представилась, и он тут же заблудился в её имени…
Первый развод Ивана Тюрина (8+)
С первой женой разрыв образовался из-за ерунды: Ваня не то дитя домой принёс на дневное кормление. Чужое дитя, не совсем общее для обоих супругов. Но принёс, расстаравшись. Не подвёл. И чего трагедию ломать, а не комедию.
Они с дружком в парке гуляли. С каталками, в которых копошились дети – геополитические младенцы. У каждого строго по одному экземпляру. Погрустнело и припекло. В их сердца проник лиризм. Сначала они выпили за молодых отцов. За их доблесть и героизм в борьбе с чем-то, за что-то и против чего-то. Потом за всеобщее очень среднее образование в средней полосе огромной общей Родины. За каждую образовательную дисциплину в отдельности, включая искромётные уроки труда, пения под баян и чистописания. А потом все имеющиеся в наличии дети стали орать не по-детски, требуя родительского внимания с обеих сторон, и они начали их раскачивать свободными от стаканов руками. Вроде, всё по уму. А потом некстати нагрянули плохо воспитанные парковые милиционеры с разговорами о нравственности в общественных местах. Но выпивать не препятствовали, лишь одолжили на время стакан. Вот здесь, по всему видно, и произошла незначительная путаница.
А время-то какое в стране было, учитывать надо – всюду поголовная перепись и унификация: коляски одинаковые, одеялки-простынки-пелёнки одинаковые, дети в них – одинаковые. Пойди разберись. А мальчик или девочка – это ж внутрь лезть надо. А если по неопытности повредишь чего индивидуального в этом небольшом теле, не обладая твёрдым материнским инстинктом и стабильными навыками непьющей жизни? Да и самих детей-то еле видно – маленькие, сморщенные, дней по двадцать, небось, каждому, не больше, черты лица мелкие, смутные, шкодливые, на обезьянок похожие – мы такими не были. Что за поколение растёт? И как их в лицо узнавать это новое поколение? В такой ситуации немудрено и семёрку пик от девятки треф не отличить.
А как вино кончилось (люди правильные, добавлять не стали), они с достоинством выкурили по последней, поручкались, гордо разобрали свои коляски и – по домам. Сдаваться.
Ванькина тогдашняя жена, между прочим, тоже не сразу замену определила, а только, когда сиську достала для комплексного питания. И началось: будто он в дом не ребёнка, а кошку какую приволок. Мальчик… девочка… наш… не наш… Корми кого дают, потом разберёмся, не пропьют же нашего-то, это ж временный обмен, обстоятельство непреодолимой силы накрыло…
После эротичной кормёжки молодые матеря встретились на местной нейтральной территории (Швейцария в визах отказала), произвели в штатном режиме обмен военнопленными, согласно инвойсам и субъективным классификационным признакам, обсудили коротенько негодяев-отцов, потрёкали часок о разном и степенно разошлись, обоюдо-довольные обоюдовыгодным бартером. Но семейные отношения не устояли. Разбились об унификацию и модификацию жизни. Об эти малосущественные её составляющие.
А бывшая любимая срочно эмигрировала на ПМЖ в город Мытищи, чтобы жить там в достатке на молокозаводе с непьющим мужчиной-бухгалтером.
Последний развод Ивана Тюрина (8+)
А последняя ванькина жена была очень русской, сильно русской, исконно-домотканно русской, простая такая была русская баба, похожая на крупную эстонскую крестьянку. Пловец в воду.
И вот на этой девушке Ванька, прежде чем развестись, женился.
В назначенный день он подгрёб к невесте пораньше, чтобы ещё пару раз возлюбить широкую суженую и окончательно убедиться в правильности своего выбора. Его как званого гостя ждал праздничный стол, накрытый белой скатертью, тонким вином и плотной закуской. Тюрин в короткий срок освоил игристый напиток, сожрал с голодухи полтаза окрошки с терпко-горьковатым, дающим шумную пену на изрезанной колбасе квасом, выкурил наикрепчайшую сигаретку «Памир» и почувствовал себя чрезвычайно. В животе образовались внутренние «урки», хорошо уловимые снаружи невооружённым ухом.
Медлить было опасно, но знакомая ему девушка уже лежала на греховной fuскальной плоскости и совершала лицом призывные семафорные знаки, не оставляя выбора в жёсткой дилемме «любовь – сортир». Ванька стремительным кроликом нырнул под светлое лёгонькое покрывальце – с целью очень кратковременного общения и не ударить лицом в грязь. Скомкав и невнимательно завершив с детства любимый процесс, он хотел, было, восстать с напарницы, но та не отпускала, лишив губами воздуха и обвив его всего благодарными руками и ногами. Ванька дёргался в ней, как провалившийся в прорубь рыбак, пленённый подводным осьминогом, а она, произнеся много мелких слов, вдруг неожиданно, в порыве остаточной страсти, стала игриво щекотать его напряжённые рёбра, кокетливо мурлыкая в разгорячённую аорту.
Ванюшка не имел стального организма, а имел обычный. И ЭТО случилось. Ожиданно, громко и обильно. Хиленькое покрывало исполнило, конечно, кой-какую малозаметную буферную роль защитного кожуха, позволив уберечь потолок от внеплановой побелки, но спасти положение в целом оно не смогло. Потенциальные молодожёны сначала застыли, подумав каждый о высокой любви, а потом Ванька аккуратненько был выпущен из скользких уже объятий рук и ног. И тут пришли родители. Тоже пораньше. Чтобы покрыть квартиру последними торжественными штрихами перед появлением дочкиного кавалера.
Квартира в торжественных штрихах не нуждалась. Она их уже имела. В вопиющем достатке. Молодые стояли посреди комнаты все в оголтелом материализме, тесно прижавшись друг к другу, завёрнутые двойным коконом в смелое покрывало, похожие на слипшиеся древнегреческие статуи современного производства, испытывающие холод. Их свободные, не охваченные ураганным слоем простого по химическому составу вещества участки кожи, были благородно бледны. Соблазнительно облегающее одеяние, повторяющее изгибы тела, местами слегка промокло и приобрело пятнистый окрас молодой гиены, заплутавшей в чужой саванне.
Мама, шатаясь от нервов, ушла в другие помещения, а папа сделался безысходно весел от того, что сегодня херню спорол не он и будет впоследствии с кем и о чём перекинуться словцом. Не выказав скорби и не обременив молодёжь сочувствием, он пустился ржать в голос и ржал долго, забыв куда пришёл. Из глаз его текли крупные деревенские слёзы, он хватался за мебельную обстановку и угрюмые платяные шкафы фабрики «Фокстрот», взрослую сиамскую кошку и большой аквариум, в котором юзили плюгавенькие развратно-икряные гуппи. Рыдал и «говорил навзрыд», кружа по комнате в дружелюбном калейдоскопе яростного веселья. Импортная немецкая «Хельга» из незападной Германии тоже смеялась, крупно дрожа внутренней посудой.
На время угомонившись, он наконец-то смог оценить незаурядность личности жениха, его фантасмогорную непосредственность и достал из холодильника две бутылки потной водяры. Налив Ваньке стакан до краёв, он произнёс, вытирая тряской, ещё смешливой рукой миролюбивые слёзы радости: «Выпей сынок. Должно закрепить». И сам почтительно засадил такую же ёмкость. И у него сделалось близкое людям лицо. «Сынок» тоже осушил посудину, свободной рукой придерживая одинокую накидку. А в благодарность за своевременную водку женился на высокой статной дочери «отца», для которой необычный день оказался всё-таки приятным в широком его смысле. Но только в широком. Не в узком.
Огонь была баба. Но тоже не удержалась в должности, несправедливо считая законного мужа склонным к буйным поступкам.
Пансионата
Если б знали вы, как недёшевы Подмосковные вечера.
Общеизвестно: хороши вечера на Оби. Спору нет. Хороши и замечательны. А вот что они так же хороши и замечательны в Подмосковье, известно не столь интенсивно. Меньше ста вёрст от Центрального телеграфа, а какая невозмутимая природа, какие луга, поля и дойные леса. И среди всего этого пейзажа – заведение общего режима для бывшей советской номенклатуры. Плотные четыре звезды, несмотря на обилие русских.
Силами вольных каменщиков из Средней Азии успешно произведён европейский ремонт и из-за непрокрашенного угла хмуро выглядывает молотобойное рыло прошлого, увенчанное поношенным нимбом бессмысленно-ударных пятилеток.
Территория огромна, как зоопарк с животными. С бьющей вверх водой и невоспитанными птицами, проживающими в ветвях многочисленных деревьев хвойных и лиственных пород.
На шатких парковых скамьях базируются невлюблённые отдыхающие трудящиеся с остеохондрозом текущей жизни, ведя неспешные беседы об эритроцитах и начальных признаках мочекаменной болезни.
Местные хипстеры абонировали клумбы. Люди лысы, бородаты, пьют пиво из пластика и курят фабрику «Дукат», изящно сплёвывая тягучую никотиновую слюну в центр посадки культурных растений. Их ворсистые небритые кадыки радостно снуют вверх-вниз вдоль тонких небогатых шей, как скоростные лифты офисного небоскрёба, снабжая ветхие уже организмы пахучим низкооктановым топливом.
Земля усыпана яблоками с пониженной социальной ответственностью. На дальних рубежах грустят напрасные кони. Седоки уже с утра не лихие.
Горничные в корпусах – крепенькие величавые девушки из окрестных поселений – не испорчены повышенным окладом жалованья, но готовы предоставить весь спектр своевременных услуг по соблюдению гигиенических норм в общежитии для людей.
Их природная грация не оптимизирована городскими условностями, брекетами и талиевидными корсетами. Они милы и приветливы, не вымогают мзду, а любого трезвого мужчину до ста лет воспринимают как потенциального суженого, поскольку их ровесники-односельчане изучают букварь уже под радостный звон мутных стаканов с отравленным зельем, в короткий срок приводя себя в полную негодность для использования по прямому мужскому назначению. Биологический материал стакановцев не интересует даже зловредную империалистическую военщину.
Имена у девушек всё больше экзотические, иностранного производства. Тань, Лен и Наденек уж и не сыщешь. Чем дальше в лес, тем больше Виолетт.
Уличной охраны много. Она тиха, застенчива, как неопытный эксгибиционист, и гордится новенькой формой, страдая от приступов трезвости. Не робкого десятка. Робкой сотни.
Начальник охраны часто болеет и лечится домашними средствами. Средств много и появляется он лишь в полнолуние. Бледный и неустойчивый. Тёртый малый. Его в детстве сбил Опель.
Номер постояльца небольшой, но с балконом, под которым словно древняя Кура шумит фонтан и бродят не белые ещё ходоки. Две узенькие сиротские постельки составлены вместе, но напарница в комплект не входит. Одной лежанки завсегда мало по ширине, а на обеих сразу спать не получается: разъезжаются будто Сцилла и Харибда, навевая мотивы детской игрульки «С кочки на кочку, в ямку бух!», эротично поскрипывая в такт прерывистым стонам настольной лампы.
На нарядном зазубренном подносе гнездится ёмкий чайник. Полезная вещь в прохладную осень. Могла бы быть: ни одна из имеющихся розеток не принимает чайниковый нефритовый стержень в своё столь ожидаемое лоно. Сердцу не прикажешь. Электрику тоже. Бесполезность – первое условие роскоши.
Небольшой холодильник бродит по комнате в разумных пределах и просит милостыню электрическим голосом. Стартует без команды. Фальстартом не грешит.
Кондиционер шумит, как настоящий, но холодит лишь нежное сердце. Великое чудо Маниту.
Телевизор значится в программке пребывания, но показывает только рябь красивого серого цвета. Качество ряби отменное.
Раковина с танцующей водой украшена ажурными паутинками внебрачных трещин, напоминающих схему московского метрополитена имени В. И. Ленина 70-х годов. В районе станции «Площадь Ногина» размещена крупная впадина, вызывающая мысли.
В кране уютно шустрит вода, создавая эффект присутствия. Вечерами не так одиноко в тоске по объединению пролетариев всех стран.
Двериный рык сопровождает всюду. Скрипучее тайное тут же становится явным. Коридорные песнопения обозначаются уже в шесть утра: у постояльцев тяжёлый сон. В беспокойстве об уровне холестерина в крови и идеальной, геометрически выверенной прямолинейности прямой кишки.
Чистка, оставшихся после советской власти пожилых зубов, также сопровождается звуками в предрассветной тишине. Как у вольера со слоном. Однако уровень децибел этой гигиенической процедуры не превышает допустимых норм, принятых в авиакомпании «Люфтганза» для грузовых самолётов.
Ресторан для приёма пищи значителен и совсем не похож на вокзал. «Шведский стол» пребывает в обрамлении дорогих матерчатых скатертей цвета старых кружев. Красивые и качественные тарелки: молочно-белые, как новенькая «Тойота», квадратные, тяжёлые. Но постблагородный райкомовский народец всё равно корчит лица, ведь у себя в родной Мандобреевке они привыкли есть на золоте, а спать на серебре. Это явление аристократического нигилизма наблюдается и у других утончённо-бледнолицых соотечественников на далёких курортах Плайя-де-Лас-Америкас, покрытых чёрным песком вулканического происхождения. Здесь тоже всё не так.
Громогласное «Приятного аппетита!», бросаемое в изведанную даль каждым входящим, звучит как сигнал тревоги и является в понимании публики высшим проявлением светскости бытия.
У граждан аппетит из мезозоя. Едят много, быстро и без разбору, как в армии в последний раз. Иногда гортань не справляется со скоростью загружаемых в неё продуктов питания, и в ответ на утробный кашель в адрес обвиняемого поступают нещадные весёлые хлопки в область между бордовой шеей и вялым крестцом. Извечный компромисс между желанием и возможностью.
Слово «кушать» звучит повсеместно. О еде говорят с особой нежностью, уменьшая и лаская названия местных блюд. С тарелок хризантемно-празднично свисают юркие макароны, а застенчивые грудные кармашки предусмотрительных дамских рубашечек привлекательно топорщатся припасённой пищей в предвкушении позднего романтического ужина с сосисками. Инновация. Продовольственный push up.
Начинающие младенцы бузят и не хотят есть кашу. Это свойственно всем местам и временам.
Девушки, следуя негласным требованиям санаторного ГОСТа, выказывают бретельки от лифчиков во всём их кружевном великолепии и буйстве цветовой гаммы, робко потребляя недонастоящий кофе, забавно оттопырив наманикюренные мизинчики на пьющей руке.
Взрослые номенклатурные тёти с выражением юридического лица, не плескающегося в волнах самокритики, – геликоны, игравшие когда-то первую скрипку. Они поднаторели в жизни, наполненной искусственными страстями. Имеют узкий профсоюзный лоб, бас-профундо и мощность тепловой пушки. Поступь их тверда, а помыслы туманны.
Они давят категоричной осведомлённостью по всем вопросам, загоняя робеющих мужчин в токсичный кильватер аромата своих духов и освежающий запах азу по-татарски. Среди этой административной мантиссы, пропитанной идеологическими символами пленумов и партсобраний, чувствуешь себя небольшим провинившимся ребёнком, дымящим сигаретой без фильтра в дамском туалете. Сражаться с ними не следует. И победа, и поражение будут одинаково позорны.
Вечерами тёти с отвращением слушают буржуазную музыку в виде блюза «Женщина с большими ногами», пытаясь бывалыми голосами охватить всех присутствующих национальной заботой. В атмосфере витает флирт времён принудительной коллективизации.
Прогрессивные бабушки подвержены застольному фоббингу. Остальные тёщи и свекрови выполняют свои многовековые функции и приносят посильный вред.
На минус втором этаже раскинулся медицинский центр, имеющий отношение к медицине. Здесь же, для удобства нездоровых людей, открыт большой аптечный киоск, который закрыт всегда.
Цивилизация глубоко проникла в подземелье: людские мобильники натужно хрустят, создавая множественные сэлфи на фоне ингаляционных устройств с шалфеем и вихревых ванн для нижних и верхних конечностей. Неработающий кассовый аппарат залёг под пальмой, восхищая фискальные органы. Подземелье – лучшее место для низменных порывов. По сравнению с прежними временами минимализма стало больше.
И, конечно же, исчезающая наша ценность – медицинские бабушки, честно работающие всю жизнь за копейки. Вежливые, ухоженные, в чистой глаженой форме, готовые всё объяснить, показать, рассказать, направить в искомое русло, всё понять и всё простить.
Соляная пещера Лейхтвейса содержит мягкие стены, как в отделении для буйных, пышет газом и музыкой несоветского композитора Поля Мориа. Здесь сухо и прохладно.
Имеются ванны без воды и бассейн с водой. Головы полуголых старушек прыгают по водной ряби, как разноцветные поплавки, отбивая у всё ещё подрастающего поколения охоту к занятиям водными видами спорта. Бабушки визжат, хлопают по воде ладошками и искренне радуются своим годам. Они учат людей стареть.
Врач-кардиолог умна, образована и внимательна. Знает толк в профессии. Старая школа. Ей по плечу ремонт двигателя Ричарда Львиное Сердце. Сразу после приёма она стройной походкой уходит хранить врачебную тайну, а ассистентка – девчонка-хохотушка – бережно заполняет санаторную карту почерком, похожим на плохую кардиограмму.