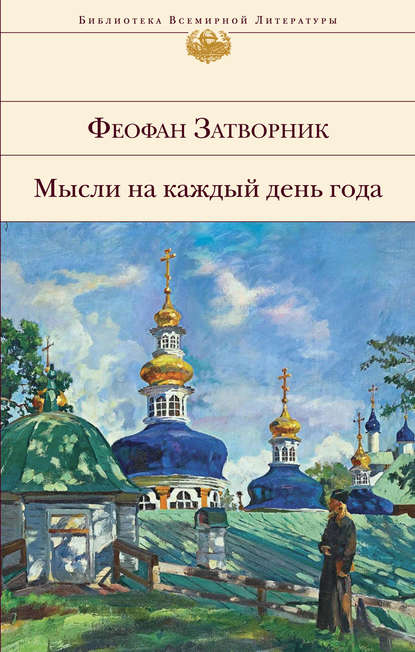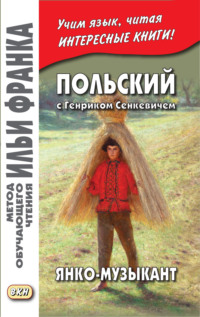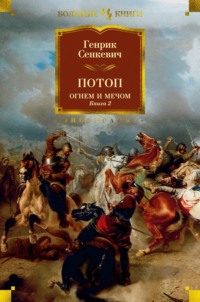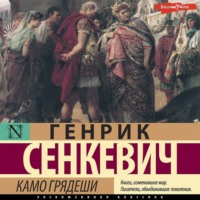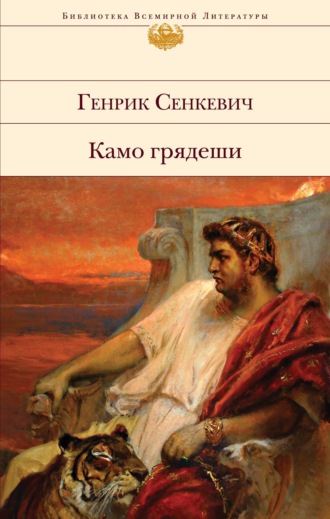
Полная версия
Камо грядеши
Тут Вестин остановился и, взяв со стола чашу с вином, начал пить.
– Что же там было? – спросил Сенецион.
– В письме был вопрос: «Какого быка я должен принести в жертву: белого или черного?»
Но впечатление от рассказа нарушил Вителлий, который явился на пир уже навеселе, – без всякого повода он разразился глупейшим хохотом.
– Чего хохочет эта бочка сала? – спросил Нерон.
– Смех отличает людей от животных, – молвил Петроний, – а у него нет иного доказательства, что он не кабан.
Вителлий так же внезапно перестал смеяться и, причмокивая лоснящимися от жирных соусов губами, стал всматриваться в окружающих с таким удивлением, будто никогда их не видел.
Потом поднял пухлую, как подушка, руку и прохрипел:
– У меня свалился с пальца всаднический перстень, от отца унаследованный.
– Который был сапожником, – прибавил Нерон.
Но Вителлий опять неожиданно захохотал и принялся искать перстень в складках пеплума Кальвии Криспиниллы.
Тогда Ватиний, кривляясь, стал вскрикивать голосом испуганной женщины, а Нигидия, подруга Кальвии, молодая вдова с лицом девочки и развратными глазами, громко заметила:
– Ищет то, чего не терял.
– И что ему никак не пригодится, даже если найдет, – заключил поэт Лукан.
Веселье разгоралось. Рабы вносили все новые и новые яства, из больших ваз, наполненных снегом и увитых плющом, вынимали менее крупные кратеры с винами всевозможных сортов. Все много пили. С потолка на столы и на гостей то и дело сыпались розы.
Но вот Петроний стал упрашивать Нерона, чтобы, пока гости еще не перепились, император украсил пир своим пением. Его поддержал хор льстивых голосов, однако Нерон отнекивался. Дело тут не в храбрости, хотя ему всегда ее не хватает. Богам известно, чего стоят ему все эти выступления. Он, правда, не отказывается от них, надо ведь что-то делать для искусства, и, если Аполлон одарил его неплохим голосом, грешно пренебрегать божьими дарами. Он понимает, что это даже его долг перед государством. Но нынче он в самом деле охрип. Положил себе ночью оловянные гирьки на грудь – не помогло. Он даже подумывает о поездке в Анций, чтобы подышать морским воздухом.
Лукан, однако, заклинал императора спеть ради блага искусства и человечества. Ведь всем известно, что божественный поэт и певец сложил новый гимн Венере, в сравнении с которым гимн, сочиненный Лукрецием, – вой годовалого волка. Пусть же этот пир будет истинным пиром. Столь милостивый государь не должен причинять мучений своим подданным. «Не будь жестоким, император!»
– Не будь жестоким! – повторили хором все, кто находился поближе.
Нерон развел руками, показывая, что вынужден уступить. Тотчас же на всех лицах изобразилась благодарность, и взоры всех обратились к императору. Но он еще приказал известить Поппею о том, что он будет петь, и объяснил присутствующим, что Поппея не пришла на пир по причине нездоровья, а его пение помогает ей как ни одно лекарство, и ему было бы жаль лишить ее такого случая.
Поппея вскоре явилась. Она во всем распоряжалась Нероном, как своим подданным, но знала, что, когда речь идет о его самолюбии певца, возницы или поэта, раздражать императора опасно. Итак, она вошла в пиршественный зал, прекрасная, как богиня, в одеждах такого же аметистового цвета, как у Нерона, и в ожерелье из необыкновенно крупных жемчужин, отнятом некогда у Масиниссы, – златокудрая, нежная и, хотя уже разведенная с двумя мужьями, сохранившая лицо и взгляд девушки.
Ее приветствовали громкими криками, называя «божественной Августой». Никогда в жизни Лигия не видела подобной красоты и с трудом верила своим глазам – ведь Поппея Сабина была одна из самых распутных женщин в Риме. Лигия слышала от Помпонии, что Поппея заставила императора умертвить мать и жену, об этом также говорили гости Авла и слуги; слышала, что статуи Поппеи в городе по ночам опрокидывают, слышала о надписях, за которые виновников карают самыми жестокими карами, но которые появляются каждое утро на стенах домов. А между тем, когда она глядела на эту страшную Поппею, слывшую среди приверженцев Христа воплощением зла и нечестия, ей чудилось, что подобный облик может быть у ангелов или других небесных духов. Лигия была не в силах отвести глаза от «божественной», и невольно из ее уст вырвался вопрос:
– Ах, Марк, возможно ли это?
А он, разгоряченный вином и раздраженный тем, что столько всяческих помех отвлекают ее внимание от него и его речей, возразил:
– Да, она красива, но ты во сто раз красивее. Ты себя не знаешь, не то влюбилась бы сама в себя, как Нарцисс. Она купается в молоке ослиц, а тебя, наверно, искупала Венера в своем собственном молоке. Нет, ты себя не знаешь, ocelle mi![9] Не смотри на нее. Обрати взор на меня, ocelle mi! Пригубь свою чашу, а потом я приложусь к этому месту своими губами.
И он придвигался все ближе, а Лигия отодвигалась к Акте. Но тут кругом зашикали – император встал. Певец Диодор подал ему лютню из тех, что назывались «дельта», другой певец, Терпнос, сопровождавший его игру, подошел со своим инструментом, наблием; оперши свою дельту о стол, Нерон поднял глаза к потолку, и с минуту в триклинии стояла тишина, нарушаемая лишь шорохом падавших с потолка роз.
Наконец император запел, а точнее, начал напевно и ритмично декламировать в сопровождении двух лютен гимн Венере. И глуховатый голос его, и стихи звучали приятно, так что бедную Лигию снова одолели сомнения – гимн этот, прославлявший нечистую языческую Венеру, показался ей великолепным, да и сам император в лавровом венке и с возведенным кверху взором – более величественным, не таким страшным и отталкивающим, как в начале пира.
Но вот раздался гром рукоплесканий. Вокруг слышались возгласы: «О, небесный голос!» Кое-кто из женщин, воздев руки вверх, так и застыли в порыве восхищения, другие утирали слезы на глазах, весь пиршественный зал гудел, будто улей. Склонив златокудрую головку, Поппея поднесла к устам руку Нерона и долго держала ее так в молчании, а юный Пифагор, красавец-грек, с которым впоследствии полубезумный Нерон приказал фламинам обвенчать себя с соблюдением всех обрядов, опустился на колени у его ног.
Сам Нерон, однако, пристально смотрел на Петрония, чья похвала была для него наиболее желанной.
– Если говорить о музыке, – сказал Петроний, – то Орфей в этот миг, должно быть, пожелтел от зависти, так же как наш сотрапезник Лукан; что ж до стихов, я огорчен, что они слишком хороши и я не в силах найти слова для достойной похвалы.
Лукана ничуть не обидел намек на его зависть, напротив – он взглянул на Петрония с благодарностью и, притворяясь опечаленным, пробормотал:
– Будь проклят рок, судивший мне быть современником такого поэта. Я мог бы занять место в памяти людской и на Парнасе, а так я померкну, как светильник при свете солнца.
Обладавший удивительной памятью Петроний стал повторять строфы гимна, цитировать отдельные стихи, разбирать и превозносить удачные выражения. Лукан, как бы позабыв о зависти под действием чар поэзии, присоединил к хвалам Петрония свои восторги. На лице Нерона появилось выражение блаженства и безмерного тщеславия, не только граничащего с глупостью, но вполне с нею тождественного. Он сам подсказывал наиболее изящные, по его мнению, стихи, потом начал утешать Лукана – не надо, мол, падать духом, разумеется, кем ты родился, тем и будешь, но все же почет, оказываемый Юпитеру, не исключает поклонения другим богам.
Затем он поднялся, чтобы проводить Поппею, которой действительно нездоровилось. Но вставшим было сотрапезникам император велел оставаться на местах, пообещав вернуться. И немного спустя он снова был в триклинии, чтобы, вдыхая дурманящий дым курений, смотреть на зрелища, которые он, Петроний или Тигеллин обычно устраивали для гостей.
Началось чтение стихов и представление диалогов, в которых было не столько остроумия, сколько желания поразить. Потом знаменитый мим Парис изображал приключения Ио, дочери Инаха. Гостям, особенно Лигии, непривычной к подобным зрелищам, казалось, что они воочию видят чудо, волшебство. Движениями рук и всего тела Парис умел изображать то, что как будто невозможно передать пляской. От мелькания его рук воздух как бы потемнел и сгустился в сияющее, живое, трепещущее, сладострастное облако, которое обволакивало клонившуюся в истоме девичью фигуру, сотрясаемую судорогами блаженства. То была не пляска, а картина, ярко рисовавшая таинство любви, картина чарующая и бесстыдная, а когда это закончилось и в зал вбежали корибанты с сирийскими девушками и под звуки кифар, флейт, кимвалов и бубнов закружились в вакхической пляске с дикими выкриками и еще более непристойными телодвижениями, Лигии показалось, что она сейчас сгорит со стыда, или же молния испепелит этот дом, или потолок обрушится на головы пирующих.
Но из подвешенной к потолку золотой сети сыпались только розы, а полупьяный Виниций рядом с нею вел дальше свои речи:
– Я видел тебя в доме Авла у фонтана и полюбил тебя. Было это на заре, ты думала, что никто не смотрит, а я тебя видел. И такой вижу сейчас, хотя этот пеплум скрывает тебя. Сбрось пеплум, как Криспинилла. Видишь? И боги, и люди ищут любви. Кроме нее, нет на свете ничего! Положи головку мне на грудь и закрой глаза.
Лигия ощущала биение пульса в висках и в руках – чудилось ей, будто летит она в бездну, а этот Виниций, который представлялся ей прежде таким родным и надежным, не спасает ее, а, напротив, тянет ее туда. И он ей стал неприятен. Она опять начала бояться и пира этого, и Виниция, и себя самой. Некий голос, схожий с голосом Помпонии, еще взывал в ее душе: «Лигия, спасайся!» – но тут же что-то в ней говорило, что слишком поздно и что тот, кого обжигало таким огнем, кто видел творившееся на этом пиру, у кого сердце колотилось так, как у нее от речей Виниция, и кого пронизывал такой трепет, как ее, когда он приближался к ней, – тот погиб, и спасения ему нет. Силы ее покидали. Минутами ей казалось, что она лишится чувств, а потом произойдет что-то ужасное. Она знала – никто не смеет, под страхом навлечь гнев императора, подняться с ложа, пока не поднимется он, но у нее и без того уже не хватило бы сил встать на ноги.
А до конца пира было еще далеко. Рабы продолжали вносить новые блюда, наполняли кувшины вином, а перед столами, расположенными покоем, появились два атлета, чтобы потешить гостей зрелищем борьбы.
Началось состязание. Могучие, блестящие от масла тела сплетались в единый узел, хрустели кости в железных объятиях, стиснутые челюсти зловеще скрежетали. Временами слышались быстрые, глухие удары ног о побрызганный шафраном пол, а то оба вдруг застывали в неподвижности, и перед зрителями была словно бы высеченная из камня скульптура. Глаза римлян сладострастно следили за игрою набухших в страшном напряжении мышц на спинах, бедрах, руках. Борьба, впрочем, была недолгой – Кротон, учитель и начальник школы гладиаторов, недаром слыл самым сильным человеком в стране. Противник Кротона начал дышать все чаще, потом захрипел, потом лицо его посинело – вдруг кровь хлынула из его рта, и он поник.
Конец борьбы был встречен громом рукоплесканий – Кротон, поставив ногу на спину поверженному и скрестив на груди могучие руки, обводил зал торжествующим взором.
Его сменили потешники, подражавшие повадкам животных и их голосам, жонглеры и шуты, но на них уже почти не смотрели – в глазах у пьяных зрителей мутилось. Пир все больше превращался в попойку, в разнузданную оргию. Сирийские девушки, прежде участвовавшие в вакхических плясках, рассыпались среди гостей. Вместо музыки раздавался нестройный, дикий шум кифар, лютен, армянских цимбал, египетских систров, труб и рогов; а там кое-кому из гостей захотелось поговорить, и музыкантам закричали, чтобы они убирались. Воздух был насыщен ароматами цветов, благовонных масел, которыми во время пира красивые мальчики кропили столы, запахами шафрана и разгоряченных тел, становилось очень душно, лампы горели тускло, венки на головах пирующих сбились набок, лица были бледны и усеяны каплями пота.
Вителлий свалился под стол. Обнажившаяся до пояса Нигидия приникла своей пьяной девичьей головкой к груди Лукана, и он, не менее пьяный, сдувал золотую пудру с ее волос, то и дело подымая кверху светящиеся блаженством глаза. Вестин с пьяным упрямством в десятый раз повторял ответ Мопса на запечатанное письмо проконсула. А насмехавшийся над богами Туллий прерывистым от икоты голосом рассуждал:
– Видишь ли, ежели Сферос Ксенофана круглый, то ведь такого бога можно катить перед собою ногами, как бочку.
Слыша такие речи, Домиций Афр, гнусный, старый доносчик, возмутился и от негодования облил свою тунику фалернским. Уж он-то всегда верил в богов. Вот люди говорят, что Рим погибнет, а некоторые даже считают, что уже гибнет. Пожалуй, что так! Но ежели это произойдет, так лишь оттого, что у молодежи нет веры, а без веры не может быть добродетели. К тому же старинные строгие обычаи пришли в упадок, никому и в голову не приходит, что эпикурейцам не устоять против варваров. Ничего не поделаешь! Что до него, он сожалеет, что дожил до таких времен и вынужден искать в наслаждениях лекарство от огорчений, которые иначе быстро бы его прикончили.
И, обняв сирийскую танцовщицу, он принялся целовать беззубым ртом ее затылок и спину, при виде чего консул Меммий Регул засмеялся и, подняв плешивую голову в надетом набекрень венке, заметил:
– Кто говорит, что Рим гибнет? Ерунда! Я, консул, лучше других знаю. Videant consules…[10] Тридцать легионов… охраняют наш pax romana![11]
Он сжал кулаками виски и закричал на весь зал:
– Тридцать легионов! Тридцать легионов! От Британии до страны парфян! – Но вдруг остановился и, приставив палец ко лбу, уточнил: – Пожалуй, даже тридцать два…
После чего повалился под стол. Вскоре его стошнило, и он начал извергать языки фламинго, жареные рыжики, замороженные грибы, саранчу в меду, куски рыбы, мяса – словом, все, что съел и выпил.
Но Домиция не успокоило число легионов, охраняющих покой Рима. Нет, нет! Рим должен погибнуть, потому что исчезла вера в богов и строгость нравов! Рим должен погибнуть, а жаль – ведь жизнь хороша, император милостив, вино вкусно! Ах, как жаль!
И, уткнувшись головою в лопатки сирийской вакханки, он разрыдался:
– Какой толк от будущей жизни! Ахиллес был прав: лучше быть батраком в подлунном мире, чем царствовать в киммерийских пределах. Да еще вопрос, существуют ли какие-нибудь боги, – и в то же время неверие губит молодежь.
Лукан между тем сдул всю золотую пудру с волос Нигидии, которая спьяну уснула. Сняв несколько стеблей плюща со стоявшей перед ним вазы, он обвил ими спящую и, совершив этот подвиг, обвел присутствующих радостным вопрошающим взглядом. Затем украсил и себя плющом, повторяя с глубокой убежденностью:
– Никакой я не человек, я фавн.
Петроний не был пьян, зато Нерон, который, оберегая свой «небесный» голос, вначале пил мало, разошелся потом и, осушая один кубок за другим, сильно опьянел. Он даже вздумал снова петь свои стихи, теперь уже греческие, но забыл их и по ошибке затянул песню Анакреонта. Ему вторили Пифагор, Диодор и Терпнос, но у всех у них ничего не получалось, и вскоре они умолкли. Тогда Нерон принялся восхвалять как знаток и эстет красоту Пифагора и в восторге целовать его руки. Такие прекрасные руки он где-то видел однажды… У кого бишь?
И, приложив ладонь к мокрому лбу, стал вспоминать. Вдруг на лице его изобразился страх.
– Ах да! У матери, у Агриппины! – пробормотал он и, одолеваемый мрачными видениями, продолжал: – Говорят, будто она ночами при луне ходит по морю, между Байями и Бавлами… Вот просто ходит и ходит, будто чего-то ищет. А если приблизится к лодке, так поглядит и уйдет, но рыбак, на которого она взглянула, умирает.
– Недурная тема! – сказал Петроний.
А Вестин, вытянув, как журавль, длинную шею, таинственно прошептал:
– В богов я не верю, но в духов верю… О!
Не обращая внимания на их слова, Нерон продолжал:
– Но ведь я справил Лемурии. Я не хочу ее видеть! Уже пятый год пошел. Я должен был, должен был ее покарать, она подослала ко мне убийцу, и, если бы я ее не опередил, не слушать бы вам нынче моего пения.
– Благодарим, император, от имени Рима и мира, – воскликнул Домиций Афр. – Эй, вина! И пусть ударят в тимпаны!
Снова поднялся шум. Стараясь его перекричать, увитый плющом Лукан встал и завопил:
– Я не человек, а фавн, я живу в лесу. Ээ-хооо!
Наконец напились до бесчувствия и император, и все мужчины и женщины вокруг. Виниций охмелел не менее других, но у него вместе с похотью разгорелось желание буянить, что случалось с ним всегда, когда он выпивал лишнее. Смуглое лицо стало совсем бледным, язык заплетался.
– Дай мне твои губы! – говорил он возбужденным и повелительным тоном. – Сегодня ли, завтра ли, какая разница! Довольно хитрить! Император забрал тебя у Авла, чтобы подарить мне. Поняла? Завтра, как стемнеет, я пришлю за тобой. Поняла? Император мне обещал еще до того, как тебя забрал. Ты должна быть моей! Дай губы! Не хочу ждать до завтра! Ну поскорее, дай губы!
И он обнял Лигию. Акта начала защищать девушку, да и та пыталась обороняться из последних сил, чувствуя, что гибнет. Но тщетно старалась она обеими руками оторвать от себя его руки, тщетно дрожащим от обиды и страха голосом умоляла не быть таким жестоким, сжалиться над нею. Хмельное его дыхание обдавало ее все ближе, лицо было уже рядом с ее лицом. Но то был не прежний, добрый, дорогой ее сердцу Виниций, а пьяный, злобный сатир, внушавший страх и отвращение.
Лигия все больше слабела. Как ни уклонялась она, как ни отворачивалась, чтобы избежать его поцелуев, все было напрасно. Виниций встал, схватил ее обеими руками и, прижав ее голову к своей груди, тяжело дыша, начал разжимать губами ее побледневшие уста.
Но в эту минуту какая-то неимоверная сила оторвала его руки от шеи девушки с такой легкостью, будто руки ребенка, а его самого отстранила от Лигии, как сухую ветку или увядший листок. Что случилось? Виниций, пораженный, протер глаза и увидел возвышавшуюся над ним гигантскую фигуру лигийца по имени Урс, которого он встречал в доме Авла.
Лигиец стоял спокойно, но смотрел на Виниция голубыми своими глазами так странно, что у юноши застыла кровь в жилах. Немного погодя Урс взял свою царевну на руки и ровными, мягкими шагами вышел из триклиния.
Акта последовала за ним.
Виниций минуту сидел, будто окаменев, потом вскочил и побежал к выходу с криком:
– Лигия! Лигия!
Однако похоть, изумление, бешенство и вино едва не свалили его с ног. Он пошатнулся раз, другой и, ухватясь за голые плечи одной из вакханок, недоуменно захлопал веками.
– Что случилось? – спросил он.
А она подала ему кубок с вином, затуманенные глаза ее улыбались.
– Пей! – сказала вакханка.
Виниций выпил и свалился в бесчувствии.
Большинство гостей уже лежали под столами, другие нетвердыми шагами бродили по триклинию, иные спали на ложах, громко храпя или изрыгая в полусне излишек выпитого вина, – и на охмелевших консулов и сенаторов, на перепившихся всадников, поэтов, философов, на спящих пьяным сном танцовщиц и патрицианок, на все это общество, еще всевластное, но уже лишенное души, увенчанное цветами и предающееся разврату, но уже теряющее силу, из золотой сети под потолком сыпались и сыпались розы.
Занимался рассвет.
Глава VIII
Урса никто не остановил, никто даже не спросил, что он делает. Те из гостей, кто не лежал под столом, разбрелись по залу, а челядь, видя гиганта, несущего на руках гостью императора, полагала, что это раб уносит свою опьяневшую госпожу. К тому же рядом шла Акта, и ее присутствие устраняло подозрения.
Так они прошли из триклиния в соседний покой, а оттуда – на галерею, которая вела в покои Акты.
Лигия настолько обессилела, что лежала на плече Урса будто мертвая. Но когда ее обдало прохладным, чистым утренним воздухом, она открыла глаза. Становилось все светлее. Пройдя вдоль колоннады, они свернули в боковой портик, выходивший не во двор, а в дворцовый сад, где верхушки пиний и кипарисов уже алели в лучах зари. В этой части дворца было пусто, отголоски музыки и пиршественного веселья становились все менее слышными. Лигии показалось, что ее вырвали из ада и вынесли на свет божий. Было все же в мире что-то, кроме этого омерзительного триклиния. Были небо, заря, свет, тишина. Девушка внезапно разрыдалась и, прижавшись к плечу великана, стала, всхлипывая, повторять:
– Домой, Урс, домой, к Плавтиям!
– Мы туда идем! – ответил Урс.
Покамест они, однако, очутились в небольшом атрии, принадлежавшем к покоям Акты. Там Урс усадил Лигию на мраморную скамью возле фонтана. Акта принялась ее успокаивать и убеждать, чтобы отдохнула, – ведь сейчас ей ничто не угрожает, пьяные гости будут после пира спать до вечера. Но Лигия долго не могла успокоиться и, сжимая руками виски, лишь повторяла, как ребенок:
– Домой, к Плавтиям!
Урс был готов исполнить ее просьбу. Конечно, у ворот стоят преторианцы, но он все равно пройдет. Выходящих солдаты не задерживают. Перед входной аркой носилок видимо-невидимо. Гости будут выходить толпами. Никто их не остановит. Они выйдут вместе с другими и прямо направятся домой. А впрочем, он тут не указ! Как царевна повелит, так и будет. Для того он здесь.
– Да, Урс, мы выйдем, – повторяла Лигия.
Пришлось Акте проявить благоразумие за них обоих. Выйдут! О да! Никто их не задержит. Но бежать из дома императора не дозволено, и кто это сделает, совершит преступление, государственную измену. Да, они выйдут, а вечером центурион с отрядом солдат принесет смертный приговор Авлу и Помпонии Грецине, а Лигию опять заберет во дворец, и тогда уже ей не будет спасения. Если семья Авла примет ее под свой кров, их наверняка ждет смерть.
У Лигии опустились руки. Выхода не было. Надо было выбирать между гибелью семьи Плавтиев и своей. Отправляясь на пир, она надеялась, что Виниций и Петроний выпросят ее у императора и вернут Помпонии, но теперь она знала, что именно они и уговорили императора отнять ее у Плавтиев. Выхода не было. Только чудо могло спасти ее из этой бездны. Чудо и всемогущество Божие.
– Акта, – с отчаянием молвила она, – ты слышала, как Виниций говорил, что император подарил меня ему и что нынче вечером он пришлет за мною рабов и заберет меня в свой дом?
– Слышала, – ответила Акта.
И, разведя руками, замолчала. Звучавшее в голосе Лигии отчаяние не находило отклика в ее душе. Ведь она прежде была любовницей Нерона. Сердце ее при всей ее доброте не могло проникнуться чувством стыда за такие отношения. Сама недавняя рабыня, Акта слишком свыклась с рабской долей, к тому же она продолжала любить Нерона. Пожелай он вернуться к ней, она бы встретила его с распростертыми объятиями, была бы счастлива. Понимая, что Лигия либо должна стать любовницей молодого красавца Виниция, либо навлечь на себя и на семью Плавтиев погибель, Акта не могла взять в толк, как девушка может колебаться.
– Оставаться в доме императора, – помолчав, сказала она, – тебе не более безопасно, чем в доме Виниция.
Ей и в голову не пришло, что, хотя она права, слова ее означали: «Смирись со своим жребием и стань наложницей Виниция». Но Лигии, еще ощущавшей на своих устах его дышащие животной страстью и жгучие, как раскаленный уголь, поцелуи, краска стыда бросилась в лицо при одном воспоминании о них.
– Ни за что! – пылко воскликнула она. – Я не останусь ни здесь, ни у Виниция, ни за что не останусь!
– Неужели Виниций так тебе ненавистен? – спросила Акта, удивленная этой вспышкой.
Но Лигия не могла ответить, рыдания опять сотрясали ее. Акта прижала девушку к своей груди и принялась ее утешать. Урс тяжело дышал и сжимал огромные кулаки – преданный, как пес, своей любимой царевне, он не мог снести вида ее слез. В его лигийском полудиком сердце росло желание вернуться в зал и задушить Виниция, а коль понадобится, и императора, но он боялся, что может погубить свою госпожу, и вдобавок не был уверен, что такой поступок, показавшийся ему сперва совсем простым, приличествовал приверженцу распятого агнца.
– Неужели он тебе так ненавистен? – повторила свой вопрос Акта, обнимая Лигию.
– Нет, нет, – возразила Лигия, – я не должна его ненавидеть, ведь я христианка.
– Я знаю, Лигия. Знаю также из посланий Павла из Тарса, что запрещено мириться с бесчестьем и страшиться смерти больше, чем греха, но скажи мне, дозволяет ли твое учение причинять смерть.
– Нет.
– Так как же можешь ты навлекать месть императора на дом Авла?
Наступило минутное молчание. Опять перед Лигией разверзалась бездонная пропасть.
– Я спрашиваю это, – заговорила опять молодая вольноотпущенница, – потому что мне жаль тебя и жаль добрую Помпонию, и Авла, и их мальчика. Я-то давно живу в этом доме и знаю, чем грозит гнев императора. Нет, бежать отсюда вам нельзя. У тебя остается один путь: умолять Виниция, чтобы он отдал тебя Помпонии.