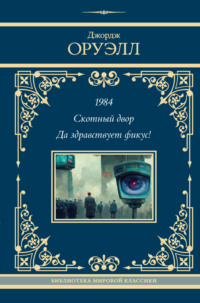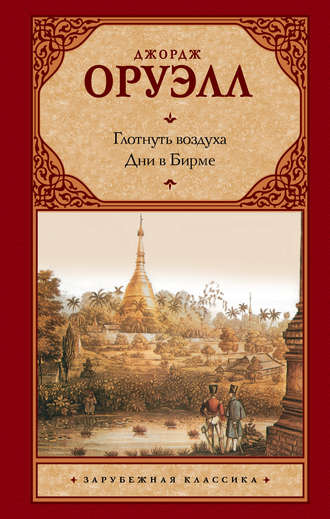
Полная версия
Глотнуть воздуха. Дни в Бирме
С шестнадцати лет мои рыбацкие походы прекратились. Занят был, понимаете ли, времени никак не выкроить. Я работал, обхаживал девчонок, надел первые свои ботинки на кнопках и первый свой высокий воротничок (для воротничков 1909 года шея требовалась как у жирафа), учился на заочных торгово-бухгалтерских курсах и «развивал интеллект». А громадные рыбины кружили в дальнем лесном озерке Бинфилд-хауса, и знал об этих рыбах я один, в памяти-то моей они сидели. Был день (в какие-то длинные праздники, наверно), когда я уже собрался съездить на озерко. Но не поехал. Все успевал, а это нет. Между прочим, единственный с юности случай, когда я был буквально в шаге от рыбалки, произошел в годы войны.
Случилось это осенью 1916-то, как раз перед тем, как меня ранило. Нас вывели из траншей к деревне за линией фронта, и хоть стоял еще сентябрь, в грязи мы были по уши. Как полагается, никто не знал, на сколько нас туда и куда погонят потом. По счастью, командира нашего скрутил зверский бронхит, а посему солдат не теребили смотрами, проверками снаряжения, футбольными матчами и прочим, чем положено между боями поддерживать воинский дух. Первый день мы, расквартированные по сараям, отлеживались на сене и соскребали грязь с обмоток, вечером часть парней организовалась в очередь к двум жалким истасканным шлюхам, обосновавшимся в домике на краю деревни. Наутро, нарушив приказ не покидать селение, я потихоньку выбрался в поля, вернее – уже не поля, а жуткие, безобразные пустоши. Утро было студеное, сырое. Всюду, конечно, пакость и разруха, мерзкий хаос войны, который еще гаже фронтового поля с трупами. Обломанные деревья, воронки от снарядов, где уже полно всякого мусора, дерьма, жестянок, мотков ржавой колючей проволоки с проросшими сквозь нее сорняками. И это вот чувство, которое в тебе, как вылезешь из окопов. Каждая косточка ноет, а внутри тоскливая пустота, ощущение, что уже никогда ни в чем не блеснет для тебя ни малейшего интереса. Тут и страх, и смертельная усталость, но главным образом скука. В то время войне конца-края не предвиделось. Со дня на день тебя должны были снова отправить драться, вскоре тебе грозило под пушечным обстрелом разлететься в кровавые клочья, но хуже всего была эта беспросветная скука навеки.
Бродя по полю, я столкнулся со знакомым парнем, фамилию его уже не помню, только прозвище – Нобби[23]. Мне, глядя на него, смуглого, цыганистого, плечи горбом, всегда казалось, что парень тащит пару украденных кроликов. До войны он в Лондоне торговал с лотка и был истинным кокни[24], но из тех бедовых парней, которые регулярно отправляются собирать хмель, отлавливать пичужек, браконьерствовать, грабить сады в Эссексе или Кенте. Крупный специалист по псам, хорькам, птичьим клеткам, петушиным боям и всему в этом роде. Приветственно кивнув, Нобби своим насмешливым жаргонным говорком позвал меня:
– Хромай сюда, Джордж! – (Я тогда еще не растолстел, приятели еще называли меня Джорджем.) – Зришь вон за полем компашку тополей?
– Ну.
– С тылу там пруд, а в нем до черта рыбы.
– Какой рыбы? Не заливай!
– Да говорю те – окуньки, и до черта их. Прям горстями хватай. Пошли, сам обалдеешь.
Мы потащились по грязи. Нобби не обманул. За тополями в песчаных откосах действительно колыхался довольно мутный пруд – похоже, заполнившийся водой старый карьер. И окуней тьма. Всюду под водой роились синевато-полосатые спинки, мелькали даже экземпляры на фунт весом. Должно быть, здорово размножились за два года войны, пока их не тревожили. Что со мной сделалось при виде этих окуней! Словно они в один момент к жизни меня вернули. Естественно, в мозгах у нас закипело – нужны какие-нибудь удочки.
– Черт! – сказал я. – Придем и натаскаем!
– Пари держу, отлично, на… нагребем! – поддержал Нобби. – Двинули к деревне. Пошустрим, сладим снасть.
– Угу, только по-тихому. Сержант узнает – всыплет нам.
– Пошел он на… Пускай они меня после свяжи-подвесь-и-раздери[25], а схожу нахватаю драной рыбицы!
Вам не понять, как нас с ума свела эта возможность порыбачить. А может, и понять, если вы побывали на войне. Тогда вы знаете насчет дикой армейской скуки, как там хватаешься за буквально любое развлечение. Я видел двух парней, призванных из запаса, которые чуть не насмерть подрались, дергая друг у друга затрепанный журнальчик. И кое-что еще дороже – надежда почти на целый день сбежать от атмосферы солдатских будней. Сидеть под тополями, удить окуней вдали от боевого братства, шума, вони, униформы, командиров, козыряния старшим по званию, зычных окриков сержанта. Рыбалка – дело, противоположное войне. Однако нас лихорадила надежда, но уверенности, что получится, не было никакой. Мог вызнать и на корню пресечь все наши планы сержант либо кто-то из офицеров, и самое плохое – неизвестно было, долго ли нас там продержат (могли оставить на неделю, могли через пару часов отправить маршем). Между тем ничего для рыболовной снасти – ни булавки, ни даже куска крепкой нити – не имелось; все требовалось соорудить с нуля. А рядом пруд, кишевший окунями! Во-первых, нужен был хороший, гибкий прут. Полагалось бы ивовый, но ив, конечно, до горизонта не оказалось. Нобби присмотрел тополек, срезал ветку и обстругал ее складным ножом; вышло не совсем то, но лучше, чем ничего. Запрятав это подобие удилища в гуще травы у берега, мы незаметно прокрались обратно в деревню.
Далее требовалась игла, чтобы сделать крючок. Где взять? У одного парня имелись штопальные иглы, но слишком толстые, с тупым концом. Чего нам надо, мы не объясняли: боялись, что долетит до сержанта. Наконец стукнула идея насчет шлюх, практиковавших на краю деревни, – у них наверняка иголки есть. Когда мы туда добрались (к задней двери, со стороны уляпанного навозом двора), дом был заперт и шлюхи дрыхли честно заработанным сном. Минут десять мы орали, дубасили в дверь, пока на пороге не показалась жирная уродина в халате, гавкнувшая что-то по-французски.
– Иглу! Иголку! Нам нужна иголка! – крикнул ей Нобби.
Поскольку она, разумеется, не поняла, Нобби решил, что исковерканный английский иностранке уразуметь легче.
– Игла хотеться! Тряпка шить! Вот так вот! – Он изобразил процесс шитья. Ошибочно истолковав его жесты, шлюха пошире открыла дверь. В конце концов мы все же втолковали про иглу и ее получили. А тут как раз уже обед.
После обеда в сарай приходил сержант назначить парней в наряд, но мы с Нобби успели вовремя нырнуть под копну сена, а после ухода сержанта зажгли свечку и ухитрились согнуть крючком раскаленную иглу. Из инструмента только складные ножи, и пальцы были сплошь в ожогах. Теперь изготовить леску. У всех лишь мотки рыхлой толстой штопки, но нашелся малый с катушкой настоящих швейных ниток. Чтобы этот жмот поделился, мы ему отдали целую пачку сигарет. Нитка была, конечно, слабовата, однако Нобби сложил ее втрое и, закрепив концы гвоздем к стене, сплел крепкой тугой косичкой. Тем временем мне, обойдя деревню, удалось найти валявшуюся пробку, я ее посредине продырявил, вставил поперек спичку – будет поплавок. Дело шло к вечеру, уже темнело.
Основными элементами снасти мы себя обеспечили, хорошо было бы еще обзавестись поводком из кишки. Долго не удавалось придумать ничего путного, потом мы вспомнили про санитара. Кетгут для зашивания ран в его комплект первой помощи не входил, но он, наверно, мог достать. Спросили его, и надо же, он в своем рюкзаке припрятал большой клубок хирургической нити (соблазнился в каком-то госпитале и упер). Подгнивший кетгут полопался на короткие, дюймов по шесть, обрывки. За десяток их мы выложили санитару еще пачку сигарет. Задубевшие обрывки Нобби размочил и накрепко связал. Итак, у нас появилось все: удилище, леска, крючок, поплавок, даже поводок. Червей где-нибудь накопать не проблема. И пруд со снующими окунями! Крупными толстяками полосатиками, умоляющими, чтоб их выудили! Мы в такой лихорадке легли подремать, что даже башмаки не сняли. Завтра! Только бы завтра! Только бы на денек война о нас забыла! Решено было сразу после утренней поверки смыться до вечера, а там пускай хоть арестуют и под трибунал.
Что ж, думаю, вы уже сами догадались про дальнейшее. На утренней поверке приказ собраться и через двадцать минут с вещмешками в строй. Девять миль мы протопали пешком, затем нас посадили на грузовики и отправили на другой участок фронта. Тот пруд за тополями я больше никогда не видел и не слыхал о нем. Предполагаю, рыбу там позже перетравили горчичным газом.
И с тех пор никакой рыбалки. Случая не находилось. Война, после войны, как и у всех вокруг, битвы в поисках места; потом я получил работу, а работа получила меня. Пристроился я в страховом бизнесе, пополнив ряды тех многообещающих молодцов с крепкими челюстями и отличными перспективами, которых вам рисует реклама Кларкс-колледжа[26], а затем стал обычным подневольным пять-десять-фунтов-в-неделю, со своей полуотдельной виллой в полугородском поселке. Личности такого разряда на рыбалку ходят не чаще, чем биржевые брокеры на сбор подснежников. Не подобает! Нам назначен другой отдых.
Конечно, у меня каждое лето две недели отпуска. Вы знаете, что это за отпуска: Маргит, Ярмут, Истборн, Гастингс, Борнмут, Брайтон[27]. Небольшие вариации в зависимости от того, как в этот год с деньгами. А главное занятие на отдыхе с моей дражайшей Хильдой – бесконечная арифметика в уме для выяснения, на сколько шиллингов нас надувает хозяйка пансиона. И еще относительно детишек («нет-нет, мы сейчас им не можем купить новое ведерко для песка!»). Несколько лет назад мы были в Борнмуте. Одним прекрасным днем шатались всей семьей по пирсу, он там тянется на полмили, и вдоль него сплошной шеренгой рыболовы: в руках короткие толстые удилища со звоночками на конце и лесками, закинутыми в море на полсотни ярдов. Унылая ловля, тем более что ни у кого не клевало. Однако же люди рыбачили. Детям там скоро надоело, они стали канючить, проситься обратно на пляж; Хильда, увидев скользкого червяка на крючке, охнула, что ей дурно. Но я тянул время, продолжая бродить, завистливо и жадно наблюдать. Внезапно зазвенело, и парень начал сматывать леску. Все головы повернулись к нему. Да – показалась мокрая леска, потом шишка грузила, и, наконец, на крючке завихлялась большая плоская рыба (видимо, камбала). Парень кинул ее на доски пирса; рыбина, трепыхаясь, сверкала каплями воды на серой бугристой спинке и белом брюхе, от нее резко потянуло соленой морской свежестью. Внутри у меня что-то ухнуло.
Покидая пирс, я небрежно, только чтобы проверить реакцию Хильды, бросил:
– А что, не сходить ли мне тоже поудить рыбку, пока мы здесь?
– Удить! Тебе, Джордж? Ты ведь, кажется, даже не умеешь?
– Хо-хо, да у меня огромный опыт! – сказал я.
Хильда, как всегда, моментально настроилась против, хотя сразу не придумала возражений, кроме того, что не пойдет со мной – смотреть, как я насаживаю на крючок жуткую осклизлую гадость. Но минуту спустя ей стукнуло, что для моей предполагаемой рыбалки понадобятся лески, катушки и все прочее на сумму, может, в целый фунт. Одно удилище, наверно, будет стоить бобов десять. Тут она впала во мрак (на Хильду стоит посмотреть, когда дело коснется десятка бобов), и ее прорвало:
– Придумали – деньги кидать на все эти бирюльки! Вздор какой! И как же они смеют по десять шиллингов брать за дурацкие рыболовные палки! Бесстыдство! И только представить тебя, в твоем возрасте, с удочкой! Взрослого солидного человека! Довольно уже быть малюткой, Джордж.
Тут подключились дети. Лорна мне писклявит со своей наглой детской глупостью: «Папуля, ты малютка?», а Билли, еще не умевший правильно выговаривать слова, вслед за ней шепелявит: «Фафуля малютка…» После чего они давай плясать вокруг меня, грохоча совками по своим ведеркам и вопя:
– Фафуля – малютка! Фафуля – малютка!
Сопливые бессердечные отродья!
6
Кроме рыбалки были еще книжки.
Если у вас создалось впечатление, что меня увлекала только и единственно рыбалка, это я перегнул. Рыба, конечно, была на первом месте, но на втором – книжки. Лет в десять-одиннадцать я начал читать – то есть читать по своей воле, своему желанию. В том возрасте это буквально открывает новый мир. Я и теперь заядлый читатель – нет месяца, чтобы не глотнул пару романов. Типичный абонент фирменных платных библиотек, хватаю все свежие бестселлеры («Добрые друзья» Пристли, мемуары Брауна «Бенгальский улан», «Замок Броуди» Кронина – от такого не удержусь), больше года состоял членом Левого книжного клуба и в 1918-м, когда мне было двадцать пять, пережил настоящий книжный запой, немало-таки изменивший мой взгляд на жизнь. Но ничто не сравнится с годами открытия того, что, стоит лишь раскрыть дешевую, с грубой бумагой книжечку типа журнальной тетрадки, и вмиг очутишься в бандитском логове или китайской курильне опиума, на островах Полинезии или в лесах Бразилии.
Сильней всего я упивался чтением в возрасте от одиннадцати до шестнадцати. Сначала только тощенькие сборники для мальчиков (несколько очерков и рассказиков скверным шрифтом под аляповатой трехкрасочной обложкой), чуть позже уже книжки. Приключения Шерлока Холмса, Рафлза, Доктора Николы, Дракулы, Железного Пирата. Сочинения Ната Гулда, Рейнджера Гала и этого парня… забыл имя, который так же лихо писал про бокс, как Нат Гулд про бега и скачки. Будь родители лучше образованны, они наверняка пихали бы в меня «хорошую» литературу: Диккенса, Теккерея и тому подобное, и, кстати, в школе нас все же заставили продраться сквозь «Квентина Дорварда»[28], а дядя Иезекииль делал попытки возбудить во мне интерес к Рёскину и Карлейлю. Но в доме у нас книг-то фактически не водилось; отец за всю жизнь не открыл ни одной, разве что изредка заглядывал в Библию да в лечебник «Помоги себе сам», а личное мое согласие узнать «хорошую» литературу явилось уже много позже. И мне не жаль, что вышло так. Я читал вещи, которые хотел читать, из которых извлек больше, чем из того, что разбиралось на школьных уроках.
Грошовые сборники леденящих кровь историй начали исчезать, когда я был еще ребенком, однако дешевые выпуски приключенческих серий печатались регулярно, и кое-что из них до сих пор живо. Повести про следопыта Буффало Билла, думаю, забыты, Ната Гулда тоже, вероятно, уже не читают, но сыщики Ник Картер и Секстон Блейк вроде бы сохранили популярность. Где-то с 1905-го, по-моему, стали выходить детские журнальчики «Магнит» и «Колибри»; старина «Би-о-пи»[29], кажется, выходит по сей день; примерно с 1903-го появился журнал «Друзья-приятели» – чтиво просто роскошное. Кроме того, энциклопедия (не помню точно ее название), которая издавалась отдельными тетрадками, пенни за выпуск. Подобная трата не считалась стоящей, но один мальчик в школе иногда отдавал мне старые экземпляры, и если я сегодня знаю длину Миссисипи, или разницу между осьминогом и каракатицей, или компоненты сплава колокольной бронзы – исключительно оттуда.
Джо читать вообще не хотел. Брат был из тех, кто учится-учится, а потом не в силах прочесть хоть десять строк подряд. От одного вида печатных текстов его мутило. Я видел, как иной раз Джо, раскрыв какой-то из моих журналов и пробежав абзац, брезгливо фыркал, будто лошадь, нюхнувшая гнилое сено. Он пытался и у меня отбить охоту к чтению, но отец с матерью, сочтя меня «способным», поддержали это мое пристрастие. Моя «книжность» им явно льстила, хотя, что характерно для обоих, родителей несколько огорчало сыновнее влечение к страницам «Друзей-приятелей» или «Юнион Джека», им бы хотелось тут чего-нибудь «полезней для ума». Правда, по недостатку знаний насчет книг, они довольно слабо представляли, что именно для ума полезней. Однажды мать мне все-таки купила подержанный томик Фокса, но читать эти «Жития мучеников»[30] я не стал; иллюстрации, впрочем, разглядывал не без интереса.
Всю зиму 1905-го я каждую неделю выкладывал пенни за очередной номер «Друзей-приятелей» – там печатался умопомрачительный сериал «Донован Бесстрашный». Донован Бесстрашный был исследователем дальних стран, которого американский миллионер нанял отыскивать и привозить со всего света разные дивные редкости: то, например, добытые в кратере африканского вулкана алмазы величиной с теннисный мяч, то бивни окаменевших мамонтов из морозных лесов Сибири, то тайные сокровища инков из затерянных перуанских городов. Донован каждую неделю совершал новую экспедицию, и всегда с потрясающим успехом. Любимым местом чтения у меня был чердак сарая на заднем дворе. Помимо прочего, когда отец там не возился, набирая новые мешки товара, это было самое тихое в доме место. Груда пустых мешков мягкой лежанкой, смешанный запах сыроватой штукатурки и семян, по углам паутина, прямо над головой потолочная отдушина среди облупившейся драночной сетки. Вижу и чувствую как сейчас: зимний, но достаточно теплый денек, а я лежу на животе, раскрыв перед собой номер «Друзей-приятелей». Словно кукушка из часов, из-за мешков внезапно выныривает мышь и замирает, уставясь на меня агатовыми бусинками глаз. Мне лишь двенадцать, но я Донован Бесстрашный. Одолев две тысячи миль по Амазонке, я только что раскинул свою палатку, и под походной койкой у меня в оловянной коробке надежно спрятаны корни таинственной орхидеи, цветущей один раз в столетие. А вокруг в лесной чаще натирающие зубы алым соком, живьем сдирающие кожу с белых людей индейцы племени хопи-хопи бьют в боевые барабаны. Я гляжу на мышонка, он глядит на меня, пахнет пылью, мякиной и штукатуркой, и я в амазонских джунглях, и это счастье, чистое счастье.
7
Ну вот, собственно.
Попытался рассказать вам кое-что насчет предвоенной жизни – жизни, нахлынувшей вдруг на меня по странному сцеплению с мелькавшим в газетах именем короля Зога, – и вряд ли что-то действительно рассказал. Или вы сами помните то время и в чужих описаниях не нуждаетесь, или не помните, и тогда песни мои мимо. Но я все говорил про годы до своих шестнадцати. До той поры у нас в семье дела шли, в общем-то, благополучно. А вот буквально накануне шестнадцатого дня рождения я получил первое представление о том, что принято называть «реальностью», подразумевая неприятности.
Дня через три после того как я увидел в Бинфилд-хаусе громадных сазанов, отец вышел к чаю взволнованный и еще более блеклый, еще гуще обычного засыпанный мучнистой пылью. За столом, почитая процесс трапезы, он обронил всего несколько слов (жевал отец всегда очень сосредоточенно, усы его ходуном ходили вверх-вниз и даже вбок вследствие недостатка многих коренных зубов). Но только я поднялся из-за стола, он задержал меня:
– Погоди, Джордж. Сядь, сынок, на минутку. Кой-чего надо мне тебе сказать. С тобой, мать, я уж вчера на ночь про это говорил.
Мать, сидя возле большущего заварочного коричневого чайника, торжественно сложила руки на коленях и устремила на нас внимающий взгляд. Заговорил отец с необычайной серьезностью, слегка снижая впечатление попытками вытолкнуть языком застрявшую в глубине десен крошку.
– Сынок, кой-чего должен я сказать. Подумал я, прикинул – надо бы тебе сейчас отставить школу. Что тут поделаешь, пора уж помаленьку зарабатывать, матери на хозяйство приносить. Мистеру Бакенбарду я уж вчера написал, сказал, что забираю тебя со школы.
Конечно, так оно и полагалось: сперва уведомить директора, меня оповестить потом. Родители в те времена насчет детей решали, не спрашивая самих чад.
Отец продолжал взволнованно и довольно невнятно бормотать. Объяснять, что «плохие времена», что стало «трудновато», и потому придется уж нам с Джо хоть малые деньги давать на прожитье. Я тогда не понимал, вернее, меня не занимало, хорошо это или плохо – идти зарабатывать деньги. Коммерция от меня тогда была так далека, что я даже не уловил, почему вдруг нам стало «трудновато». А дело было в том, что отца подкосила конкуренция. «Сарацин» – торговавший семенами спрут с филиалами по всей стране – запустил щупальце и в Нижний Бинфилд. Полгода назад этот сетевой гигант арендовал на нашей Рыночной площади магазин, разукрасив его как игрушку: ярко-зеленый фасад, позолоченная вывеска, разноцветный садовый инвентарь, огромные, за сотню ярдов бьющие в глаза плакаты, восхваляющие душистый горошек. Помимо всевозможных семян «Сарацин» рекламировал свои «универсальные корма для скота и домашней птицы», причем, кроме обычного зерна, имел в ассортименте патентованные смеси, птичий корм в нарядных пакетиках, собачьи галеты всех форм и видов, микстуры, мази, полезные добавки, а также более широкий круг товаров, включая мышеловки, ошейники и поводки, сачки, инкубаторы, луковицы цветов, средства от сорняков, инсектициды, даже продававшихся в отделе под громким названием «животноводство» кроликов и суточных цыплят. Отец, с его пыльной старой лавкой, с упрямым отказом от всяких новшеств, противостоять этому не мог и не стремился. Разъезжавшие по округе, торговавшие со своих конных фургонов коммерсанты и фермеры – поставщики зерна или семян поначалу сторонились хватких управителей «Сарацина», однако довольно скоро местная благородная публика (то бишь владельцы хоть каких-то лошадей и экипажей) дружно сплотила свои ряды. Для отца и еще одного торговца того же профиля, Уинкля, это означало огромные убытки. Но до меня, относившегося ко всему еще по-детски, ситуация не доходила. Семейный бизнес меня нисколько не интересовал; я практически никогда не помогал в магазине, и если порой требовалось сбегать куда-то с отцовским поручением или помочь втащить-вытащить мешки с товаром, обычно старался отвертеться. Ребята у нас в классе были не такими младенцами, как ученики закрытых школ, – знали, что такое работа и что такое шестипенсовик, но ведь мальчишке отцовское дело, естественно, только скука. Удочки, велосипеды и шипучий лимонад ценились мной тогда стократ больше чего-либо из мира взрослых.
Отец уже поговорил со старым Гримметом, бакалейщиком, искавшим бойкого парнишку и готовым взять меня немедленно. Отцовского юного подручного решено было рассчитать; предполагалось, что его обязанности временно, до получения стабильного места, возьмет на себя Джо. Джо, еще раньше покинувший школу, болтался тогда без определенных планов на будущее. Временами отец высказывал намерение пристроить его в бухгалтерию пивоваренного завода, а до того бродила мысль о его карьере аукциониста, – проекты в равной степени безнадежные, поскольку семнадцатилетний Джо писал как курица лапой и не сумел освоить таблицу умножения. В данный момент он, как считалось, «учился торговому делу» в большом велосипедном магазине на окраине Уолтона. Возня с железками велосипедов отвечала натуре Джо, подобно большинству оболтусов имевшего некую склонность к механике, но из-за неспособности трудиться он главным образом проводил время, шляясь в засаленном комбинезоне, дымя сигаретами, ввязываясь в потасовки, выпивая (он уже начал), находя случаи «потрепаться» то с одной, то с другой девчонкой и настырно выпрашивая деньги у отца. Отец же в тот период был встревожен, озадачен и внутренне как бы обижен. В течение многих лет его коммерческая прибыль медленно, но постоянно росла (в том году на десять фунтов, в этом – на двадцать…), и вдруг цифры доходов пошли вниз. Но почему? Бизнес он унаследовал от своего родителя, торговал честно, трудился упорно, товар продавал качественный, никого не обманывал – и вдруг почти нет прибыли? Нередко он, пообедав и справляясь с застрявшей в зубах крошкой, заводил речь о том, что времена плохи, торговля идет еле-еле и он не понимает, куда это нынче людей повело (прямо как если бы коню овес стал не по вкусу). Видно, делал он вывод, это все автомобили. «Вонючки гадкие!» – вставляла считавшая долгом поддержать отца, хотя отнюдь не столь встревоженная мать. Бывало, во время отцовских рассуждений я замечал на ее лице отсутствующий взгляд и слегка шевелящиеся губы: мать решала, тушить ли завтра говядину с морковью или опять баранину. Кроме завтрашнего меню, ей требовалось поразмыслить насчет покупки полотна на простыни или новых кастрюль, а относительно тревог отца она видела только, что в магазине у него что-то не ладится и он расстроен. Вообще никто в нашем семействе ситуацию по-настоящему не понимал. Отец переживал, что год выдался неудачный, но страшился ли он грядущих бед? Не думаю. Год-то, не надо забывать, был 1909-й. Отец не знал, какая катастрофа его ждет, он не сумел предугадать, что «Сарацин» будет систематически ставить цены ниже, чем у него, что его попросту раздавят и проглотят. Да и как мог он представить такое? Подобного не случалось в дни его молодости. Ему было известно про настигающие иногда «плохие времена», когда торговля «не идет» (это он нам и повторял), но ведь, конечно же, дела опять «пойдут».
Приятно было бы тут рассказать, как я ринулся помогать отцу в его несчастье, как я, внезапно повзрослев, проявил качества, которых никто во мне не подозревал, и прочее и прочее – все, о чем выразительно писалось в толстенных романах тридцатилетней давности. Не менее приятно было бы сообщить, что я горько страдал от жестокой необходимости бросить учебу, что мой юный пытливый ум, рвавшийся к знаниям, изнывал в тоске от тупой, каторжной работы, и прочее и прочее – о чем выразительно повествуют толстенные романы сегодня. Красивые слова. На самом деле идея пойти работать мне понравилась, особенно вдохновила мысль о том, что старый Гриммет собирается платить в неделю двенадцать шиллингов, четыре из которых я смогу оставлять себе. Даже огромные сазаны Бинфилд-хауса, заполнявшие до этого мои думы, вмиг померкли. Я совершенно не возражал покинуть школу на несколько семестров раньше. Обычный случай среди моих однокашников. Паренек собирался в университет или готовился в инженеры, строил планы «подучиться бизнесу» в Лондоне или податься в моряки, а потом раз – уведомление директору, и через день парнишки в классе уже нет, и пару недель спустя его встречаешь: развозит на велосипеде овощи. Все пять минут, в течение которых отец излагал обстоятельства, вынуждающие забрать меня из школы, я напряженно обдумывал вопрос о новом костюме, необходимом для появления на службе. После чего тут же стал требовать себе «взрослый костюм» и непременно с модным в то время у джентльменов однобортным сюртуком (назывался он, кажется, «визитка»). Шокированные отец с матерью сказали, что «не желают даже слышать о таких вещах». По какой-то не совсем понятной мне причине родители тогда до последнего сражались против чего-либо взрослого в облике юных дочерей и сыновей. В каждом семействе шла упорная борьба, прежде чем парень надевал свой первый высокий воротничок или девушка закручивала волосы наверх.