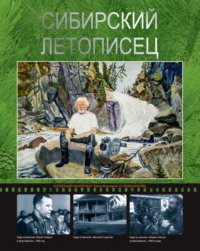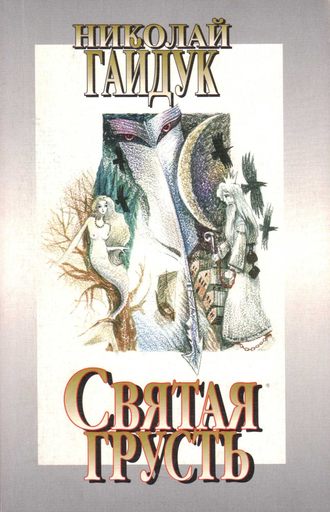
Полная версия
Святая Грусть
Будет исполнено!
Подожди. Экий ты шустрый. Как таракан. Я сам посты проверю. Я говорю, что перед этим надо чайку попить.
Дело говорите. Медочку принести?
– Догадливый ты, паря. Ну, давай. Одна нога здесь, а другая в саду!
Ростислав – перед тем как начальник потревожил его «зеркало» делал из своего сапога. Так старался, так драил сапог, будто собирался бриться перед ним.
Теперь же, откинув сапожную щетку, солдат поспешно взял под козырёк, только забыл, что на руке – сапог.
Усы начальника затрепетали от хохота.
Проснись, тетеря!
Есть проснуться! – Надраенный правый сапог остался блестеть у порога, а левый – засверкал, закопытил за стеной караульной избы. Ростислав бежал по саду, спотыкался на камнях, пробуксовывал на чернозёмном дымном киселе.
Начальник взял с подноса осьмигранную кружку, налил кипятку. Усами подёргал, причмокивая и уже предвкушая медовую блажь.
Но солдат почему-то вернулся быстрее обыкновенного. Дверь за спиной широко распахнулась – аж затылок у Охры ветерком обдало.
– Ви… новат, – пролепетал побледневший парень.
«Тигровый глаз» охранника метнулся в темноту за двери.
Что случилось?
Бе… бе…
Короче! – рассвирепел начальник. – Что ты блеешь, как баран на новые ворота?!
Бе… беда, ваше бродие! Там в каждой бочке меда… по ложке дегтя!
От изумления Охран Охранович усы уронил в кипяток. Осьмигранная кружка в руке заплясала, кидаясь каплями.
– Ох, мать вашу дёгтем! – Он подскочил, ошпаренный. Кружка расплескалась в воздухе, ударилась об пол – разлетелись крупные куски заморского фарфора, похожего на рафинад.
В тишине за стеною почудилось хрюканье. Охран Охранович палец поднял к потолку – достал до матицы.
– Ты слышал?
Так точно-с! – Ростислав глядел на указательный перст начальника.
Значит, проворонил? Пропустил нечистого?
Не может быть!
А кто же это хрюкает?
Солдат подумал, продолжая преданно пялиться наверх.
Доедала, наверно? – сказал неуверенно.
Какой тебе… надоедала?
Ну, который недавно пришёл во дворец. Доедалой работает при царском столе. Иногда он в поросёнка превращается. Я видел. Как нажрётся, так…
Что ты плетёшь?
– Ей-богу! Хоть под присягой могу подтвердить!
Красная жжёная охра на скулах начальника заметно побелела. Стоячие усы обвяли – сделались похожими на крылья подбитой птицы.
Однако через несколько мгновений «тигровый глаз» уже горел тигриною отвагой и решимостью – прожигал сырые сумерки предутреннего сада.
– Я поросёнка этого найду! – сам себе пообещал охранник, внимательно заглядывая под кусты и деревья. – А это что? Петух? Железный? Странно. Как он сюда прилетел?
Глава четвёртая. Над широкою хрустальною волной
1Робкий розовый лучик – наподобие птенчика – полетел с востока через тайгу, через моря, через поля. И вдруг застрял, зажатый огромными скалами на перевале. Набежавший ветер чуть подтолкнул его. Лучик расправил крылья, осмелел, вырываясь на волю, и даже стал какую-то песню щебетать, пролетая сквозь туманы, скирдами стоящие на берегах, на полянах.
Вслед за первым лучом стриганул в небеса и второй, и третий…
С каждой секундой светало Святогрустное Царство – необъятное, дивное. Сёла и деревни просыпались. Пробуждались гардарики – так в этом царстве когда-то называлась города. И пройдёт совсем немного времени, когда весёлое и дерзкое племя дурохамцев нагрянет сюда, и устроит…
А впрочем, не стоит, не стоит вперёд забегать.
2Царь-Город посветлел. Колокольни в небесах раззолотились. И переулки, и улицы и площади – всё кругом оголосилось.
Кто-то радостно воскликнул:
Доброе утречко, Устя! Пришёл?
Доброе, доброе…
Как ночевалось в полях?
– Красота!
Устя Оглашенный – юродивый старик. Ходит по стране, чего-то ищет. В Царь-Город заворачивает время от времени. За плечами Оглашенного – гармошка с дыркою на ситцевых мехах. Говорят, когда Устя начинает играть, из дырки этой, как из скворечника, вылетают птицы – волшебные Сирины и Алконосты.
Два старика остановились – борода к бороде. Оба глуховатые, кричат:
Казнить как будто сёдня будут?
Ой, навряд ли, кум!
Пошто?
Царь больно мягкий. Нам потверже надо бы. А то мы совсем распоясаемся!
Нет, моя опоясочка туго затянута!
На другом конце площади – другой разговор.
Будут казнить, только не седня. Палача поджидают.
Какого?.. Дурохамца, что ль?
Нет, заморыша этого… Топтар Обездаглаевич-Ибн-Обуглы. А может быть, ё… об углы?
Рядом – баба в нарядном платке.
Мужики, не лайтесь!
Кто? Марфуша, Бог с тобой! У палача такое имя с отчеством.
Ты меня за дуру не держи!
– Да у меня и руки-то в карманах. Буду я хватать тебя, ага. Размечталась.
Вокруг захохотали. Смущенная баба исчезла в толпе. Угловое окошко открылось в белокаменных царских палатах. Кто-то глазастый сразу приметил:
Ребяты! Царь у окошка стоит!
Волнуется, батюшка.
Известное дело… Тут, бывалоча, куренку башку срубить, сварить похлебку – и то переживаешь, сердцем маисся. А ежли человеку? Он хоть и разбойник, а всё ж таки человек.
Верно глаголешь.
– Ага… Дурохамцы да захребетники будут нам пакости строить, а мы их будем по головке гладить! Слюнтяи! Рубить надо! Секир башка и всё тут… Мягкий царь, беда.
Голоса отдалились, пропали в переулках. Где-то подковы постреливали по сырому булыжнику – повозка через площадь прокатилась.
Оглашенный Устя гармонику поправил за плечом. Серебристую бороду расчёсал костяным гребешком, приговаривая, будто вычесывая горькие слова из кудрявой кудели:
– Эх, сынки зелёные! Как не понимаете? Если царь своим народам станет головы казнить без сожаленья, да без сомненья – голов народных не напасесся на такого царя. «Мягкий», говорите? Будет вам когда-нибудь и твёрдый. Слезами не размочите твердого того. Попомните.
2Утренняя Башня – камень, розовый кварцит. Воздух на рассвете розовеет кругом Башни, пересыпается огневыми пылинками. Башня смотрит на восток большими Царскими часами. На циферблате семнадцать частей. Он потихоньку вращается. Неподвижный золотой «луч солнца», прикрепленный вверху циферблата, – часовая стрелка.
Царь Грустный I замер у раскрытого окна. Задумчиво смотрит на красновато-пепельную тень, откинутую башней наискосок через площадь. Старается не думать, но… Тень похожа на рубаху палача. А сырой булыжник вдалеке сверкает пролитой кровушкой.
Слуга подходит сбоку.
Извините, Ваша Светлость. Вы просили бумагу с пером…
Благодарю. Оставь.
Легкий поклон, шуршание шёлковых одежд. Слуга скрывается за боковою дверью, не отличимой от рисунка на дорогих шпалерах. Только осталось в воздухе благоуханье, но Ветер вылизал его через мгновенье.
Ветер в окошко ворвался, повинуясь короткому царскому жесту. Они давно друг друга понимают без лишних слов. Царь походил по кабинету. Принахмурился… Ветер тут же подхватил гусиное перо, покружил над столом и стремительно кинул в окно… Царь даже бровью не шевельнул… Ветер свистнул, смелея. Забрал со стола казённую бумагу с золочёным царским вензелем.
– Хватит! – одёрнул государь. – Ты себя ведёшь, как дурохамец!
Ветер затих, прозрачною рукою обхватив занавеску.
На Утренней Башне заговорили часы – молотки с молоточками. Перезвоны посыпались дивным серебристым зерном, засевая горы и долины, а тихий малиновый бой подголосков падал на кусты малины в государевом саду; малина вырастет волшебной ягодкой; на языке будет позванивать такая ягодка, рождая чудную мелодию.
Прохлада плещется в окно, трезвит горячий лоб царя.
Ветер выскочил в сад. Голубыми пружинами ветки в саду закачались. Волны в реке поднялись на ребро. Белый парус поклонился Ветру… Слышен приглушенный ропот рыбарей – ругаются, едва не опрокинувшись. Только молодец в черной косоворотке, стоящий на руле, смеётся, белыми зубами светит издалека и хрипловатым голосом поёт:
Глубока Хрусталь-река, широка,Растолкала, раскидала берега,Я па лодочке хрустальной поплывуДа с весёлою русалкой заживу…Песня отвлекла царя – песня увела к тем временам, когда Святогрустное Царство только-только зарождалось.
Человек, впервые появившийся на этих берегах, обнаружил в реке хрустально звенящую, хрустально прозрачную воду. И насчет названия реки человек не мучился – назвал ее Хрустальной. Короче говоря, Хрусталь-река. С глубокой осени до первых вешних солнцепеков река была хрустальная в буквальном смысле слова: здешний лед поражал чистотой. Мастера уходили подальше от берега, рубили, пилили холодный хрусталь и такие игрушечки мастерили потом из него – залюбуешься. Поначалу эти игрушки таяли с приходом вешнего и летнего тепла, но со временем люди изловчились и придумали защиту ледяным хрусталям. То ли заговорами они воздействовали, то ли какими волшебными припарками-приварками, это не важно – важно то, что ледяные хрустали теперь можно было вывозить и зимою и летом: хоть на ярмарку в Царь-Город, хоть в Далёкое Заморье, хоть в Туманное Заокеанье. Да и не только игрушки.
Хрустальные стёкла здесь появились очень рано.
В то время, когда люди, живущие за морем – заморыши; и в то время, когда захребетники – люди, живущие за хребтами – глядели на белый свет сквозь бычьи пузыри и смутные слюдяные оконца, – святогрустный мастер в свои дома вставлял хрустальные тонюсенькие стеклышки. А если мастер был высокого полёта, он творил чудеса: мог сохранить и золотую рыбку, вмороженную в стеклышко; и водяную лилию; и даже капельку речного жемчуга. Так что эти окна в резных и расписных весёлых ставнях были похожи на прозрачные картины.
Вот такая Хрусталь-река протекала через всё великое пространство святогрустной земли.
…А хрипловатый голос между тем продолжал свою песню, наполненную грубоватой удалью:
Под широкою хрустальною волнойЯ себе дворец построю мировой,Буду я свою русалочку любить,Буду водочку хрустальненькую пить.Царь отошёл от окна, усмехнулся, думая: «У всех свои заботы. У каждого по горю, да не поровну. У одного похлебка жидка, у другого жемчуг мелок… А хорошо, наверное, было бы сейчас облачиться в простое рубище, забраться в этот баркас, пропахший рыбой, и плыть себе и плыть… Да! Пора в дорогу собираться. Грустина пускай тут наследника вынашивает, а я поеду. Надо!»
Чуть слышно зазвенела занавеска с алмазными и жемчужными кистями. Это Ветер поднял гусиное перо, лежащее в мокрой траве за окном, – возвратил царю на стол. Росинка блестела на боковине пера, подрагивая, точно живая.
Царь Государьевич придвинул кресло. Перекрестился, глядя на икону, озарённую светом негасимой лампадки. Вздохнул. Бумагу взял, перо.
Задумавшись, он медленно – точно во сне – стал рисовать высокий и широкий парус, лодку, силуэт рыбаря. Потом спохватился, краснея, как мальчик, застигнутый за проказами.
3Катится, катится время колесом-циферблатом на Утренней Башне. Пухнет, пухнет голова царёва думами. Терзается душа сомнениями. Неспроста седина посолила молодые виски, а морщины прочертили переносье, глубоко взволновали высокий чистый лоб.
Говорят, что надо жить на белом свете веселее, проще. Говорят, надо на жизнь глядеть как бы со стороны – глядеть и улыбаться. Хорошо бы освоить весёлую эту науку, думал царь, склоняя голову над рабочим столом.
Бумага распростерлась – слепила снежной степью. Перо с чернильной каплей на конце то и дело замирает в воздухе. Дрожит перо – знобит его. А когда перо касается бумаги и что-то там выводит каллиграфическим почерком – вдруг чернильные брызги летят во все стороны; чёрными воронами гнездятся на бумажном снегу…
– Нет, не годится, – бормочет государь.
Наполовину готовый смертоносный приказ хрустит в кулаке. И через минуту бумага становится пеплом на золотом подносе. Голубовато-зелёные кольца ядовитого дыма Ветер легко покрутил по столу – укатил в раскрытое окно.
Царь вздохнул. В груди становится просторней – грех с души свалился, вот и хорошо, и слава тебе, Господи.
– Казнить нельзя помиловать, – вслух подумал государь. – Пора поставить точку в этом деле. Только где поставить? Кто подскажет? Казнить нельзя. Точка. Помиловать. Так? Или нет? Казнить. Точка. Нельзя помиловать. Так лучше?
Терзаемый сомнениями, он глубоко макает гусиное перо в чернильный омут и склоняется над приказом о помиловании. Губы трогает улыбка – розовые ямочки вдавились на щеках. И становится ясно, какой он ещё, в сущности, большой ребенок. Да он и сам порою это хорошо осознаёт.
«Разве так царюют? – подумал он, оглядывая стол, заваленный бумагами. – Вот передо мною древние папирусы. Бери пример. Огромные курганы, пирамиды из человеческих отрубленных голов – на устрашение врагам! – по приказу полководца Умерлана сооружалась на бескрайних просторах. А вот ещё пример – воинственное племя дурохамцев шагало и шагает дорогами такого варварства, перед которым даже кровожадный Умерлан выглядит младенцем… Бр-р! Читать противно!»
Царь отодвинул папирус. Да, примеров много, но только сердце почему-то не вдохновляется подобными «подвигами».
Казнить легко. Помиловать труднее.
«Делай то, что труднее!» – отец говорил, завещая корону. А ещё он говорил: «Когда тебе не хочется делать что-то хорошее, доброе людям – подумай о том, что Христос не гнушался даже ноги мыть своим ученикам!»
Царь Грустный I повеселел, рисуя под приказом о помиловании свою роскошную подпись. Теперь оставалось печатью прихлопнуть. Нужно только дернуть шёлковый шнурок – приказать помощнику принести секретный ларчик.
Рука потянулась к шнурку.
Муха в окне промелькнула, жалостливо жужжа. Села на свежую роспись царя – поползла, размазывая черноту чернила… Казённая бумага была испорчена.
Царь Государьевич нахмурился, думая сделать внушение Мухобойщику-Мухогробщику и в то же время втайне соображая, что муха подвернулась очень кстати.
Опять сомненья навалились на царя.
Казнить нельзя помиловать.
– Где поставить точку? Кто подскажет? – спросил он, потирая утомленные виски.
Тишина в кабинете. Только муха взлетела с бумаги – жужжит.
4Слуга появился, мерцая золотыми галунами, отражавшими солнце. Постояв на пороге, он смущённо покашлял, обращая на себя внимание.
– Ку-ку! – изображая кукушку, робко сказал он, потоптавшись около двери. – Ку-кушать подано, Ваша Светлость!
Оторвавшись от новой бумаги, ещё не исписанной, царь посмотрел в недоумении, с трудом соображая, что за «кукушечка» сюда прилетела.
– А-а, это ты? Иду, иду. Уже ушёл.
Терёшка тревожно осматривался. На рабочем столе – документы, которые слуга видел и видит почти каждый день. На этих документах все мало-мальские пометки царя, сделанные карандашом, чуть позднее подвергаются лакировке – покрывают лаком, чтобы сохранились на века, для потомков. Это пухлые папки Терёшка пропускает мимо глаз – не интересно. А вот эта груда пепла, лежащая в пепельнице и рядом – вот это уже любопытно. Что это такое? И почему-то глаза у царя, потерявши привычную синь, приобрели утомленно-пепельный оттенок, «задымились» душевной мукой. Слуга удивился, качнул головой:
Будто пожар здесь был!
Ты угадал, Терёшка. Здесь горела человеческая жизнь, – многозначительно сказал государь. – Но я сумел спасти!
Изумленный Терентий чуть наклонился, посмотрел под стол:
– Где? Какая жисть?
Думая о чём-то своём, государь промолчал.
В кабинете пахло дымом. Слуга поднял обгорелое гусиное перо, валяющееся у окна. И снова поглядел на пепельный стожок, на царя.
Ветер занавеску пошевеливал и доносил до слуха песню птиц… Над крышами Царь-Города проплывала стая гусей-лебедей. Грустные клики падали с небес. Голубоватые тени вереницей протянулись по мокрому двору, перескочили белозубую кремлевскую стену.
Обгорелое перо неожиданно зашевелилось в руке Терентия – пролетело через кабинет и скрылось в распахнутом окне. Слуга рванулся – догонять. Нога поскользнулась на вощеном паркете… Он замахал руками, словно тоже собирался улетать с гусями-лебедями.
Царь улыбнулся.
Поймать? – крикнул Терентий, находя равновесие.
Не надо. Птица любит волю, – ответил царь, с улыбкой наблюдая за пером.
Дверь кабинета захлопнулась.
Шаги царя затихли на паркете вдалеке.
«Чудной какой-то стал, – сказал себе Терентий, пожимая плечами. – Рассеянный, туманный. Какая муха цапнула его? Или это потому, что Августина… Говорят, она того… на сносях!»
Слуга увидел странную муху, ползущую по краю стола. Должно быть, она побывала в чернильнице – чёрный след за ней тянулся по золотому узору.
«Отравленная муха, не иначе! Вот она-то, однако, и цапнула нашего царя-батюшку! А Мухогробщик на что? Куда он смотрел?.. Тут работаешь, работаешь не подкладая рук, а эти дармоеды ничего не делают, тока награды на грудя цепляют!»
Терёшка стал наводить порядок на просторном рабочем столе.
Глава пятая. Наконечник поющей стрелы
1Царица не пожаловала к завтраку – «чаю покушать» – недомогала. Странное дело, но многие знали уже (не знали, так догадывались) о причине «долгожданного недомогания». Переглядывались, пряча добрые полуулыбки: царский двор давно мечтал наследником обзавестись; так что пускай августейшая Августина лежит себе и «недомогает на здоровье».
В столовой тихо. Ждут государя. Голодную слюну глотают, изредка о чем-то перешептываясь.
За дальней шторкой иногда волнами проходит еле уловимое движение. Бедняжка Доедала прячется – здоровенный балбес, разжиревший на царских объедках (царь не знал о нём).
Бедняжка Доедала с голодухи дырку прокусил в тяжёлой шторе. Поглядел на столовые часы, украшенные флейтами и трубами. По времени пора уже трубить отбой – завтрак должен был бы закончиться, а на столах еда ещё не тронута… Голодное брюхо начинает громко возмущаться. Бедняжка Доедала куксится. Как бы не услышали, не выгнали взашей.
2Царский шаг по столовой раздался громогласным чеканом – эхо загуляло по высоким просторным углам. Бедняжка Доедала снова шторку в зубы затолкал – на этот раз чтоб не икнуть. Замер, выпучив глаза и обхватив живот руками; боялся, как бы не заурчала одичавшая от голода утроба. (Странно то, что перед самым приходом царя сюда нагрянул Охран Охранович, проверил все углы, под стол заглядывал, за шторы – и ничего подозрительного не обнаружил).
Придворные сели за стол. Перекрестились. Белые салфетки подоткнули под горло.
Первым блюдом оказались жареные лебеди.
– Что это? – Царь помрачнел.
За столом растерялись.
– Дичь, Ваша Светлость… Э-э… Ваше любимое кушанье.
– Моё? Неужели? – Царь так спросил, что все засомневались в его любимом кушанье: может, перепутали? Неловкое молчание возникло за столом.
– Так, может быть, Вам надо… – робко начал один из придворных.
– Надо сказать охотникам, пусть прекращают, – перебил государь. – Птица в небе хороша, а не на блюде.
Митрополит, сидящий рядом, засопел. Растерянно уставился на государя. Пухлой рукой приподнятая вилка с черенком из горного хрусталя задрожала возле ароматной лебединой корочки: сверкающие зубцы потыкали по донышку, поклевали по стенкам агатовой посуды. Пустая вилка мимо рта поехала – чуть не воткнулась в ухо митрополита.
Глаз не выткните, ваше святейшество, – заметил государь.
Ась? – Митрополит смутился, вилку отложил.
Кушайте, кушайте. – Царь вздохнул, поднимаясь.
А вы?.. Куда же вы?
Святогрустный венценосец помолчал, глядя в пол.
Аппетита нету. Извините, что заставил ждать.
3Восходящее солнце уже ярко било в глаза, полным кругом обозначившись над горами. Царь поднял десницу – подломил некрепкие лучи. Залюбовался лебединой стаей. (Это была уже другая, многочисленная).
Гортанными криками наполняя долину, птицы величаво и стройно уходили за Хрусталь-реку. Широкий клин рассыпался белою цепочкой и пропадал в рассветных туманах, окутавших берег.
Неподалеку стоял Звездочёт Звездомирович. Ждал удобного момента для доклада.
Царь видел краем глаза – повернулся к нему и спросил:
– Как дела? Всё в порядке?
Звездочёт замялся.
– Так-то да… А так-то нет.
Государь улыбнулся одними губами; глаза оставались серьезными.
Ответ, достойный дипломата, а не Звездочёта. Ну, говорите! Что? Что такое?
Тринадцатый знак Зодиака над нами…
Тринадцатый? Это который? Напомните.
Змееносец!
– А-а, вспоминаю… Идите… Хотя, нет. Минуточку.
Святогрустный венценосец понимал, что знаки Зодиака существуют только в воображении. И все-таки настроение было отравлено. Юный цесаревич – старший брат – был зарезан много лет назад во время открытия на небе тринадцатого знака Зодиака. Можно было думать, что это лишь совпадение… Но… проклятый Змееносец не первый раз уже дает знать о себе самым нехорошим образом.
И вдруг возникло непонятное желание: увидеть того преступника, поднявшего руку на цесаревича.
Где он? – Царь объяснил, о ком речь.
На Столетних Стонах.
А это что? Напомните.
Рудник. В тайге.
Живой ли он? Разбойник-то? Звездочёт глядел на небо. Спохватился.
А? – сказал, вздрагивая. – Живой? Не знаю. Можно туда послать гонца.
Не надо. Просто вспомнилось.
Вряд ли живой, – рассуждал Звездочёт. – Каторга все-таки… Да и времени сколько прошло!
Да, да… А как он прозывался?
Разбойник-то? Самозванцев, кажется, фамилия. Самозванец, короче.
Ну, конечно. Как я мог забыть?
Над крышами царских палат опять зашелестели крылья перелетной стаи.
И вдруг послышался поющий странный звук, нарастающий со стороны перевала.
Царь Государьевич насторожился, глядя в небеса.
– Наконечник поющей стрелы, – подсказал Звездочёт. – Мы называем её «Стрела Умерлана», потому что от неё всё время кто-нибудь да умирает.
Пошевелив нахмуренной бровью, царь негромко пробормотал:
Интересно, кто на этот раз?
Лебедь. Здесь и думать нечего. Как только вы скачали не стрелять лебедей, так сразу же над перевалом заблестел наконечник поющей стрелы.
Почему?
Да так она устроена, чертовка. Свою силу и власть постоянно доказывает. Кого хочу, мол, того и казню. Вы – царь на земле святогрустной, а она – царица на земле и в небесах.
И никак нельзя призвать её к порядку?
Пробуем.
Плохо пробуете, если она до сих пор тут хозяйничает.
Наконечник поющей стрелы врезался в лебедя – крови глотнул и затих, молниеносно улетая восвояси. Встречный ветер скомкал, опрокинул убитую птицу… Белым лёгким облачком лебедь мягко упал на крышу царской палаты. Перья закружились в воздухе, оседая на ветках сада.
Капля крови задрожала на краешке кровли…
4Беспокойный долгий царский день догорал в привычных трудах и заботах на благо страны.
Царь утомился к вечеру. Поехал в тарантасе к своему любимому Лазурному Заречью. Побродить хотел по берегу в дубах. Здесь хорошо и думалось, и отдыхалось. Поехал не один – с Грустиной, побледневшей за последнее время; новая жизнь, зарождающаяся во чреве, сосана соки из тела царицы. Но бледность ей, казалось, была очень к лицу. Августина выглядела не утомленной, а напротив – жизнерадостность мелькала в глазах, улыбке.
И опять над головою царь услышал наконечник поющей стрелы. И опять сбитый лебедь закружился в небе – рухнул прямо под ноги коней; перепугал и упряжку, и Фалалея, царского кучера.
Августина вышла из кареты, посмотрела на судорожно бьющуюся птицу, лежащую в лужице собственной крови. Отвернулась – и опять в карету. Умирающий лебедь показался ей недобрым знаком.
Молчали, возвращаясь во дворец. Свежей закатной кровью захлестнуло западные склоны горизонта.
Рука Августины подрагивала в руке царя.
Ну что ты, что ты?
Страшно… отчего-то.
Успокойся, Грустенька.
Приехали. Царь проводил ее в опочивальню и подумал: «Кто бы меня успокоил. И что это за диво дивное такое – «Стрела Умерлана»?
5Стемнело. Поздний вечер звезды высыпал на горы, на долы и прямо на крышу царской палаты. Стоя у раскрытого окна, государь невольно обострялся ухом: не зазвенит ли где-нибудь в потёмках наконечник поющей стрелы?
Перед ним лежала чистая бумага, ждала приговора.
И снова пухла голова царева думами. Сомненьями душа терзалась. А потёмки подступающей ночи представлялись потёмками жизни. «Как быть? Что делать? Казнить разбойника или помиловать?»
Отец – на смертном одре – просил его быть строгим, но справедливым. Так в чём же справедливость? В том, чтобы казнить? Или в том, чтобы помиловать?.. Что ни говори, а сам отец помиловал того разбойника, поднявшего руку на старшего сына.
И снова появилось болезненное, тайное желание: поехать на Столетние Стоны, увидеть разбойника. Что с ним? Раскаялся? Нет ли?.. А этот, который в темнице, как теперь он? А что если пойти к нему в темницу? А? Посмотреть в глаза, поговорить, узнать, кто он такой. Говорят, что – дурохамец. А сам-то разбойник себя выдает за святогрустного человека. Так, может быть, и правда святогрустный? Может, сбился с пути господнего? И может быть, можно ещё наставить его на истинный путь?