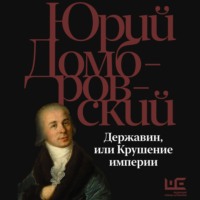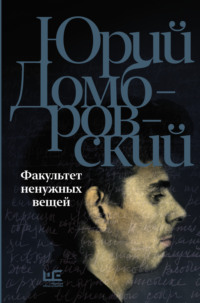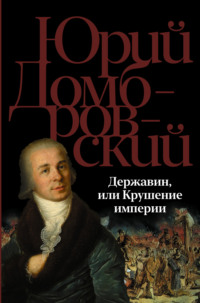Полная версия
Хранитель древностей
– Да, но нам-то зачем это? – спросил я. – Ну, Будда, ладно, пусть валяется в запаснике. А барка мертвых зачем? Мы что – Древний Египет, Нубия?
– Опять зачем? – Директор откинулся на спинку кресла и строго посмотрел на меня. – Нет, это ты брось. Это ты по-настоящему брось. А антирелигиозная пропаганда? Ее кто за нас вести будет – Пушкин? Мы должны ее вести – ты должен ее вести, научный сотрудник, понимаешь? Вот я еще ему книжку Ярославского дал – “Как живут и умирают боги”. Заказал вырезать Озириса, Адониса и Мирту. Мы всё это выставим во вводном отделе – языческие Христы. А рядом – икона нерукотворного Спаса. Это уж я принесу. Стоит у меня такая, я на ней опыты показывал. Чувствуешь, какая пропаганда? – И он хитро подмигнул мне. – А ты текстовочку напишешь получше, позабористее.
“Да в кого же он меня хочет превратить?” – подумал я и официально сказал:
– Да ведь это дело массовички, Степан Митрофанович, что я-то в этом понимаю?
Он скорбно посмотрел на меня, вздохнул и покачал головой.
– Ах, как это мы любим всё валить на других, то есть так любим, так любим! Она массовичка, а ты научный работник, – прикрикнул он вдруг, – ты ей напишешь, а она твое писание до масс будет доводить, понял? Ну ладно, ты посиди, пожалуйста, одну минуточку тихо. Тут мне одну такую бумажку прислали… – Он вздохнул и покачал головой. – Кто там их только придумывает, не знаю. Сидит какая-нибудь штучка в перманенте и пишет, пишет. Сядь, пожалуйста, не ходи.
Было накурено и жарко. Я подошел к окну и распахнул его настежь, прямо в сирень. Потом взял графин и полил цветы на подоконнике, попробовал включить вентилятор – он не работал. Тогда я вспомнил, что он не работал и вчера, и позавчера, и об этом все говорили и никто ничего не делал, снял телефонную трубку и задумался, вспоминая номер.
– Нет, ты сядь! Сядь! – повторил директор. – В глазах мельтешит! Ну что, в отделе есть что нового?
Я усмехнулся. Что у меня могло быть нового? Да ровно ничего – черепки и камни. Вся “древнейшая история Казахстана” в старой экспозиции умещалась на одной стенке, от окна до окна. Три щита – одна витрина. Щиты были обычные наши щиты – фанера, обтянутая кумачом. На первом щите – зуб мамонта, похожий на окаменевшую губку, а под ним несколько кривых осколков (каменный век); на другом – узкий, как только-только что народившийся месяц, бронзовый серп и круглое зеркало на длинной ручке, кольца от уздечки да три ряда голубых и зеленых бус; на третьем – темно-синие изразцы, содранные московской комплексной экспедицией с какого-то знаменитого мавзолея, да склеенная из осколков белая миска с верной свастикой (феодализм). Витрина же была и того проще: в ней помещался вырубленный кусок могилы – горшочек с просом да кости, собачьи и человечьи. Их открыла и доставила нам лет пять тому назад сотрудница комплексной экспедиции. Сосуд был обгоревший, кривобокий, треснутый, с одной стороны совсем черный, с другой – кирпично-красный, ну, одним словом, такой, какой не жалко было сунуть даже и покойнику в могилу. Погребен в могиле был старик, и, наверно, очень дряхлый, скрипучий старик с ревматическими пальцами и съеденными зубами. И пес около его ног тоже был желтозубый и старый. Больше в могиле не нашли ничего – ни ножа, ни стрел, ни бус.
Но вот эта нищета и является, говорила москвичка, самым ценным в погребении. Курганы вождей, могильные насыпи царей и ханов, погребальные холмы над знаменитыми воинами, убеждала она нас, хорошо известны науке и давно изучены. А эта бедная, заброшенная степная могилка отлично отражает рядовой быт кочевников VI века.
Горшок нравился и мне, но по совсем иным основаниям. Я смотрел на него и думал: ну что ж, горшок как горшок, таких сейчас сколько угодно у деревенских стариков. Сколько раз, наверно, со зла толкали его деду под нос, пнув по дороге его никчемного пса: “Пшел, окаянный! Что лезешь под ноги!” И вот дед умер, пса зарезали, горшок разбили (целый в могилу не кладут), и все это через тысячелетия утратило свое настоящее человеческое значение и стало научной ценностью и памятником. И не сохранилось в этом памятнике ни старости, ни бедности, ни человечества. Осталось одно: “Усуньское погребение VI века” – полутораметровый ящик под стеклом.
О том, какое значение для науки имеет это погребение, очень бойко рассказывала посетителям экскурсоводка моего отдела – молодая разбитная девчонка со звонким голосом и крутым хохолком цвета свежей сосновой стружки: “Подойдите, товарищи, поближе. Так! Всем видно? Всем! Отлично! Итак, переходим к древнейшей истории нашей республики. В этой витрине (девушка, отойдите так, чтобы и всем было видно!) вы видите погребальный инвентарь усуней VI века. Обратим внимание на те предметы, что находятся в могиле… Ну, прежде всего горшок. В нем находилось просо”. И о просе: “А просо, товарищи, одна из древнейших земледельческих культур мира”. Затем о собаке: “Около ног старика, как будто охраняя его, лежат кости собаки. Это не случайно, товарищи. Собака вывела человека в люди”. И пошла, и пошла, и пошла… Об усунях, о саках, еще о чем-то. Голос у девчонки звонкий, вид восторженный, она машет руками, улыбается, поворачивается к посетителям, и вот уже побежал шепоток по рядам, ближние подвигаются еще ближе, дальние приподнимаются на цыпочках и стараются заглянуть в стеклянный ящик с серыми костями и красным черепком. Такая древность! Такая ценность! Такая редкость!
Так продолжалось с месяц, а потом экскурсоводку забрали в отдел реконструкции сельского хозяйства – и около моих щитов стало сразу пусто и скучно. В конце концов туда даже перестали сажать дежурную – перевели вниз, к семиреченским тиграм, а то у одного, самого страшного, обрезали усы. Попробовала было пойти к моим щитам заведующая культурно-массовым сектором, но с ней сразу же вышел грех. Кто-то из экскурсантов вдруг спросил: “А какой урожай проса снимали с га древние усуни в VI веке?” Вопрос был не предусмотренный инструкцией, заведующая смешалась, вспомнила мои рассказы про мифическую египетскую пшеницу, которая якобы дает сам-сто, да и ляпнула: “Сто”, а потом перепугалась еще больше и пояснила: “И отсюда выражение «сторицей»”. Скандал мог получиться грандиозный, с оргвыводами, объяснительными записками и прочими неприятностями. Дело-то в том, что как раз в это время знаменитый Чаганак Берсиев снял самый большой урожай проса в мире, и урожай этот, конечно, далеко-далеко не был сам-сто. Получилось, как тогда любили говорить, опошление подвига знатного просовода или и того хуже – клевета на советскую действительность. Заведующая, сообразив все, после экскурсии, полумертвая от страха, влетела в кабинет директора, рухнула в кресло и заплакала, забилась, захлюпала, закричала.
– Это всё он, он, он! – орала она. – Все этот ваш чертов хранитель! Я знаю, он нарочно под руку рассказывает про египетскую пшеницу. Зачем он рассказывает? Что, у нас в Советском Союзе своей пшеницы нет? Но пусть он не думает, что это ему пройдет. Я знаю, куда пойти!
Пойти она никуда не пошла (успокоили, дали воды, высморкали и не пустили), но возненавидела меня с тех пор люто. После того как у меня не стало экскурсовода, я тихо сидел наверху и инвентаризировал. Но скоро и этому должен был прийти конец: кончались инвентарные карточки. И сейчас, сидя против директора и глядя, как он быстро пишет что-то, видимо, очень решительное, я сказал:
– Работать мне уже не над чем.
Он поднял голову и недоверчиво взглянул на меня.
– Да ну, неужели правда все кончил? Вот молодец! А то говорят, забрался наш хранитель на хоры, и что там делает – никто не знает, наверно, водку со столяром хлещет.
Водку со столяром мы, верно, “хлестали”, но только не в музее, а по холодку в парке, на травке под сиренями.
– Что ж, – ответил я, – не будет карточек, верно, придется водку хлестать, только вот не по сезону она.
Директор задумчиво поглядел в окно.
– Да, жарища, черт ее! В тени сорок! И как ее дед лопает, не понимаю. Я вот сейчас в рот взять не могу, а он выльет пол-литра в кружку от бачка, крутанет – и все одним духом до дна. И не закусывает, собака. Понюхает корочку – и всё. А еще на задышку жалуется. Какая там у него задышка! Его еще лет на сто хватит. Это, брат, не мы с тобой!
Мы оба немного посмеялись.
– Что ж, старых верненских кровей мужичок, – сказал я, – он ее в этом соборе еще лет тридцать тому назад с попами хлестал. Бегал, рассказывает, на Пугасов мост за смирновской очищенной.
– Как ты сказал? Смирновской? – переспросил директор и остановился, прислушался. – Да, да, смирновская, смирновская! Верно, верно, была такая водка – помню! Шустовский коньяк, смирновская водка, папиросы “Зефир”. – Он посидел, подумал, поулыбался чему-то своему и вдруг сказал: – Ну, с этим дедом ладно, пусть… А вот другой дед на тебя в обиде. – Он кивнул головой на тетрадку. – И лодку не взял, и не с полным вниманием отнесся к его плану. Что ты ему насчет древнего горшка сказал? Сказал, что не надо, не поедем за ним?
Я пожал плечами.
– Наоборот, сказал, что надо и обязательно поедем.
– Да? – переспросил он. – Ну и правильно, поезжай, бери горшок и привози к себе. И не тяни ты, Христа ради, с этим, не тяни… Что тут тянуть? Раз вещь древняя, то рассуждать нечего, мы же музей.
– Это конечно.
– Ну, а раз конечно, то и делай как надо! А то вон твоя благожелательница уже ходит с раздутым горлом. “Ничем себя наш ученый утруждать не желает, даже поехать взять музейную ценность и то ему лень”. Чувствуешь змею? А язычок-то ей не привяжешь. Нет, ты поезжай, поезжай, возьми этот горшок.
Он говорил и как бы извинялся передо мной, и я отлично понимал его. Никакого смысла в этих горшках он тоже не видел, но раз мы музей, а горшок древний, то давай его сюда. Таков приказ, не подлежащий обсуждению. А директор полжизни провел в армии, в музей попал по какому-то непостижимому стечению обстоятельств (таких непостижимостей много появилось в эти годы) и поэтому научную дисциплину тоже понимал по-военному. Раз положено, так о чем же тут и говорить! Музей… И все-таки в моем отделе он чувствовал себя всегда несколько неловко, совсем не так, как, например, в отделе хлопководства. Там всё яснее ясного. Вот экспонат, вот диаграмма, вот схема производственного процесса, вот портрет Вождя и над ним крупно: “Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселей”. Все понятно и ясно. У меня же ни черта не поймешь: каждая вещь имеет не свою обычную ценность, а какую-то особую, так называемую научную, и законы ее никак не уловишь.
Вот, например, ящики на чердаке. В них черепки; одни черепки обливные, то есть чудесные, блестящие, разноцветные, все в каких-то павлиньих и змеиных переливах; другие – просто-напросто осколки горшка. А ценность у тех и других одинакова. На каждом свой шифр, например: “Тр. 35. Б. Р. 3. С. 4. Б.”, а означает это – “Тараз. Раскопки 35-го года. Баня. Раскоп 3-й. Слой 4-й. Роскопку вел Бернштам”.
Когда я объяснил это директору, он даже руки потер от удовольствия. Так ему понравилось то, что у каждого черепка есть своя формула. И потому ко всему, что я ему показал, директор относился покорно и уважительно, но с каким-то веселым недоумением. Повторяю же, он был военным человеком.
Дел у директора была масса и без меня. Все в музее осыпалось, рушилось, протекало, валялось без призора. Никто не знал, что у нас есть, чего нет и что нам надо еще. Целый день директор мотался по комиссиям, подкомиссиям, наркоматам, главкам и в кабинет возвращался только под вечер, когда спина на гимнастерке делалась у него черной. Человек он был энергичный, хваткий, даже горластый, умел выжимать и уговаривать. Но все это относилось к армейским делам. В музее же у него постоянно что-то не ладилось. То и дело он попадал впросак, писал не то, что нужно, а на самые простые вопросы ответить не мог, просил денег на то, на что не следовало просить, ссылался на то, на что ссылаться не полагается. Дело осложнило еще и то, что в свое время он кое-кого прижал, и те поэтому пакостили ему с истинным удовольствием.
Однажды, зайдя к нему в кабинет, я застал его на диване с мокрым полотенцем на лице. Именно на лице, а не на голове. Из-под мокрого комка высовывался один выбритый до синевы подбородок. Полотенце было тяжелое и невыжатое, вода текла ему прямо на распахнутую грудь, на ломающийся от свежести и белизны воротничок. Я притворил дверь и окликнул его. Он не пошевельнулся. Я поднял его руку. Рука была тяжелая, горячая, но совершенно мертвая. Я положил ее ему на грудь, подошел к телефону и снял трубку, но номер назвать не успел. Он вдруг сбросил полотенце (оно сочно шмякнулось о пол) и сказал: “Не надо. Это голова болит”. И сказал о голове так, как говорят: “Не надо, это рак”. Боль на директора налетала внезапно. Он сидел за столом и писал или разговаривал с кем-то – и вдруг вздрагивал, бледнел, у него отвисала челюсть, он с усилием глотал что-то, зеленел все больше и больше и вдруг очень ровно, опираясь руками о стол, поднимался с места и плавно выходил из кабинета. А потом лежал на диване, плотно закрыв глаза, его тошнило.
И все-таки при всем том он не забывал меня. Раз в неделю, какие бы дела у него ни были, он вдруг вспоминал о том, что наверху, где-то чуть ли не на колокольне, сидит человек, который не то водку там пьет, не то карточки пишет, и, смешливо качая головой и подсмеиваясь, поднимался ко мне.
– Ну, как живем, что нового, хранитель? – спрашивал он.
Новыми были кости, черепки, бронза, которые я то стаскивал к себе с чердака, то опять, занеся в карточки, уносил на чердак и в подвалы. Директор ходил среди моих камней и каменных баб, кряжистый, плотный комбриг в отставке (скажем прямо, в какой-то очень странной отставке), в белой летней гимнастерке, с армейским ремнем, пряжкой-звездой, в брюках галифе и таких надраенных сапогах, что с них все время спархивали солнечные зайчики (только армейцы так умеют чистить сапоги), и улыбался всему, что видел. Вопросов он сначала не задавал совсем, а потом понемногу стал задавать их все больше и больше и, наконец, столько, что мне уже было нечего отвечать. Он много читал, и память у него была отличная, военная. Он ничего ни с чем не смешивал и ничего не путал. И поэтому, когда он брал в руки гладко отшлифованный, серый или черно-синий кусок кремня и коротко говорил: “Неолит”, – спорить не приходилось. Это был неолит. Точно так же, когда я ему однажды показал разукрашенный сосуд, где все гребни, круги, пучки тончайших пунктирных излучений чередовались в какой-то дикой гармонии взлета и падения, в круговом вихре уравновешенных и в то же время взорванных и взметенных линий, он сказал: “Вот только-то сегодня обнаружил в отделе хранения, смотрите, какой чудный андроновский сосуд”, – образованно воскликнул: “А-а-а! Из Ачинска”, – и прошел мимо.
Его уже все труднее и труднее было удивить чем-нибудь.
И все-таки раз я его не только удивил, но даже, пожалуй, потряс. Я показал ему цветы. В маленькой фанерной коробочке со стеклянной крышкой (в таких продавали чернослив) на вате, уже совсем серой, лежали желтые, белые, кремовые, почти черные свернувшиеся лепестки. Каждый с ноготь. Были они сморщенные, ветхие, легчайшие и какие-то очень-очень древние. И чувствовалась в них великая боль увядания. Это была насильственная, грубая смерть цветка. Коробка была наглухо запечатана и лежала в дубовом ящике. Я нашел этот ящик на чердаке среди волчьих и медвежьих черепов.
– Что же это такое? – спросил директор в растерянности.
Я не ответил и сунул коробочку ему в руки. Он бережно, почти робко взял этот крошечный стеклянный гробик с привешенными к нему огромными черными, как пломба, печатями, положил на ладонь и стал рассматривать.
– Сколько лет всему этому? – спросил он тихо.
Я ответил, что не меньше трех тысяч.
– Что? Три?.. – воскликнул он в ужасе. – Что же это такое?
Я ответил, что это белая акация. Когда-то целую ветвь ее сорвали с дерева и возложили на грудь умершего фараона Аменхотепа II. На лбу его, уже пустом, как горшок, лежал венок из лотосов, голубых и белых, а на груди эта акация. Тело этого фараона, сухое, желтое и звонкое, как чурка, отыскал в 1899 году французский археолог Поре в так называемой Долине царей, что около Фив, и снял с груди фараона цветы и еще какой-то амулет. Все это он поднес мадемуазель Ольге Козловой в день ее ангела, 5 декабря. Обо всем этом было написано тушью по-французски на обороте ящика.
– А амулет где? – спросил директор.
– А амулета не было, были только эти цветы. Три тысячи лет тому назад их кто-то положил на грудь покойника – буйного, сильного человека, искусного воина, лук которого никто не мог натянуть, кроме него самого, – так хвастался он даже в своей надгробной надписи. Три тысячи лет они пролежали у него на груди.
– Отдай, отдай в отдел хранения, – сказал директор, – пусть запрут в шкаф вместе с фарфором. Ведь три тысячи лет этой белой акации.
Белые акации цвели в ту пору во всем городе. Это были высокие, гибко изогнутые деревья. От них исходил сладкий, пряный запах, и было под ними всегда темновато. К ним прилетали большие, таинственные, мохнатые сумерницы. Над ними, там, где уж не было ветвей и сияло солнце да небо, кружились золотистые бронзовки. Верно, все так же было и в Египте в тот день, когда кто-то сорвал с дерева эту ветку и возложил на грудь фараона.
А кем он был, этот человек? Жрецом, женой, любимым рабом? Рабыней? Кто же это знает? Никто ничего не может знать про эту смешную малость, про засохшие цветы, найденные в старинной книге или на груди покойника.
– Так ты съезди, возьми горшок, – повторил директор и встал из-за стола. – Возьми! “Возьми себе шубу, да не было б шуму”, как говорит Александр Сергеевич, а то видишь, что он пишет? – Он достал из папки две тетрадные страницы и подал мне. – Вот тут, где отчеркнуто, читай.
Хранитель этого отдела, – прочел я, – человек еще молодой, но гонор у него непомерный. Все-то он знает лучше всех. А как проговоришь с ним десяток минут – видишь, что он полный Профан и Невежда (оба слова с большой буквы). И вот думаешь: да как же можно поручить изучение Родного Нашего Края (все с большой буквы) человеку, у которого нет к нему интереса?! Я очень прошу вас, уважаемый товарищ нарком, посмотреть на эти дела с серьезной точки зрения. Кроме того…
Я бросил письмо на стол.
– Ты на почерк-то, на почерк-то обратил внимание? – сказал директор.
– Почерк потрясающий, – ответил я. – Прямо высший класс! И в остальном он тоже во всем прав. Никакого интереса я к нему не имею и говорить с ним тоже не буду. Начни – и дня не хватит. А он, видать, жук! Вот монету античную откопал где-то в огороде да принес в институт, так ведь какой шум там затеяли: римский легион в Алма-Ате! Дворец проконсула Санабара на месте колхоза “Горный гигант”. Золотые орлы, императорские могилы. Ведь это все с большого похмелья и то не выдумаешь. И ничего – сошло. Здесь напечатали, в Москве промолчали. Кому охота связываться с психами! Так вот он теперь к нам пришел, экспедицию просит туда послать! Гоните вы его в шею!
– Да, просит, просит, – задумчиво согласился директор. – Даже докладную подал. Ну, экспедицию не экспедицию, конечно, а эти… как они у вас там называются? Разведочные раскопки, что ли? Ну, разведочные раскопки сделать можно бы было.
Я хотел огрызнуться, но сдержался и только спросил: какой же смысл он находит в этих разведочных раскопках? Поехать-то, конечно, можно – лето, погода отличная, яблоки поспели, карточки у меня все равно кончились, так почему же не поехать, но смысл-то какой во всем этом? Ну, привезем еще десяток корчаг да черепков, а делать что с ними будем? Их у нас и так с десяток ящиков на чердаке, и все из одного и того же места. Так и простоят, пока кто-нибудь не догадается снести их в мусорную яму.
– Дело не в черепках, – сказал директор. – Да ты что, с ним вовсе не разговаривал? На этом месте под землей находится древнейший город Алма-Ата, вот что он говорит. Есть, есть тут город, это и я слышал. Так вот он толкует, что нашел его. Сколько, мол, ни искали, никто найти не мог, а он на-шел. Видишь, как он повернул.
Я усмехнулся.
Как все-таки легко завести директора, когда начнешь говорить ему о непонятных вещах! Но я ничего не сказал ему. Я только спросил, кого же он думает послать на эти разведочные раскопки. Я бросить отдел не могу, у меня на носу юбилейная выставка Хлудова, целый месяц придется копаться в запасниках музея, отыскивать его картины и рисунки и составлять каталог. Или он думает, что выставку можно отложить? Если отложить, то тогда другое дело, я поеду, поживу с недельку-другую на чистом воздухе.
– Нет-нет, ни в коем случае, – встревожился директор, – занимайся, занимайся, пожалуйста, Хлудовым, это наше первоочередное дело.
Мы помолчали.
– Вот если б еще хоть был один работник, – сказал я вскользь. – Да вы ведь все только обещаете, и до вас у меня был такой же разговор со старым директором, и она мне тоже обещала…
– И она тоже обещала, – горько усмехнулся директор и покачал головой. – Она обещала, и я обещаю, а толку все нет. Да? Голубчик, да откуда же я тебе его возьму, работника-то? Наркомпрос никого не дает, а так, с улицы взять, тоже боязно. Вот у нас сколько всякого добра, и ничего не учтено и не записано, все так и валяется навалом. Я третью докладную пишу, требую категорически.
– И что же?
Он пожал плечами.
– Ну вот, когда дадут, тогда и поедем в горы, – сказал я.
Он вздохнул.
– Да, видно, что уже так. – Он встал, прошелся по комнате. – Видно, так и придется.
Он покачал головой и засмеялся.
– А бедовый тебе попался старикашка, прямо-таки фырчит от злости. Говорит, а внутри его что-то рычит. А ты занимайся Хлудовым, занимайся. Это сейчас наше первоочередное дело… Уже в газетах о выставке объявлено. Беда только, что старик кляузный, сейчас же жаловаться побежит. Ну да уж ладно, пусть бежит. Хлудов для нас сейчас – это самое главное.
На другой день утром я застал в своем кабинете деда-столяра. Дед сидел за пивным столиком и, далеко отставив локоть, что-то старательно выписывал химическим карандашом. Увидев меня, он быстро спрятал лист в карман.
– А я думал, что ты опять не придешь, – сказал он равнодушно.
– Это почему же я не приду? – спросил я, проходя и открывая окно. – Накурил ты здесь.
– Нет, я сейчас много курить не могу, – ответил дед печально. – Сейчас у меня задышка и грудь ломит. Скажи, что это вот тут, под лопатками, колет? Вот тут, тут, смотри.
Дед опять похозяйничал: привел монтера Петьку, и они дулись в козла. Деревянный ящичек с костями торчал из лошадиного черепа (Усуньское погребение), и я сразу его заметил, как только вошел. И пили они тут, конечно. Вчера Клара впопыхах не заперла шкаф с запасными спиртовыми препаратами, а когда спохватилась, то недосчиталась тигрового ужа.
– Уж не дед ли выпил? – сказала она мне.
– Ну вы скажете! – ответил я и отошел поскорее от греха подальше.
– Смотри, дед, – сказал я, – ты такое хлебнешь, что ослепнешь. У Клары гремучая змея пропала, знаешь ты про это?
– Гремучая? – Дед взглянул на меня с неизмеримым превосходством. – Какой же дурак гремучую тащит! Ну взял бы там лягушку или ужа. А то выдумал что украсть – гремучую. Нет, ты вот скажи, отчего у меня задышка. Иногда будто ничего, а иногда так подопрет, вот тут, – он ткнул себя пальцем под лопатку, – ой-ой-ой!
– Ты у директора спроси, – посоветовал я. – Очень он твоей задышкой интересуется. Вчера про нее только и разговор был.
Я прошел к шкафу, отпер его, вынул ящик с карточками, поставил его на стол, придвинул чернила и приготовился работать. Дед сидел, смотрел на меня.
– Ну-ну, – сказал он через минуту. – Что же ты замолчал, рассказывай дальше: разговор был?.. Ну…
– Что ж дальше? – спросил я. – Лопнет, говорит, дед от водки, в самую жару ее дует – вот и весь разговор.
Лицо у деда стало нехорошее – усиленно спокойное.
– Да нет, не весь, – сказал он скрипучим голосом, – ты скрываешь.
Я положил ручку и посмотрел на него внимательно.
– Да говори, говори, – крикнул дед, – что ты жмешься, как… Кого вы там наняли?
– Ну совсем от водки помешался, – сказал я. – Откуда что берет, черт его знает.
– А почему мне директор приказал освободить один верстак в столярке? Мол, другой сюда придет по выходным работать. Что же ты скрываешь-то? Ты все говори.
– Ну и какая тебе беда, пусть работает, выпиливает.
Я снова взял ручку.
Дед недоверчиво покосился на меня, но я сделал вид, что не замечаю, и продолжал писать. Писал и чувствовал, что огромная льдина свалилась с сердца деда и он сразу просветлел и обмяк.
“Глупый ты, дед, – подумал я, – ах, какой же ты дурак! Да разве мы когда-нибудь с тобой расстанемся, старый ты пьяница? Как же этот собор-то будет жить без тебя? А директор – жук! Тоже хорош! Дразнит старика. Да разве два медведя в одной берлоге уживутся?”