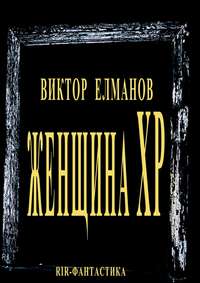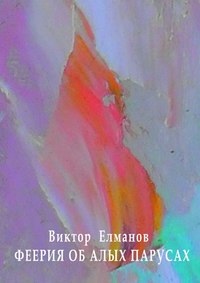Полная версия
Ты слышишь ли меня? Литературно-художественный альманах
Но теперь не время было проявлять беспомощность. И Руся нарочно отправилась подальше от железных дорог на берег тихого лесного озера. Там жили две сестры, умницы и красавицы, заманенные комсомолом после школы поднимать животноводство. В прошлый приезд Руся даже ходила с ними поутру на ферму, чтобы рассказать потом в газете об этом опыте. Теперь повторять его не хотелось, мечталось просто побыть одной.
Вечером Руся вышла на берег, села на мостках, спустив ноги в воду, и в странном оцепенении просидела до самой темноты – пока на горизонте не погасло красное зарево.
На рассвете она даже не услышала, как девочки убежали на дойку. Мать-старушка тоже не подавала признаков жизни, чтобы не тревожить гостью.
Но резко, со стуком открылась вдруг форточка, и Руся вскочила с бухающим сердцем. Странно, ведь за окном не было ни дуновения ветерка, даже листва на багровых осинах не шелестела. Не придав событию большого значения, Руся вновь провалилась в сон.
А через сутки почтальон принёс известие, что её просили позвонить в редакцию. Подобного – чтобы её разыскивали в поездке – не бывало никогда. Значит, это несчастье, сразу поняла она и, вихляя на выделенном ей дребезжащем велосипеде, гадала только – где, с кем, когда. Потом, уронив телефонную трубку на почте, пошатнулась и едва успела вышагнуть за порог, в пожухлую траву… Когда очнулась, обнаружила над собой качавших головами старух, сбежавшихся на вой. Ей помогли подняться, посадили на велосипед и подтолкнули вперёд.
Ехала она потом в кабине грузовика, вцепившись пальцами в свою пустую сумку; ехала в тёмном фургоне в обнимку с огромной лохматой собакой, ловившей языком её слёзы; ехала в автобусе с гомонящими подростками, игравшими «в города»; а потом в общем вагоне поезда забилась на третью полку и до Москвы не открывала глаз.
Она не видела той бездны, в которую его опускали. Она стояла, зажатая толпой чужих тел, не имея возможности двинуться вперёд, и тихо-тихо скулила. А когда над его пристанищем в человеческий рост вырос холм из осенних букетов и родные и приближённые уехали на поминки, она тоже пробралась к могиле и опустила на неё свою бордовую ягодную кисть.
В этот беспросветный миг не стало на свете и ещё одного человека – Руси.
Однако сколько бы лет ни проходило и каким бы нереальным ни представлялось ей случившееся в далёкой юности, всякий раз, открывая форточку, Вера Егоровна ощущала внутри угловатое движение чего-то так и не отболевшего, суеверно боящегося вестей, приносимых на рассвете странствующим ветром.
В один из весенних вечеров, застигнутая врасплох этим воспоминанием, она стояла возле окна в спальне и смотрела вниз, туда, где в неторопливых сумерках мелькали на шоссе огни машин. Вере Егоровне не было больно оттого, что она вновь мысленно пережила утрату. Это было уже отстранённое, как бы и не её горе, о котором она могла даже спокойно рассказывать, со всеми деталями переживаний, но без слёз и сердечных спазмов, какие случались с ней в подобные минуты прежде.
Вскоре после утраты судьба послала ей первую дочку. Тоже вот странный зигзаг событий! Откуда взялся этот уважаемый человек, доселе не бывавший в кругу её знакомых? Что привело его в их город? Что заставило обратить внимание именно на Веру? Вокруг каждой девушки вращается немало солидных мужчин, однако чудо притяжения свершается не столь часто, как могло бы. Выходит, опять судьба, предрешённость?
Тогда Вере не важен был ответ на этот вопрос, главным было забыть о горе и уцепиться за жизнь. И она целиком отдалась тому, что запульсировало в её телесной глубине после исповедального вечера с этим седовласым чутким человеком. Она не искала его после и никогда больше не видела, а дочку долго растила на легенде о погибшем отце-лётчике. Душа, меж тем, лечилась временем, и настал тот день, когда внутри обнаружилась новенькая розовая, почти младенческая ткань, говорящая о готовности ещё раз довериться провидению.
Тогда и вошёл в её жизнь Вадим, понятный ей целиком. Схоронив в себе всё прежнее, вместе со стремлением к сочинительству, она желала лишь одного: чтобы спокойно жилось и работалось ему. Он оказался не просто её продолжением или отражением, он был она: близнец по мыслям, чувствам, желаниям, и всё, что она не могла и не смела спросить у него, она читала в себе и отвечала на его нужды, как на свои собственные, – вовремя, полно и самозабвенно. Всё, что не было обговорено между ними словами, становилось явным обоим через жесты, интонации, взгляды. Всё, о чём вдруг начинала маятно тосковать её душа, Вера Егоровна очень скоро обнаруживала между строк новых рассказов мужа. Но и всё, что вытворяли с Вадимом светлые и мутные потоки несущейся жизни, становилось явным ей из тех же самых рассказов.
В тот вечер у окна ей хорошо думалось, и не столько об их отдельном или совместном прошлом, сколько о будущем, которое представлялось устьем широкой-широкой реки, почти готовой уже навек раствориться в водах океана, а потому не способной ни на поворот вспять, ни на ответвления в сторону. Она понимала, что могут быть и будут ещё пороги и отмели, но что они значили по сравнению с тем, что осталось позади!..
Телефон зазвонил резко и коротко, настойчиво. Вызывала по междугородке старшая дочь, Дина. Она репортёрски отчиталась о делах дома и на службе, похвалилась гонорарами, поездкой в Болгарию и сигнальным экземпляром первой книжки. Вера Егоровна подробно рассказала о Лидочке и кратко о муже, с которым у Дины были сложные отношения.
Потом опять был междугородний звонок. Спрашивали Вадима. Его прежняя жена. Пришлось поговорить Вере Егоровне, поскольку мужа дома не было. Супруга хотела знать, не передумал ли он вскоре побывать на родине, чтобы навестить в больнице лежавшего после операции сына. Вера Егоровна сообщила, что нет, не передумал и уже купил билет. Она даже порылась в письменном столе Вадима и продиктовала в трубку номер рейса и дату. В ответ услышала благодарность. И вернулась к окну почти спокойная. Хоть и виделись они с этой женщиной всего однажды, очень давно, разговоры с ней по телефону были не редкостью и не выбивали Веру Егоровну из равновесия. Она давно смирилась с тем, что счастье не бывает непомрачимым, а потому всегда готовила себя к худшему, чтобы радоваться, когда неприятности случались невеликими.
И всё-таки что-то угнетало Веру Егоровну в тот вечер. Она заглянула в спальню к Лидочке. Та читала в постели с ночником и, оторвавшись от книги, притянула мать к себе и обняла за шею.
– Посиди со мной, а?
Вера Егоровна чмокнула дочку в висок, на котором билась выпуклая, как у Вадима, жилочка, и сказала:
– Ты не сердись, но что-то мне нездоровится… В другой раз, ладно?
Лидочка повесила голову, но тут же заговорщицки спохватилась:
– А тогда знаешь что…
– Что? – вяло отозвалась Вера Егоровна.
– Прочитай мне ещё раз про сосульку, а? Я забыла, как там в конце… Вот смотри, – дочка, жестикулируя, начала декламировать в постели. – И солнце февральское слало Сосульке холодный привет …Ну, а как дальше?
– Сосулька на солнце смотрела… – начала было Вера Егоровна, но тут же остановилась и любовно шлёпнула дочку по ягодицам. – Спи-ка лучше, сосулька!
– Ну ма-ам!
– Не мамкай. Всё!
Она вернулась к окну, почему-то облюбованному ею сегодня, и снова уставилась вниз, на дорожку, ведущую к дому. Та серела в полумраке вытаявшим из-под снега асфальтом, и редкие прохожие торопились по ней домой – скоро по новому развлекательному каналу телевидения должен был начаться нашумевший американский фильм, не рекомендованный детям.
Вадим обычно не смотрел такие картины, но сегодня обещал тоже присоединиться к отдыхающим массам, поскольку вечер всё равно пропадал – после встреч с аудиториями работать он не мог. На этот раз он был приглашён в один из вузов, в какой, Вера Егоровна не запомнила, поскольку договаривался он сам, а контролировать его было не в её правилах. Однако часы показывали уже около полуночи, а муж не возвращался.
Вера Егоровна убедилась, что дочка уснула, прошла в гостиную и включила настенный экран. Он тотчас же загорелся зеленовато-голубым светом, и следом замелькали английские титры.
В это время зазвонил телефон. Вера Егоровна брала трубку, уверенная, что это Вадим, и не ошиблась.
– Веруся, – сказал он тревожно, – ты волнуешься, наверно?
– Ты же знаешь, – уклончиво и как можно спокойней сказала она и убрала в телевизоре звук. – Ты скоро?
– Понимаешь, – Вадим слегка замялся и прокашлялся, – застрял я тут у одного человека… Я потом расскажу тебе о нём. И вот – досиделись до фильма… Ты не очень обидишься, если я посмотрю его не дома? – Он помолчал, дожидаясь ответа, и добавил. – В кои веки собрался, и на тебе – обидно!
– Ну конечно же, – с пониманием сказала Вера Егоровна. – Только потом попроси таксиста, чтобы он не очень гнал, а то они ночью лихие!
– Смешная ты у меня, Русенька… Ну что со мной может случиться?
Голос Вадима стал мягким и благодарным. А Вера Егоровна вся съёжилась от этого неуклюжего в устах Вадима «Русенька» и полчаса сидела недвижно, уставившись в немой экран. Затем она погасила его и снова встала к окну в спальне.
На улице было тихо и безлюдно. Время двигалось как-то неравномерно, то мчалось вперёд резкими прыжками, то тягуче ползло по сыпучему песку пустыни. Иногда Вера Егоровна стоя поддавалась дрёме, а очнувшись, проводила сухими ладонями по векам, чтобы вернуть себе благоразумие. Но тогда ей начинала мерещиться на углу соседнего дома знакомая парочка, не желавшая расстаться, и душа молча корчилась от боли. Воображение начинало рисовать картину возвращения Вадима: его деланное оживление, его неловкую, потому что впервые обращённую к Вере, ложь, его нарочитые мужские притязания, так явно говорящие о недавнем грехе. Даже пальцы похолодели, будто снова ощутили ледяную ладошку Оленьки.
Начинало светать. Сама того не сознавая, Вера Егоровна начала вслух вспоминать стихотворение о несчастной сосульке, а когда дошла до покрепчавших морозов, спасительно увидела, что напротив их дома остановилась легковая машина и из неё, легко толкнув дверцу, вышел Вадим. Она узнала его и по силуэту, и по походке, и просто по тому, как трепетно, словно они не виделись целую вечность, забилось сердце.
Пока Вадим шёл к подъезду, поднимался по лестнице, искал в карманах вечно куда-то западавшие ключи, Вера Егоровна не отходила от окна и опять и опять задавала себя вопрос, казавшийся самым главным на свете:
– Как же спасена? Ведь всё кончается…
И не могла ответить на него однозначно.
Послышалась возня на площадке. Наверное, Вадим опять не сумел отыскать ключи и теперь собирался звонить. Уж лучше бы постучал…
Вера Егоровна вздохнула, усилием воли приходя в себя, и шагнула к дверям. Всё равно надо было идти открывать мужу, ведь другого входа – да и выхода – у них не было.
1988, 2014 г.г.ПОД КОЛЕНО
Она была настолько бойка, что даже меня заграбастала в плен.
– Пойдём, пойдём! – бесцеремонно тянула за рукав. – Разве думно эдакой бабе да без мужика?! Счас мы это поправим, не упирайся! Всего две улицы отсюда.
И я сдалась. Чем куковать одной в гостинице, лучше пойти к людям на ужин и заодно испытать судьбу. Чем чёрт не шутит!
Был тёплый летний вечер. Был глухой северный городок, поросший акациями, сиренью и соснами. Солнце уже собиралось скатиться с чистого неба, тянуло дымками, и где-то вдалеке мычало спешащее домой стадо.
– У них и скотины цельный двор, – набивала цену сваха, – и огород двадцать соток. И дом новенькой, только после ремонту. А главное, – она остановилась, переходя на шёпот, и огляделась. – А главное, у него на книжке… знаешь, сколь?!
Я равнодушно пожала плечами:
– Главное, чтобы человек был хороший…
– Ой, а какой уж он хорошой, какой хорошой! – запела она вдохновенно. И я предпочла помолчать.
Целью путешествия оказался скрытый в зелени широкогрудый дом на возвышенности. С неё открывался чарующий вид на весь холмистый городок, и я невольно ахнула. Провожатая подождала, пока я оценю все красоты, и свернула к железной крашеной калитке.
Хозяйка, мелькнувшая в окне, встретила нас уже на крыльце.
– Матушки мои, Матвеевна… И кого это ты ведёшь? – всплеснула она руками и цепким взором окинула меня с головы до ног.
В отличие от Матвеевны, крепкой, высокой и быстрой, эта женщина была мала, как воробышек, зажата и неспешна. Хотя было ей за шестьдесят, волосы из-под платка выглядывали совсем чёрные, и глаза, мягкие, тёплые, все в морщинках вокруг, озорно улыбались из-под бровей.
Мне стало вдруг спокойно и уютно.
– Это надо же, гости у нас, а занавески снятые, – запричитала крохотная Анна Павловна.
Повсюду, однако, было чистенько, как в больничке. Уже через пять минут – под командованием подруги – хозяйка водила меня по дому, предъявляя его достоинства. Он и впрямь был хорош, крепок и разумно спланирован. Два раза – на пути туда и обратно – открывали погреб.
– Да ты погляди, погляди! – почти пихала меня головой в подпол сваха. – Одних полочек… А банок с мясом! Чуешь?
По её приказу Анна Павловна открывала шкаф за шкафом, предъявляя платья и костюмы.
– Ты посчитай, посчитай! Одних рубах у него пятнадцать! А шуба! Аня, где шуба?
Достали новую шубу, надели на меня.
– Вот! Как барыня ходить будешь! – и отошли полюбоваться.
Я слегка повела плечами.
– Маловата…
– Ничего! – выставленной ладонью успокоила сваха. – Маловата – не беда, дочку твою приоденут. Так ведь? – сваха на всякий случай глянула на хозяйку. Та готовно покивала.
– А теперь, – опять таинственно прошептала Матвеевна, – ступай сюда, сюда! – Она потянула меня за собой, остановила возле сундука и заставила закрыть глаза. Я покорилась. – Открой! – торжественно воскликнула она, брякнув крышкой.
Я прозрела по приказу. И готова была увидеть по крайней мере гору бриллиантов.
Сундук оказался полон постельного белья.
– Три сундука таких! Гляди – под колено!!
Она прижала острой коленкой поклажу, и та ничуть не умялась.
Это добило меня окончательно.
– Всё! – объявила я. – Перекур! Пьём чай…
Это был мудрый ход. Вслед за мной притихшая Анна Павловна жадно выпила две чашки и освобождено вздохнула.
– Ну, как невеста? – возобновила работу сваха. – А?!
– А как век свой с нами жила! – честно сказала хозяйка и посмотрела на меня с надеждой. – Такая простая!
Сердце моё взныло.
– Вот и решайте! – с чувством исполненного долга Матвеевна сложила руки на коленях. – Я плохого не присоветую.
– Может, сначала жениха дождёмся? – робко вставила я. – Мне бы хоть разочек глянуть, а?
Тотчас подали альбом, уселись вокруг и с двух сторон стали пояснять снимки. Я запомнила лишь про Геннадия. Было ему сорок. Анна Павловна приходилась ему неродной матерью. Она взяла его из детдома вскоре после войны, оставшись одинокой. Вырастила послушным и хозяйственным. И вот потеряла надежду, что он женится сам.
– А мне ведь помирать скоро, – завсхлипывала она. – Я бы вам всё отдала – живите одни и делайте всё, как знаете! А сама бы в баню перебралась…
Мне захотелось обнять её и сказать, что не надо в баню, мы с ней прекрасно поладим и в доме. Но она скрестила руки на груди, как перед причастием, и добавила умоляюще:
– Только бы не пила и не курила…
Матвеевну как стегнули.
– Да она и не делает ничего такого! – сваха требовательно глянула на меня: подтверди!
– Ну что вы, – сказала мирно я и на миг положила свою ладонь на сухонькую, с выступающими венами руку Анны Павловны. Затем решительно поднялась и отвернулась к стене – разглядывать фотографии в рамках.
Вот Геннадий с гармошкой, улыбается широко, по-доброму. Вот он за рулём грузовика. Передовик! – гордилась мать. Вот он с нею… Скорей бы возвращался с работы, что ли!
– Вас бы пара была – чернобровых! – пропела над ухом сваха, и я вздрогнула.
– Пойдё-ём, – потянула её хозяйка, – не мешай. У нас дел полно.
Я видела в окошко, как они понесли к бане дрова, затем вёдра с водой, но не тронулась с места, чтобы помочь. Я была в ловушке, и оттого ещё более хотелось сохранить независимость. Уткнуться, например, с умным видом в свои блокноты. Матвеевна, конечно, успела доложить хозяйке про мою журналистскую профессию.
Хитрость подействовала. Вернувшись с улицы, женщины забегали по дому на цыпочках и прикрыли дверь ко мне в залу. Однако я слышала, как звонили какой-то Сергеевне, приглашая на смотрины, и велели зайти в магазин.
Я склонилась над столом и обхватила голову. Сбежать? Это надо было делать сразу, а теперь, обнадёжив, грешно. Значит, плыть по течению, надеясь на чудо? Значит, плыть.
Накануне мы с Матвеевной провели славный день. Я приехала к ней от областной газеты, и она рассказывала, как уходила добровольно на фронт со своим конём, как определили её в транспортную роту, как стригли девчонок перед отправкой.
– Надевали на войне брюки, гимнастёрочку. Ещё шапку надевали, а в руках – винтовочка! – выпевала она свои частушки. – Ленинград я защищала, северну столицу. Была похожая на парня, а не на девицу!
И «языка» приходилось ей брать, и хлеб бойцам печь, и под обстрелы попадать.
– Что гром? Мы его теперь и не слышим!
После войны и с мужем нажилась, и после него, овдовев. Но думать не думала, что вдруг потянет сочинять.
– Сплю-сплю, да вдруг как начнёт в голове складываться. Соскочу – и к столу. Сын стал потом пробки выворачивать. Дак я на стене в темноте карябала, на обоях… Я любила в лес ходить по жёлтую морошку. Я любила игрока за его гармошку!.. Вот какая непутёвая старуха сделалась… Прыгаю лягушкою, да и помру с частушкою. Прыгаю да квакаю, никогда не плакаю!
Когда Матвеевна обнаружила во мне невесту, я отшутилась. Однако силы свои не рассчитала. Она взяла меня, как «языка», и доставила по назначению.
Отсюда ясно было, что и побег мой в любом случае обречён на неуспех. Поэтому, насидевшись над блокнотами без дела, я вышла к женщинам, не забыв изобразить на лице усталость.
Они копошились в кухне. На сковороде фырчало сало. Матвеевна дочищала картошку, а хозяйка выкладывала на тарелки содержимое банок из подполья.
– Вот и тут всё полно! – не преминула ткнуть меня в бок сваха. – И тарелки, и кастрюли, всё новёхонько!
– Ну-ка, – перебивая её, ласково прикоснулась ко мне хозяйка, – порежь-ка вот это на салат, – и пододвинула огромное блюдо.
Я тут же вспотела от боязни накрошить овощи слишком крупно и тем не угодить. При этом едва не оттяпала себе палец.
Затем, перенося посуду в залу, чуть не разбила хрустальную рюмку. Видел бы это жених!
– Там не Гена ли приехал? – повела головою хозяйка на звук проехавшей машины. – Не-ет… Что-то долго он сегодня. Кабы знал, кто его поджидает, поспешал бы…
– А ты бы, Аня, показала покуда свои медали, – предложила Матвеевна. – Я-то уж своими бахвалилась.
Анна Павловна протянула мне коробочку, в которой вместе с грамотами на имя Дуровой А. П. хранились дорогие ей реликвии: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «К 30-летию Победы» и «Ветеран труда».
Помогая разбирать медали, Матвеевна пояснила мне:
– Она у нас тоже пороху понюхала, санитарочкой была под Ленинградом. А как ранило, сюда вернулась.
Анна Павловна вытерла глаза и подхватила:
– А как одной жить? Решила в Череповец в детский дом ехать. Достала у дверей конфету и думаю: кто первый подойдёт, тот и мой будет…
– Он у тебя и теперь до сладостей, как девица. И по характеру.
– Да плохо ли это для жизни? – Анна Павловна взыскующе глянула на меня. – Он и поросят накормит, и себе поесть сготовит, и постирает, и выгладит – всё может. Полы подметает и песни поёт – ну чисто девка!
Она таяла от любви к сыну.
– Ох, и правда что-то долго, – заёрзала Матвеевна. – Хоть поиграл бы мне, а то ноги плясать чешутся!
– А ты попой! – сказала Анна Павловна, прибирая награды.
– Прямо так? – скокетничала Матвеевна и взмахнула рукой, взвеселяя себя. – Где же вы, мои подружки, фронтовые девушки? Раньше были ладушки, а теперь уж бабушки! И-эх!
Повисла тишина.
– Нет, не получается без музыки! – хлопнула себя по коленям сваха. – Хоть бы Сергеевна скорее шла!
– Да вон она, – спокойно молвила хозяйка, торчавшая у окна, и приветно кивнула во двор. – Ну, теперь и за стол садиться станем, всяко скоро Геночка придёт.
Сердце моё застучало неровно. Я вновь поглядела на снимки на стене. Я верила в случай и хотела испытать его на себе. Тридцать с хвостиком – это не шуточки…
– А у Сергеевны девочка тоже из детдома взятая, – зачем-то шепнула мне Матвеевна и шагнула к дверям.
Гостья оказалась моложе подруг, полная и пышногрудая, с низким голосом. Она выставила заказанные бутылки и улыбнулась мне ободряюще: дескать, я в курсе.
– Давайте, давайте-ко на диван! – с неожиданной решимостью стала загонять нас за стол хозяйка. – Я уже слышу, что сыночкина машина гудит!
И она кинулась из дома. У меня сжалось внутри. Можно было подглядеть в окно… Но – дольше ждали!
Анна Павловна впорхнула на порог взъерошенная.
– Сейчас, мои гостечки! Сполоснётся Геночка! – мигом выбрала в шкафу бельё для сына и исчезла.
Прошло минут десять-пятнадцать, я заметила по настенным часам. Показалось – час. Коленки мои вздрагивали. Я прижала их ладонями.
Вошёл Геннадий. Ясный от умытости! Чернобровый! Открытый! И сразу направился к столу.
Женщин подбросило – они скоренько освободили проход.
Я поднялась… и обнаружила, что он… на голову ниже меня!! Хотелось закричать с досады!
Как потом наливали, ели, говорили, пели, помнится смутно.
Чем они думали, чем, затевая это сватовство?! Хотелось напиться так, чтобы сразу всё кончилось. Но я помнила скрещенные на груди руки Анны Павловны и настойчиво закрывала ладонью стопку.
– Геночка тоже не любит это дело, – довольно соглашалась мать.
– Отчего не люблю? Люблю! – Геннадий был весел, в руках держал гармошку. – Просто нам перед выездом давление проверяют. Проблем не хочу, это да.
– Да вы ешьте, ешьте!
– Эй, Сергевна! – возбуждённо толкнула подругу сваха. И они выбрались на свободу, под гармонь задробили по блестящим от лака половицам.
– Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ёй, скажите милушке моёй, чтобы шла венчалася, меня не дожидалася!
– Как артисты выступают, мои слёзы капают. Постарела я теперь, меня уже не сватают! – выдавали женщины тематический репертуар.
– Посидим, повечеряем, никому не досадим. По-хорошему любили, никому не отдадим!
Мы с Геннадием меж тем разговорились. Было легко и просто. Нащупали несколько общих тем, коснулись многих государственных бед.
А женщины судачили о бабьем и строили планы.
– Двумя-то ящиками не отделаешься на свадьбу! – уловила я.
– Да хва-атит, куда её?!
И настало время расходиться. За окном стемнело. Матвеевна, поднявшись, вопросительно глянула на меня.
Я встала. И вдруг ощутила, как хозяйка легонько тянет меня за пальцы:
– Оставайся у нас-то-о…
Я покорно осела на диван.
– А половики-то ещё не казали! Сколь наткано! – простодушная Матвеевна не теряла надежды вытащить меня из-за стола.
Но Анна Павловна подчёркнуто настойчиво подвела её к выходу.
– Милости просим завтра!
– Ой, нет! – враз отрезвела Матвеевна. – Завтра я буду ждать жениха. Вдовец, шестьдесят лет. Я ему сразу трёх невест подобрала.
– Ну-ну, – похлопала её по спине Анна Павловна, – ступай с Богом.
Дверь закрылась.
– Да-а! – восторженно произнёс в тишине Геннадий. – Талант у человека пропадает!
– Разве пропадает, сынок? – мать перекинула заискивающий взгляд с него на меня.
– Да я так… Давайте убирать.
И он стал носить в кухню тарелки. Я покорной супругой начала мыть посуду. Мать вытирала её.
Когда в дом вернулся порядок, Анна Павловна спросила тихонько:
– Вам где стелить-то, Геночка? Тут или в светёлке?
Он взглядом позволил решить мне. И вместо того, чтобы противиться, я буднично сказала:
– Только не здесь, здесь жарко!
Она кивнула и протянула мне мимоходом полотенце и сорочку.
– Ступай ополоснись в баньке. Гена проводит.
Мы сели с ним вдвоём на крыльце. Деревья стояли вокруг тёмными стражами. В небе выступила звездная пыль. Пахло какими-то пряными цветами.
В сердце моём колыхнулась волна счастья, смывая солёный налёт годов. Показалось, что чудо опять рядом, только протяни руку. От соседа веяло покоем, мудростью и прочностью. Разве не о таком мне мечталось: вдали от городской сутолоки приклонить голову к надёжному плечу и начать всё сначала? Подумаешь, рост!…
Геннадий молча курил, не отвечая на исходившую от меня женскую тревогу. Он был как друг, как брат. Как интересный собеседник. Но видеть отныне его – и только его… Нет, к этому я не была готова.