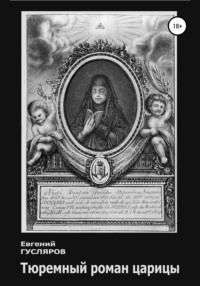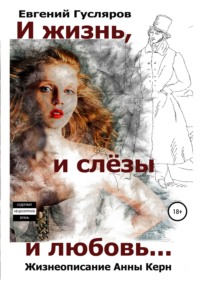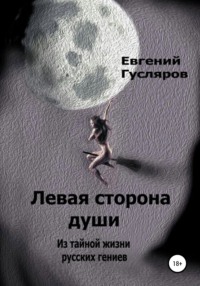полная версия
полная версияСамоубийство Пушкина. Том первый
“Комиссия военного суда находит виновными: писаря Дубовцова – в намерении отречься от Бога и православной веры, в посягательстве уже на исполнение этого преступления и в пьянстве; а рядового Седельникова в склонении Дубовцова к такому преступлению, в чем он изобличается письменными наставлениями, по коим Дубовцов намеревался учинить отречение, и в пьянстве, но как из обстоятельств видно, что означенное преступление учинено ими в первый раз из легкомыслия и более от пьянства, то военно-судная комиссия приговорила: прогнать их сквозь строй каждого через пятьсот человек по три раза”.
Управляющий с.-петербургскою комиссариятскою комиссией во мнении своём полагал: “Дубовцова лишить унтер-офицерского звания, обоих прогнать сквозь строй через пятьсот человек по одному разу, и как неблагонадежных к комиссариятской службе выписать в другое ведомство”.
Генерал кригс-комиссар, генерал-майор Храпчев, в мнении своем полагал: “Так как преступление Дубовцова обнаруживает отсутствие рассудка от пьянства, а вина Седельникова, за несознанием его, недостаточно доказана, то Дубовцова наказать розгами 200 ударов и, разжаловав в рядовые, отправить в арестантские роты на один год; Седельникова наказать 100 ударами розог и тоже отправить в арестантские роты на один год”.
10 января 1841 года генерал-аудиториат решил:
1) Писаря Дубовцова за означенное его преступление, лишив писарского звания, наказать розгами 200 ударов и отослать к духовному начальству для поступления с ним по церковным правилам, а потом обратить его на службу во фронт, по распоряжению инспекторского департамента.
2) Суждение о рядовом Седельникове, подозреваемом в наущении Дубовцова к отступлению от Бога и православной веры, за смертью Седельникова, оставить».
* * *
…Жеманный кот, на печке сидя,
Мурлыча, лапкой рыльце мыл.
То несомненный знак ей был,
Что едут гости.
Так в «Евгении Онегине» заявлено об одной из «кошачьих примет». К сожалению, Пушкин не сообщил, какого цвета был кот у Татьяны. Если он был чёрный, то хозяйка, несомненно, выбрасывала его за порог своего дома во время грозы, поскольку молниями небесные стрелки целят в дьявола, прикинувшегося этой симпатичной животиной, и, промахнувшись, могут спалить жильё, или нечаянно причинить какой другой вред человеку. Татьяна могла знать и то, что нельзя возить чёрную кошку на лошади, чтобы та не околела; что, если кошка чихнет и это услышит невеста в день свадьбы, то быть доброй семейной жизни, а если кошка чихнёт в любой день помимо свадьбы – зубы заболят…
…Свист – дело разбойничье. И даже когда человек насвистывает ради забавы и от скуки, это воспринимается как примета недобрая. Пушкин и это знал. Разбойничий посвист всегда означал угрозу кошельку. Так и стоят в суеверном знании нашем свист и убытки рядом:
«Приезжий не спрашивал себе ни чаю, ни кофию, поглядывал в окно и посвистывал к великому неудовольствию смотрительши, сидевшей за перегородкою.
– Вот Бог послал свистуна, – говорила она вполголоса. – Эк насвистывает, чтоб он лопнул, окаянный: басурман.
– А что? – сказал смотритель, – что за беда, пусть себе свищет.
– Что за беда? – возразила сердитая супруга. – А разве не знаешь приметы?
– Какой приметы? что свист деньгу выживает? И, Пахомовна, у нас что свисти, что нет: а денег всё нет как нет».
Так растолкована эта примета в «Дубровском».
…Было одно верное средство у русского человека от коварного действия разнообразных зловещих примет, от козней нечистой силы. Перекрестится христианская душа – и отступают наваждения, злые предвестия теряют силу.
«…Он (Пугачев) взял стакан, перекрестился и выпил одним духом».
Всякий, не осенённый крестом, сосуд и даже стакан с водкой считался нечистым. Причину того объясняет старая христианская притча, рождённая в Поволжье… Святой человек Андрей Блаженный встретил как-то беса, замурзанного и до непотребства выпачканного.
– Ты бы хоть в реке искупался, – посоветовал святой,– и вольно тебе в такой мерзости обретаться?
– К реке меня ангел не пускает, а велит мне искать хозяйку, у которой кадка, ведро аль стакан непокрытый и крестом не огражденный стоят, там и обмываться. Вот и ищу…
И вот какая выходит из того малого символа значительная вещь. Человек, осенивший себя крестом животворным, верил в нерасторжимую связь свою с какими-то вечными началами. Это вера представляется мне величественной. Она возвышала человека до понимания себя как части этого бесконечного мира, заставляла жить его теми моральными законами, без которых гармония этого мира была бы невозможна. Как бы ни называлась эта вера, замечательна она тем уже, что убеждала – от соблюдения её каждым отдельным человеком, от его жизненного, уклада зависит здоровье целого мира. Как нам не хватает этого сегодня… И человек вёл себя соответственно. Был совестлив и честен в высшем, вселенском значении этого понятия. Он ощущал себя существом, находящимся под неусыпным наблюдением всевидящего ока, принадлежащего вечному и беспредельному разуму. Старался наладить в собственной душе и в отношениях с окружающим миром, с соседом, наконец, ту стройность и порядок, которые интуитивно угадывал в законах и строении всего необозримого мира. И если мы вспомним, что крест – это далеко не изобретение христианства, что он вечно сопровождал славянина, будучи языческим рисованным синонимом солнца – того самого всевидящего ока природы, что в понятиях самых отдалённых наших предков он был другим поименованием вечности, бессмертия, чистоты, был даже символом мужского начала и достоинства, откуда и перешёл в современную генетику как графическое изображение сильного пола и живого семени будущих поколений, то мы должны будем согласиться, что существовавшая ещё недавно воинственная наша неприязнь к этому знаку никак не согласуется ни с историей предков, ни с развитием нашей души.
Колоссальное количество важных поводов перекреститься было, например, ещё у моего деда, уже пережившего и коллективизацию, и сталинский коммунизм.
Повесивши мне в пятилетнем возрасте на шею маленький латунный крестик на гайтане, он обязательно заставлял, например, креститься при грозе. Какие удивительные по буйству грозы обрушивались тогда на нашу деревеньку. Видно, много бесов скопилось у нас, поскольку дед объяснял, что Илья Пророк или Михаил Архангел молниями истребляют именно их. И те, спасаясь, прячутся за человека, и тогда по неловкости эти гневные святые могут убить и безвинного, забывшего оградить себя крестом от беды. Но не спасал тогда и крест, особенно от земных архангелов, объявивших невиданный поход против народа и в каждом видевших того, непереносимого для себя, беса…
Как утверждают, Пушкин религиозность свою не подчёркивал строгим соблюдением обрядности. Может быть, потому и слыл чуть ли не до самой смерти своей язычником. Но крестное знамение наверняка и для него было делом важным. И особенно потому, что оно разрушало и приостанавливало действие примет и наваждений, которые так часто руководили его реальной жизнью…
Поэтические воззрения древних славян на природу
«Примета всегда указывает на какое-нибудь соотношение, большею частью уже непонятное для народа, между двумя явлениями мира физического или нравственного, из которых одно служит предвестием другого, непосредственно за ним следующего, долженствующего сбыться в скором времени. Главным образом приметы распадаются на два разряда:
а) во-первых, приметы, выведенные из действительных наблюдений. По своему характеру первоначального быта, пастушеско-земледельческого, человек всецело отдавался матери-природе, от которой зависело всё его благосостояние, все средства его жизни. Понятно, с каким усиленным вниманием должен был он следить за её разнообразными проявлениями, с какою неустанною заботливостью должен был всматриваться в движение небесных светил, их блеск и .потухание, в цвет зари и облаков, прислушиваться к ударам грома и дуновению ветров, замечать вскрытие рек, распускание и цветение деревьев, прилёт и отлёт птиц и проч., и проч. Живое воображение на. лету схватывало впечатления, посылаемые окружающим миром, старалось уловить между ними взаимную связь и отношения и искало в них знамений грядущей перемены погоды, приближения весны, лета, осени и зимы, наступления жары или холода, засухи или дождевых ливней, урожая или бесплодия. Не зная естественных законов, народ не мог понять, почему известные причины вызывают всегда известные последствия; он видел только, что между различными явлениями и предметами существует какая-то таинственная близость, и результаты своих наблюдений, своей впечатлительности выразил в тех кратких изречениях, которые так незаметно переходят в пословицы и так легко удерживаются памятью. Приметы эти более или менее верны, смотря по степени верности самих наблюдений, и многие из них превосходно обрисовывают поселянина. Приведём несколько примеров: если в то время, когда пашут землю, поднимается пыль и садится на плечи пахаря, то надо ожидать урожайного года, т. е. земля рыхла и зерну будет привольно в мягком ложе. Частые северные сияния предвещают морозы; луна бледна к дождю, светла – к хорошей погоде, красновата к ветру; огонь в печи красен – к морозу, бледен – к оттепели; если дым стелется по земле, то зимою будет оттепель, летом – дождь, а если подымается вверх столбом – это знак ясной погоды летом и мороза зимою; большая или меньшая яркость северных сияний, цвет луны и огня и направление дыма определяется степенью сухости и влажности воздуха, от чего зависят также ясная погода и ненастье, морозы или оттепель. На том же основании падение туманов на землю сулит непогоду, а туманы, подымающиеся кверху, предвещают ведро. Если зажженная лучина трещит и мечет искры – ожидай ненастья, т. е. воздух влажен и дерево отсырело.
б) Но сверх того есть множество примет суеверных, в основании которых лежит не опыт, а мифическое представление, так как в глазах язычника, под влиянием старинных метафорических выражений, всё получало свой особенный сокровенный смысл. Между этими приметами, на которые наталкивали человека его верования и самый язык, и приметами, порождёнными знакомством с природою, таится самая тесная связь. Древнейшее язычество состояло в обожании природы, и первые познания о ней человека были вместе с его религией; поэтому действительные наблюдения часто до того сливаются в народных приметах с мифологическими воззрениями, что довольно трудно определить, что именно следует признать здесь за первоначальный источник. Многие приметы, например, вызваны, по-видимому, наблюдением над нравами, привычками и свойствами домашних и других животных. Нельзя совершенно отрицать в животных того тонкого инстинкта, которым они заранее предчувствуют атмосферные явления; предчувствие свое они заявляют различно: перед грозой и бурей рогатый скот глухо ревёт, лягушки начинают квакать, воробьи купаются в пыли, галки с криком носятся стаями, ласточки низко ширяют в воздухе и т. д. Ещё теперь поселяне довольно верно угадывают изменения погоды по хрюканью свиней, вою собак, мычанью коров и блеянью овец. Народы пастушеские и звероловные, общаясь постоянно с миром животных, не могли не обратить внимания на эти признаки и должны были составить из них для себя практические приметы. Но, с другой стороны, если взять в соображение ту важную роль, которую играют в мифологии зооморфические олицетворения светил, бури, ветров и громовых туч, то сам собою возникает вопрос: не явились ли означенные приметы плодом этих баснословных представлений? О некоторых приметах, соединяемых с птицами и зверями, положительно можно сказать, что они нимало не соответствуют настоящим привычкам и свойствам животных, а между тем очень легко объясняются из мифических сближений, порождённых старинным метафорическим языком; так, например, рыжая корова, идущая вечером впереди стада, предвещает ясную погоду на завтрашний день, а чёрная – ненастье.
Древность народных примет подтверждается и их несомненным сродством с языческими верованиями и свидетельством старинных памятников, которые причисляют их к учению “богоотметному”, еретическому… Самое полное исчисление суеверных примет встречаем в статье, известной под названием “О книгах истинных и ложных”. Большинство списков этого индекса относится к XVI и XVII столетиям; здесь осуждаются: “Сонник, волховник – волхвующие птицами и зверьми, еже есть се: стенотреск, ухозвон, вранограй, куроклик (т. е. крик воронов и пение петухов), окомиг, огнь бучит, пёс выет, мышеписк, мышь порты изгрызет, жаба вокоче (воркочет, квогчет), изгорит нечто, огнь пищит, искра из огня прянет, кошка мявкает, падёт человек, свеща угаснет, конь ржёт, вол на вол (вскочит)…”.
Когда метафорический язык утратил свою общедоступную ясность, то для большинства понадобилась помощь вещих людей. Жрецы, поэты и чародеи явились истолкователями разнообразных знамений природы, глашатаями воли богов, отгадчиками и предвещателями. Они не столько следили за теми приметами, которые посылала божественная природа независимо от желаний человека, но и сами допрашивали её. В важных случаях жизни, когда народ или отдельные лица нуждались в указаниях свыше, вещие люди приступали к религиозным обрядам: возжигали огонь, творили молитвы и возлияния, приносили жертву, и по её внутренностям, по виду и голосу жертвенного животного, по пламени огня и по направлению дыма заключали о будущем; или выводили посвящённых богам животных и делали заключения по их поступи, ржанию или мычанию; точно так же полёт нарочно выпущенных священных птиц, их крик, принятие или непринятие корма служили предвестиями удачи или неудачи, счастья или беды. Совершалось и много других обрядов с целью вызвать таинственные знамения грядущих событий. Подобно тому, как старинное метафорическое выражение обратилось в загадку, так эти религиозные обряды перешли в народные гадания и ворожбу. Сюда же относим мы и сновидения: это та же примета, только устроенная не наяву, а во сне; метафорический язык загадок, примет и сновидений один и тот же. Сон был олицетворяем язычниками как существо божественное, и всё виденное во сне почиталось внушением самих богов, намёком на что-то неведомое, чему суждено сбыться. Поэтому сны можно и нужно разгадывать, т. е. выражения метафорические переводить на простой, общепонятный язык…
Чтобы нагляднее показать то важное влияние, какое имели на создание примет, гаданий, снотолкований и вообще поверий язык и наклонность народного ума во всём находить аналогию, мы приведем несколько примеров…
Не должно кормить ребёнка рыбою прежде, нежели минет ему год; в противном случае он долго не станет говорить: так как рыба нема, то суеверие связало с рыбною пищею представление о долгой немоте ребенка.
Не должно есть с ножа, чтобы не сделаться злым, – по связи понятий убийства, резни и кровопролития с острым ножом.
Если при весеннем разливе лёд не тронется с места, а упадет на дно реки или озера, то год будет тяжёлый; от тяжести потонувшего льда поселяне заключают о тяжёлом влиянии грядущего лета: будет или неурожай, бескормица, или большая смертность в стадах, или другая беда. Вообще падение сулит несчастье, так как слово падать, кроме своего обыкновенного значения, употребляется еще и в смысле умереть: падеж скота, падаль… Не должно варить яиц там, где сидит наседка; иначе зародыши и в подложенных под неё яйцах так же замрут, как и в тех, которые сварены. Сходно с этим: кто испечет луковицу прежде, чем собран лук с гряд, у того он весь засохнет.
В случае пореза обмакивают белую ветошку в кровь и просушивают у печки: как высыхает тряпица, так засохнет, т. е. затянется, и сама рана. Сушить ветошку надо слегка, не на сильном огне, а то рана ещё больше разболится. В былое время даже врачи не советовали тотчас после кровопускания ставить кровь на печку или лежанку, думая, что от этого может усилиться в больном внутренний жар, воспаление.
Когда невеста моется перед свадьбою в бане и будут в печи головешки, то не следует бить их кочергою; не то молодой муж будет бить свою суженую. Для понимания этой приметы прибавим, что пламя очага издревле принималось за эмблему домашнего быта и семейного счастья…
Два человека столкнутся нечаянно головами – знак, что им жить вместе, думать заодно (Воронеж, губ.).
Принимая часть за целое, народные приметы соединяют с волосами представление о голове: не должно остриженных волос жечь или кидать зря, как попало, от этого приключается головная боль. Крестьяне собирают свои остриженные волосы, свертывают вместе и затыкают под стреху или в тын. Чьи волоса унесет птица в своё гнездо, у того будет колтун, т. е. волоса на голове собьются так же плотно, как в птичьем гнезде… Как с волосами, так и с шапкою, назначенною покрывать голову, следует обращаться осторожно: кто играет своею шапкою, у того заболит голова.
Нога, которая приближает человека к предмету его желаний, обувь, которою он при этом ступает, и след, оставляемый им на дороге, играют весьма значительную роль в народной символике. Понятием движения, поступи, следования определялись все нравственные действия человека: мы привыкли называть эти действия поступками, привыкли говорить: войти в сделку, вступить в договор, следовать советам старшего, т. е. как бы идти по их следам; отец ведёт за собою детей, муж – жену, которая древле называлась даже водимою, и смотря по тому, как они следуют, шествуют за своими вожатыми, составляется приговор о их поведении; нарушение уставов называем про-ступками, пре-ступлением, потому соединяем с ними идею совращения с настоящей дороги и переступания законных граней; кто не следует общепринятым обычаям, тот человек беспутный, непутевый, заблуждающийся; сбившись с дороги, он осуждён блуждать по сторонам, идти не прямым путём, а окольным. Выражение “перейти дорогу” – до сих пор употребляется в смысле: повредить чьему-либо успеху, заградить путь к достижению задуманной цели. Отсюда примета, что тому, кто отправляется из дому, не должно переходить дороги; если же это случится, то не жди добра. Может быть, здесь кроется основа поверья, по которому перекрестки (там, где одна дорога пересекает другую) почитаются за места опасные, за постоянные сборища нечистых духов. В тот день, когда уезжает кто-нибудь из родичей, поселяне не метут избы, чтобы не замести ему дороги, следа, по которому бы мог он снова вернуться под родную кровлю. Как метель и вихри, заметая проложенные следы и ломая поставленные вехи, заставляют плутать дорожных людей, так стали думать, что, уничтожая в доме следы отъехавшего родственника, можно помешать его возврату. По стародавнему верованию, колдун может творить чары “на след”, “повредить или уничтожить след” означало метафорически: отнять у человека возможность движения, сбить его с ног, заставить слечь в постель… В народных гаданиях и приметах нога и обувь вещают о выходе из отеческого дома; “подколенки свербят – путь будет”, – сказано в старинном сборнике при исчислении различных примет и суеверий…
Ворота указывают на предстоящий отъезд; то же предвещание соединяют и с дверьми. У лужичан девица, становясь посреди избы, бросает свой башмачок через левое плечо к дверям, и если он вылетит вон из комнаты – то быть ей вскоре просватанной, а если нет – то оставаться при отце при матери. На Руси мать завязывает дочери глаза, водит её взад и вперёд по избе и затем пускает идти, куда захочет. Если случай приведет девушку в большой угол или к дверям – это служит знаком близкого замужества, а если к печке – то оставаться ей дома, под зашитою родного очага…
Сваха, являясь с предложением к родителям невесты, старается усесться на ланку так, чтобы половица из-под её ног шла прямо к двери; думают, что это содействует успеху дела, что родители согласятся выдать невесту. Кто, выходя из дому, зацепится в дверях или споткнётся на пороге, о том думают, что его что-то, задерживает, притягивает к этому дому, и потому ожидают его скорого возврата. Любопытна ещё следующая примета: перед поездом к венцу невеста, желающая, чтобы сёстры её поскорее вышли замуж, должна потянуть за скатерть, которою накрыт стол. Метафорический язык уподобляет дорогу разостланному холсту; ещё доныне говорится: полотно дороги. Народная загадка: “Ширинка – всему свету не скатать” – Означает “дорога”. – Когда кто-нибудь из членов семейства уезжает из дому, то остающиеся на месте махают ему платками, чтобы “путь ему лежал скатертью” – был и ровен, и гладок. “Потянуть скатерть” означает следовательно: потянуть с собою в дорогу и других родичей… У нас замечают: кто из молодой четы – жених или невеста – ступит во время венчания на разостланный плат, тот и будет властвовать в доме; здесь как бы решается вопрос, кто из новобрачных за кем будет следовать по жизненному пути. О мужьях, послушных женам, говорится, что они “под башмаком”, “под туфлёю”. В крестьянском быту доныне совершается на свадьбах древний обряд разувания жениха невестою.
Если чешутся глаза – придётся плакать, если лоб – кланяться приезжим, губы – кушать гостинец, ладонь – считать деньги, ноги – отправляться в дорогу, нос – слышать о новорождённом или покойнике; понятие “слуха” и “чутья” отождествляется в языке: малороссийское чую – слышу, наоборот, великороссы говорят: “Слышу запах”, у кого горят уши – того где-нибудь хулят или хвалят, т. е. придётся ему услышать о себе худую или хорошую молву.
* * *
Очень нетрудно догадаться, почему Пушкина взволновал сюжет о князе Олеге, которому предречена была смерть от своего любимого коня. Смерть от коня была предречена гадалкой Кирхгоф и самому Пушкину. Помните, у Соболевского: «Предсказано было, наконец, что он проживёт долго, если на 37 году возраста не случится с ним какой беды от белой лошади, или белой головы, или белого человека… С тех пор Пушкин тщательно вкладывал ногу в стремя, садясь на коня. История князя Олега, точность, с которой исполнилось предсказание, могла неприятно подействовать на Пушкина. Во всяком случае, с тех пор, как он прочитал об этом случае у Карамзина, например, .сюжет этот воображения его не оставлял.
Пушкин, конечно, мог узнать его из летописей (в Устюжском летописном своде, например, эта грустная история изложена так: «Сей же Олг, княжив лет 33 и умре, от змия уяден, егда яде от Царяграда, перешед море, поиде на конех. Прежде же сих лет призва Олг волхвы своя и рче им: “Скажи ми – что смерть моя?” Они же реща: “Смерть твоя от любимого твоего коня!” …И повеле (Олег) отрокам своим, да изведше его (коня) далече в поде и отсекут главу его, а самого повергут зверям земным в птицам небесным. Егда же яде от Царяграда полем и наеха главу коня своего суху я рече боярам своим: “Воистину солгаша ми волхвы наша. Да пришед в Киев побию волхвы, яко изгубиша моего коня”, и слез с коня своего, хотя взяти главу коня своего – сухую кость – и лобзать яю, понеже съжалися по коне своём. И обие изыде из главы ис коневы, из сухие кости змий я уязви Олга в ногу по словем волхвов его… и оттоле же разболевся и умер. И есть могила его в Ладози». В Новгородской летописи этот вариант изложен гораздо короче: «Друзии же сказают, яко идущу ему за море и уклюну змиа в ногу и с того умре. Есть могыла его в Ладозе»), но доступнее был всё-таки Карамзин:
«Волхвы, – как говорит летописец, – предсказали князю, что ему суждено умереть от любимого коня своего. С того времени, он и не хотел ездить на нём. Прошло четыре года: в осень пятого вспомнил Олег о предсказании, и, слыша, что конь давно умер, посмеялся над волхвами; захотел видеть его кости; стал ногою на череп и сказал: его ли мне бояться? Но в черепе таилась змея: она ужалила князя, и герой скончался…».
Для нашей попытки создать подобие некоего свода древностей русского духа, его суеверия, отразившегося, как мир отражается в капле росы, в душе Пушкина, будет важным одно небольшое уточнение. При внимательном чтении «Песни о вещем Олеге» возникает, ну, не необходимость, а, скорее, возможность такого уточнения. Пушкин трижды называет попавшегося навстречу князю старика кудесником. «Из темного леса навстречу ему идет вдохновенный кудесник…». «Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною?..». «Кудесник, ты лживый, безумный старик!». А сам обуянный гордыней старец обращается к Олегу так: «Волхвы не боятся могучих владык…» и т. д. Понятия – «кудесник» и «волхв» неподготовленному нынешнему читателю могут показаться синонимами. Однако не так воспринимались эти слова во времена Пушкина. То, что он упорно называет лесного старика «кудесником» и лишь однажды, скорее всего из технических соображений соблюдения стихотворного размера – «волхвом», подтверждает это.
После Пушкина (я уверен, что именно он натолкнул на это) Б.А. Рыбаков обратил внимание на то, что надо бы эти вещи разделять:
«Требует расшифровки указание на то, что Олег “въпрошал вълхв и кудесник”. Волхвы – общее название языческих жрецов как местных славянских, так и иных. Кудесник – наименование финно-угорских колдунов-шаманов “кудесы” – бубны): оно встречается в источниках только в связи с северо-восточными окраинами России: Чудь, Белоозеро, Пермь. Олег окружил себя жрецами из разных земель. Смерть ему предрек не волхв, а “един кудесник”, т. е. чудской (эстонский), ижорский или карельский шаман, в чем, разумеется, сказалась недоброжелательность населения, окружавшего варяжскую базу Приладожье – Ладога».