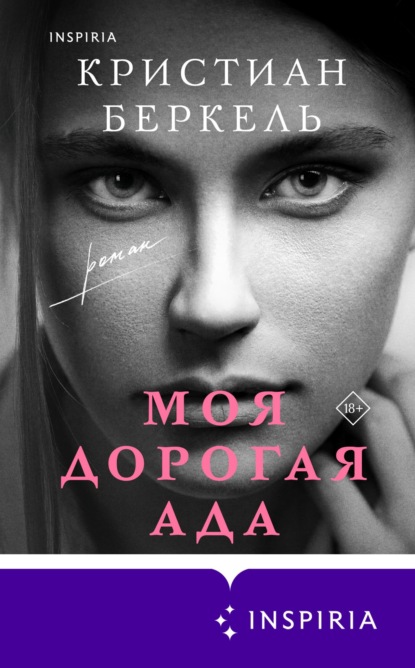Полная версия
Ведьмы графства Эссекс
– Несомненно. Наступили темные времена, и мы готовы поверить, что Дьявол ходит повсюду, роняя семена порока в наши сердца, усугубляя наши земные страдания.
Я никогда прежде не слышала, чтобы он говорил что-то подобное – о Дьяволе.
– Вы верите в это? – спрашиваю я. – Что Дьявол в самом деле среди нас делает свое дело?
Он горько улыбается, пальцы обхватывают горлышко бокала.
– Верю ли я в это? Я знаю, что это правда.
– Но откуда?
– Потому что я человек, такой же, как и другие. Даже наш господь Иисус Христос подвергался черным дьявольским увещеваниям. И он устоял благодаря лишь великой силе духа.
Он сидит напротив, и теперь я замечаю кое-что, чего раньше не было. Что-то повредило его. Голова склонилась над закрытой книгой, словно в мольбе. Рот и нос – как у молодого человека, но лоб прорезали глубокие морщины, а глаза воспалены. Я вспоминаю, что помимо наших еженедельных встреч у него есть повседневная жизнь, работа. Он работает клерком, с морскими перевозками: ночи напролет просиживает над пыльными бухгалтерскими книгами и безжалостными колонками цифр, скрипя пером при свечах. Эта картина наполняет меня невыразимой нежностью. Мне хочется поцеловать веки его уставших глаз, взять его лицо в ладони и прислонить к своему плечу.
– По-моему, я видела его, – чуть ли не шепчу я.
Зачем я это говорю? Я немедленно жалею об этом. Господин Идс смотрит на меня, его лицо омрачается. Возможно, это из-за вина – ведь я пью очень редко. Или он поверит мне, и тогда в его глазах я навсегда буду запятнана этой связью, или он не поверит, а подумает, что я просто глупая девица, которая развлекает себя инфернальными фантазиями. Или, скорее всего, здесь вообще не во что верить или не верить, и все, что я делаю сейчас, – упрочняю нити обмана, протянувшиеся между нашими сердцами. Что бы я предпочла? Я пробираюсь к нему в темноте.
– Знаю, вы не стали бы говорить подобные вещи от нечего делать, Ребекка, – отвечает он наконец после долгого трепетного молчания.
– Словно тень. Позади меня. В воде, – поясняю я. Объяснение, которое вовсе не объяснение, и не может быть таковым для него, но, кажется, он принимает его. Принимает или игнорирует.
Он встает.
– Дни стали такими короткими, – говорит он и принимается зажигать свечи.
А я отвечаю, что должна возвращаться в Лоуфорд, пока матушка не потеряла меня, – но при этом не делаю ни единого движения, чтобы уйти, потому что, когда я тянусь за шалью, он внезапно садится, берет мою руку в свою и сжимает ее. Его ладонь прохладная и мягкая. Он снова произносит мое имя, произносит Ребекка, но как-то напряженно, будто споря, как если бы я пыталась ему помешать.
– Ребекка, – повторяет он, и я думаю, как чудесно слышать свое имя, произнесенное вслух, знать, что любимые губы двигаются определенным образом, чтобы произнести его. – Я говорю, что я знаю, что такое искушение, потому что я – мужчина.
Его глаза, синие, как стрекозки, пристально смотрят на меня, и я чувствую, что краснею. Мне кажется, я знаю, что именно он говорит мне, но я не смею в это поверить и тем более не смею ответить ему взаимностью.
Будто кукурузный початок застрял у меня в горле и скребет гортань. У меня за спиной, в углу комнаты, кровать господина Идса, застеленная чистым белым покрывалом.
– Разве Библия не учит, что женщины слабее духом, а потому легче мужчин поддаются искушению? – говорю я фальцетом, что в голову пришло, в надежде заполнить паузу.
Кажется, это ободрило господина Идса, и он крепче сжимает мою руку. Усмешка кривит его губы.
– Тогда, возможно, нам обоим следует хорошенько помнить о том, – говорит он, – что Дьявол, этот старый мошенник, усерднее всего трудится там, где, как ему кажется, его наиболее презирают.
Он кладет мою по-девичьи неловкую руку себе на колени и проводит пальцами по грубой коже у основания большого пальца. О Боже. Мои руки, огрубевшие и потрескавшиеся от щелочи и кипятка, покрытые тонкими шрамами от ухода за очагом. Маленькие руки и такие, такие грубые в сравнении с его длинными выразительными пальцами. Предполагаю, что всем этим – ежедневными хлопотами – занимается за господина Идса трактирщик. Или жена трактирщика. Или служанка трактирщика.
И тогда неожиданно на меня накатывает ничем не обоснованная волна собственничества по отношению к господину Идсу и к его комнате и неприятия каких бы то ни было шлюшек из местных служанок, которые, может быть, тут есть. Я чувствую, что нужно что-нибудь сказать, поэтому произношу его имя, «господин Идс», и меня снова захлестывает горечь. Мы одни, и он прикасается ко мне, но по-другому, не так, как я привыкла. И, может, потому, что все произошло слишком неожиданно, или потому, что еще слишком свежи ощущения от утреннего сна о саде – не могу сказать, – но что-то побуждает меня убрать руку и посмотреть на дверь, которую мы всегда оставляем приоткрытой, ради соблюдения приличий.
Господин Идс видит мой взгляд и тоже убирает руки, поднимая их в знак извинения.
– Простите меня, Ребекка, – вздыхает он. – Вы обеспокоены. Мне только хотелось предложить помощь. Но, возможно, это не мое дело.
Я знаю, что это ложь, но она звучит достаточно похоже на правду, чтобы ослабить комок нервов в моей груди, и я благодарна ему за это. Я наблюдаю, как он допивает вино, затем поднимается и снова наполняет бокал, и я не знаю, с какой стороны подступиться, как объяснить ему, чего я от него хочу. Это странно, что можно до ужаса хотеть чего-то – например, мужчину или умереть, – и в то же самое время бояться этого до глубины души.
В самом деле, думаю я, глядя, как он, склонив голову, стоит у очага, я так мало знаю о нем, и ничего такого, что он хотел бы сохранить в секрете. Мне бы хотелось узнать его тайну. Возможно, лучше всего было бы быть его тайной. Прелестной мукой. Неизбывным стыдом.
Я стою, а колокола церкви Св. Марии звучат снаружи, откуда-то из облаков и грязной улицы, созывая верующих на вечернюю службу и усмиряя мой порыв сладострастия. Идс стоит у огня, и мне хочется подойти к нему и припасть к пульсирующей жилке на его чистой нежной шее, но вместо этого я глупо стою у стола и говорю с вынужденной вежливостью в голосе, слишком громко:
– Как поживает в Торне господин Хопкинс?
Идс удивленно смотрит на меня.
– Господин Хопкинс? Нууу. Дела идут… медленно, конечно. Сейчас, когда погода изменилась. Ребекка… – он отводит взгляд от огня и теперь снова смотрит на меня, тон сдержанно-осторожный, – мне кажется, будет лучше, то есть, мне кажется, у вас хватит здравого смысла никому не рассказывать о… о том, о чем мы с вами сегодня здесь говорили.
О Дьяволе и его искушениях или о том, что мы держались за руки?
Кажется, лучше не спрашивать, поэтому я послушно киваю и накидываю шаль на плечи. Пора уходить, и я собираю свои вещи – корзину, плащ, изношенные шерстяные перчатки, – когда меня охватывает чувство опустошения.
Я украдкой бросаю на него взгляд – он стоит у огня, глубоко задумавшись. Мы как-то оба промахнулись сегодня, будто нитка прошла мимо узкого ушка иголки.
Нитка и иголка, вот оно. Но слишком поздно.
– Спокойной ночи, господин Идс, – говорю я, стоя на пороге и добавляю: – Храни вас Бог, Джон.
Он кивает, но не отвечает. Я закрываю за собой дверь.
Снаружи Маркет-стрит практически превратилась в пенящийся грязный черный водоем. Мелкий дождь моросит, застревая на ресницах. На мрачной улице почти никого нет, и кроме вечернего звона колоколов тишину нарушает единственный звук – заливистый хохот трех детей Райтов, тощих и плохо одетых. Толстый черный боров пробрался через разрушающуюся стену соседского дома в сарай госпожи Райт – так свиньи обычно и делают, потому что они умны и ничего не боятся, – и дети бранят и пинают его. Сама госпожа Райт, застыв от отчаяния, наблюдает за безрезультатными атаками своего выводка с крыльца, а довольный боров чавкает ее отложенными на зиму припасами. Как проста жизнь животных, не созданных по образу и подобию Божию. Что они видят и что хотят, туда идут и берут, довольные до невозможности.
Когда я начинаю долгую дорогу домой, перед моим мысленным взором встают заключительные строки катехизиса Гауджа: При кончине века сего пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов.
8. Огонь
Зимой, бывает, я рада вернуться домой, даже несмотря на то, что там мать. Рада огню и булькающему рагу, когда они есть, рада мешку с луком в шелестящей желтой шелухе, стойкому аромату тимьяна, что сушится у порога. Маленький уголок мира, где можно забыться, где нет тех, перед кем нужно притворяться. Но сегодня у матери очередной приступ философского настроения, она хандрит и склонна отпускать едкие замечания в мой адрес. Она сидит у стола, закутавшись в потерявшую белый цвет шаль; дурное настроение проступает в глубоких морщинах на лице, когда она, склонившись над очагом, заглядывает в кастрюлю. Когда я вхожу, мать видит грязь на моих башмаках и принимается соскребать ее. Спрашивает, не голодна ли я. Сообщает, что принесла баранью лопатку – взяла в долг у лавочника. Я вру, что уже поела у вдовы Мун. И добавляю, что ей не следовало бы ничего брать в долг, учитывая, что зима будет скудной, а весной будет еще хуже, потому что война есть война (и хотя сейчас она далеко, но она будто петля, затянутая на шее у страны).
Мать наблюдает за мной; в одной худой руке половник, другой она ухватилась за отворот своего грязного рукава.
– И где это вы задержались так поздно, мисс?
– У господина Джона Идса, – коротко отвечаю я, надеясь таким образом показать, что не потерплю дальнейших расспросов на эту тему, и принимаюсь греть у огня уставшие ноги.
– Ты видела Маргарет? – спрашивает она.
– Вдову Мун трудно не заметить.
Я довольна своей остротой, но матушка лишь цокает и снова проверяет мясо в кастрюле, бормоча, как я нелюбезна. Но ни в ее движениях, ни в словах, ни даже в ее укоризненных репликах нет убежденности – она слоняется по кухне, как призрак, предназначение которого – снова пройти через тяготы жизни смертного человека до трагического конца, и, черт побери, это бесит меня. Сидя у огня, я перебираю в уме, что я могла бы сейчас сказать ей такого возмутительного, чтобы поколебать это болезненно-застывшее выражение на ее лице. Как будто ее здесь нет. Мне кажется, я влюблена в Джона Идса, сказала бы я, например, и я могла бы съесть обрезки его бороды, если бы он попросил меня. Или еще, мне кажется, прошлой ночью, в умывальнике Джудит Мун, я видела Дьявола. Но вместо этого я говорю только: «Куда подевалось мое вязание?» И ослабляю промокший чепец. Мать передает мне вязание и безучастно говорит, что мы пока не должны разжигать камин в комнате. Этот камин разжигаю только я, и я не делала этого уже несколько недель, но у меня нет сил спорить с ней.
– Огня на кухне будет вполне достаточно, – вздыхаю я, разматывая темно-желтую шерсть.
Уксусный Том вылезает из-под лавки и от души зевает во всю пасть. Затем усаживается у двери, уши настороженно подергиваются, улавливая звуки, зарождающиеся в ночи по ту сторону бревенчатых стен. Из всех настроений матери именно это настроение – это угрюмое отречение от себя – я ненавижу больше всего. Оно вызывает во мне ненависть гораздо более сильную, чем если бы в мою голову полетели все груды кувшинов с нашей ежегодной сельскохозяйственной ярмарки. Оно ощущается как предательство.
Снаружи ветер треплет черные фалды туч, несущихся над Стоуром, и дымоход подвывает под стук моих спиц. Мать сидит напротив меня, притихшая, с выпученными глазами, и теребит дряблую кожу на шее. И жует свою щеку. А затем начинает рассказывать. Кажется, самой себе – настолько тихо она говорит.
– Это было вскоре после того, как ты родилась, – начинает она. – Твой отец, упокой его Господи, был в отъезде, кажется, во Флашинге. А я сидела у огня, в этой комнате, качая тебя на коленях. Ты была такой прелестной малюткой. Волосики нежные, как пух. Не верится… – В ее голосе сквозит что-то отдаленно похожее на грустную улыбку. – В такой же непогожий вечер, когда ветер бушевал в дымоходе, – продолжает она, устремляя взгляд на стенающий очаг, и ее улыбка угасает, – пришел человек в черном. Пришел человек в черном и встал вот здесь, – она показывает пальцем на пространство прямо перед очагом, на самый край половика. – Человек в черном, в высокой шляпе. Только что я была одна, и вот…
Я, замерев, смотрю на нее. Я уверена, что она видит этого мужчину прямо сейчас, ее налитые кровью глаза следят за передвижениями неизвестного гостя, как кошки следят за танцующими в воздухе пылинками солнечным днем.
– Никто не говорит тебе, пока ты не родишь, – тихо говорит она, глаза еще глядят в пустоту, – что только что ты была одна, и вот… ты опять одна. В юности ты думаешь, что ребенок – будто морской узел или шпилька, только ты не вставляешь его, а, наоборот, выталкиваешь, – мать горько улыбается. – Что родится ребенок и все расставит по местам, скрепит все вместе. Но этого не происходит. Я имею в виду, – наконец она смотрит на меня, – ты не сделала этого.
Что мне сказать на это? Я слушаю, спицы в моих руках все еще неподвижны.
– И вот стоит этот человек в черном, – продолжает она, – в длинной мантии, как у пресвитера, а я сижу в полном остолбенении. Он говорит, что было бы хорошо, если бы я – было бы хорошо, если бы ты, Энн Уэст, помню это, как сейчас, – бросила свое дитя в огонь. Прямо здесь и сейчас. И я целую твои маленькие румяные щечки и кладу тебя сюда, на очаг, прежде чем успеваю осознать, что я делаю… и человек в черном исчезает. Исчезает так же быстро, как и появился.
Я слушаю. Я помню историю юной женщины из штата Мэн в Новой Англии, о которой шептались на задних скамьях в Св. Марии года два назад. Она звучала ровно так, как должна звучать история, которая добралась из хвойных лесов Нового Света с их привидениями до гостиных в Эссексе – когда наши местные фантазии налетают на скуднейшие крупицы правды подобно стае грязных черных голубей. Рассказывали, что эта девушка была совсем юная и к тому же недалекая. Проповеди местного священника одновременно испугали и запутали ее настолько, что она решила бросить свое новорожденное дитя в колодец, прямо средь бела дня. Когда ее обвинили в убийстве ребенка, женщина из штата Мэн ответила, что поскольку она сама проклята, и, как она знает, и младенец тоже проклят, никому из них нет смысла заботиться такими пустяками, как земная жизнь. Разве не умно обойти жестокость, присущую Божественному замыслу, и гораздо более прямым путем привести все к безусловно угодному Ему концу. Все, что осталось, – во имя Правосудия завершить начатое, и эта простодушная женщина из штата Мэн просила, чтобы это произошло как можно скорее. Так и сделали. Ее повесили на поляне перед Домом собраний, среди елей, а эта печальная история превратилась в назидательный рассказ в грязной брошюре, купленной на подворье собора Св. Павла в Лондоне и прочитанной вслух возбужденным девственницам Эссекса проезжим вестовым. Урок против самомнения.
Мать продолжает:
– Угли были очень горячими, и вскоре ты уже корчилась и извивалась на очаге, как червяк на крючке. Я видела это, но неожиданно почувствовала огромную тяжесть и поняла, что я ничего не могу сделать, даже если захочу. А твои волосы, все эти черные волосы, уже полыхали. Мои ноги были крепко связаны. И тогда, – она улыбается, – раздается стук в дверь. Входит вдова Лич – только тогда она еще не была вдовой, – окидывает взглядом комнату и с криком хватает тебя и относит подальше от огня.
Уксусный Том вмешивается с непристойным мяуканьем, он возбужден этим рассказом о детоубийстве и желает возобновить собственную тиранию над местными вредителями, а потому требует, чтобы его выпустили во двор. Мать встает из-за стола, открыть ему дверь. Том выскальзывает наружу, а внутрь проникает ветер. Пламя свечи трепещет. Я снова начинаю вязать. Жестокость услышанного – горящее дитя, это дитя – я сама – меня не трогает. Волдыри на пухленьких ручонках. Нет. Это не про меня. И все же. Я размышляю об этом, о мужчине в черном, о девушке из штата Мэн, о младенцах, горящих и падающих в колодец. В этом есть какой-то узор, как в вязании, свой язык, причем женский, этот узор розово-серый, как кишки, и хранится в секрете.
– Лич дала мне увесистую пощечину, затем схватила за руки, – продолжает матушка, плотно закрыв дверь и вернувшись на место, – и мы вместе прочитали молитву. – Она немного молчит, а потом добавляет: – И я никогда больше не видела этого человека в черном.
– Человек в черном, – повторяю я. Кажется, звучит, будто я насмехаюсь над ней. Я надеюсь, что это звучит так, будто я насмехаюсь над ней и ее человеком в черном.
Она смотрит на меня с неодобрением.
– Думаешь, это был Дьявол? – Я пожимаю плечами. – Это Бог пришел к Аврааму и велел ему зарезать своего сына.
– Бог – Дьявол. Как глупая женщина, которая вместо подписи там, где должно быть имя, ставит крестик, должна различать их, когда их методы так похожи? – она вздыхает. – Может быть, это только мое воображение.
Я говорю ей, чтобы она так или иначе оставила все это, а то она никогда не сможет думать ни о чем другом, а мы не можем себе этого позволить, потому что у нас тушится баранья лопатка, а за нее надо платить. Она возражает, что купила ее у Риветта, а он пьет и потому вполне может забыть про долг. И она называет меня Кроликом и говорит, что если и есть что-нибудь, чему старая мать может научить свою дочь, так это тому, что в долг нужно брать только у мужчин с красным носом. И подмигивает.
Я говорю: «Одиннадцатая заповедь» – и улыбаюсь, чтобы она могла решить, что мы до чего-то договорились друг с другом.
Баранина хороша, и нам хватает ее почти на всю неделю, и на этой неделе мы с матерью не находим никакого значительного повода для ссоры.
9. Порча
Субботний вечер. Томаса Бриггса раздевают и водворяют в корыто, поставленное перед камином и на полдюйма наполненное тепленькой водичкой. Он подтягивает тощие ноги к груди и сидит так, уткнувшись в колени. Его мать, Присцилла Бриггс, втайне радуется этой зарождающейся мужественности, что проявляется в непримиримости перед лицом омовения, но радуется не настолько, чтобы позволить ему пойти в церковь с засохшей грязью под ногтями.
Сама хозяйка дома поднимается наверх приготовить для завтрашней службы лучшее выходное черное платье и припудренный воротничок.
Она наказывает Хелен, служанке, проветрить ее плащ. Затем греет Томасу чашку молока на сон грядущий – чтобы рос здоровым.
– И, надеюсь, на этот раз ты не забыл вымыть уши. Чистота – это…
Но постойте. Она распахивает дверь в гостиную и видит опрокинутое корыто и Томаса, распростертого на каменном полу лицом вниз, – его руки напряжены и раскинуты, как у соломенной куклы, его колотит в припадке.
Хелен и Присцилла вместе несут мальчика наверх в его спальню, а он брыкается и шипит на них, жалкий, будто лисица, попавшая в капкан, его глаза закатываются. О Господи, мой мальчик, мой Томас. Присцилла судорожно ловит воздух, склонившись над кроватью, откидывает волосы с влажного лица своего сына и пытается утихомирить его бешеные метания.
Хелен стоит в дверях.
– Позорище природы! – пронзительно верещит Присцилла. – Не стой здесь! Пошли Майкла за доктором Кроком.
И Хелен бросается прочь, путаясь в юбках.
– И за пастором! – кричит Присцилла ей вслед.
Уже за полночь прибывает доктор Крок, величавый в своем плаще, с длинными прядями седых волос; в его жестком чемоданчике клещи и ломики, колючки морских ежей и селитра. Госпожа Бриггс отходит от постели сына, только чтобы расчесать волосы и накинуть простое платье. Она чувствует себя немного виноватой даже за это кратковременное отсутствие, но утешается тем, что в конечном итоге это сделано в лучших интересах Томаса, учитывая, что доктор Крок видный вдовец, сама Присцилла тоже скоро овдовеет, и это обстоятельство она постарается исправить, как только позволят приличия.
Томас больше не бьется в припадке, а мелко дрожит, глаза блестят, кожа горячая и потная.
– Пупсики, – выдыхает он, – в угольном ведре. И у них дикие птицы, как будто домашние.
Доктор поднимает мальчику ночную рубашку и кладет ладонь на вздрагивающий живот. Томас пытается вывернуться из-под одеяла и встать на ноги. Присцилла мягко протестует, пытаясь уложить его обратно на подушки, но доктор знаком призывает ее помолчать и позволить мальчику подняться.
Томас Бриггс встает. Мгновение он стоит и дрожит у кровати, а затем начинает ходить, ходить с незрячим взглядом по комнате все расширяющимися кругами. Он волочит за собой подкосившуюся левую ногу – хромота, которая взялась невесть откуда, – и каждый его шаг сопровождает тяжелое прерывистое дыхание. Присцилла бормочет, она встревожена, что с сыном что-то совсем не так. Как будто здорового парня, которого она оставила бурчащим в ванной, унесли черти, а вместо него подсунули отжившего свой век пьяницу – разрушенное, разбитое параличом существо, бесцельно шатающееся по комнате.
В дверях возникает Хелен и говорит, что пастор обещал прийти, как только сможет. Она оправляет передник и бросает нервный взгляд на Томаса, волочащего левую ногу за собой, будто та гниет.
– Ха! – кричит Томас, кружась на месте и тыча пальцем в служанку. – Ха! Сестры и ласки перепачканных ушек! Как-то раз я видел ее дойки, – заявляет он со странной, похотливой ухмылкой. – Они были прекрасны, правда, левая больше правой. Она кормит меня булавками! – внезапно он издает вопль и падает на пол, как если бы кто-то положил руки ему на плечи и толкнул.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
В английской истории башмаки на деревянной подошве с железным ободом, надевавшиеся поверх обычной обуви для ходьбы по грязи.
2
Свободные землевладельцы.
3
Leech – пиявка (англ.), moon – луна (англ.).
4
«Круглоголовые» (раундхеды, англ. roundheads) – обозначение сторонников парламента во время Английской революции. Врагами круглоголовых были «кавалеры». Название пришло от короткой стрижки. Отличительной чертой круглоголовых были также красные мундиры. Оливер Кромвель рекрутировал круглоголовых из йоменов графств Восточной Англии.
5
Порто, портвейн – португальское крепленое вино.