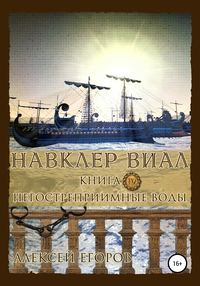Полная версия
Счастье в запретном
И пусть эта смелость заемная, Эстиний оценил метаморфозу.
– Ваш долг – отказаться от навязанной лжи. Что это за ложь, что за темное искусство оплело ваши души. Вы отдали урожай, лучшую его часть, сами же поставили себя на грань голода.
Народ зароптал. Они не гневались на говорящего такое. Сами не стеснялись плеваться, когда сдавали трудом добытое.
– Вы кормите меня, осыпаете излишествами, – продолжал Эстиний. – В отличие от иных людей, происходящих из моего круга, моему телу без надобности подобное. Съеденное не останется на моих костях. И я говорю не о смерти, что сорвет жалкие обноски с костей моих. Я не обрасту жиром, пиво не затмит мой разум, и тысячи рубах не согреют меня!
Я могу говорить откровенно, ведь смертен, как вы все. Страха я лишился давно, еще до того, как приблудился у вашего порога. Еще до того, как с моих перстов сорвали злато и серебро, как лишил смарагдов и рубинов. Мой страх не мушка в янтаре, что я носил на шейном подвесе. Этот страх не скован моей плотью. Я вас призываю избавиться от страха. Отворить душу правде, ступить на путь просвещения.
Буду ли я вашим проводником или иной, покажет время. Все зависит от вас, – он вскинул руку, указывая на дверь. – Теперь идите. Обдумайте ответ. Сейчас вы не готовы его дать. Все – прочь!
Эстиний закончил речь, подтолкнул женщину к выходу с возвышения. Оставил ей в дар клочок смелости, доставшийся в награду за откровенность.
Хлесткий приказ священника заставил всех покинуть храм. Оказавшись в лапах замерзающего вечера, люди начали остужаться. Возбуждение спадало, сменяясь странным чувством. Они не находили ему названия, не могли сковать рамками понимания. Люди не расходились, перемешивались, обсуждая услышанное и зароненное в их души.
Эстиний закрыл дверь. Демонстративно ударил железным засовом. Пусть знают – сейчас не время.
– О чем таком ты говорил? – спросил Назгал.
Одинокий голос среди пустого храма. Назгала не беспокоило, что его услышат.
Эстиний повернулся, увидел сидящего голым задом на алтаре гостя. В иное время он бы отхлестал по щекам наглеца, а сейчас? Эстиний задумал о том, что видит и чего не видит. Ведь невозможно обратить взгляд в себя.
– Я подготавливал их, – вместо этого ответил он на вопрос.
– К чему?
– Не знаю, – пожал плечами священник. – А ты как думаешь?
– Ты их принес в жертву. Не сегодня, так завтра. Не знаю. Когда их начнут резать.
Для юноши он очень сообразительный, удивился Эстиний. Лицо старика на теле парня. То не мудрость отпечаталась на обветренной коже, а голод, холод, безволие. Полгода хорошего питания не избавили тело от жутких отметин.
– Возможно, – согласился Эстиний. – Зато я принес им подарок. Спасение.
– Уж скажи – проклятие.
– Так ты же проклят. При этом свободен. Разве нет?
Назгал свел руки на груди, почесывал подбородок. Речь священника его удивила, поразила. А тут еще такие слова. В них что-то есть. Ничего подобного Назгал не слыхал. Даже ведьмы подобным не кормили его.
– Где то место, где подобное варево готовят? – спросил он.
Не сложный ребус. Эстиний легко расшифровал вопрос. Подивился лишь тому, что паренек без всякого опыта владеет ораторским мастерством. Во истину единицы из них наделены дарами.
Эстиний только не мог разгадать, кто Тот, что посылает эти дары. Во благо или во вред, не важно.
Не отвечая на вопрос гостя, Эстиний ходил по залу и гасил жаровни. Храм погружался во мрак, что не мешало Назгалу видеть. И видел он задумчивость на лице священника, движение его губ, с которых не срываются ответы. Без света Эстиний ориентировался легко, чувствуя и видя камни, в которых прожил десяток лет.
– А готов ли ты отведать моего варева? – спросил он.
Назгал закатил глаза. Губы его превратились в тонкую линию, скрыв кровавые трещины. Почему умники так любят задавать вопросы, но не давать ответы. Слишком много они нажрались этого варева мудрости, что уже не могут найти себе покоя.
– Готов, но не буду! – Назгал спрыгнул с алтаря.
Дурацкая ткань прилипла к ягодицам, потянулась следом. Назгал отмахнулся от нее и зашлепал к священнику. Тряпка безвольно опустилась на пол. Эстиний уцепился за нее взглядом, грудь его поднялась и опустилась.
– Чего мне делать с твоей мудростью? Только согнуться и ползти вперед. Нет! Лучше уж ты отведай моего варева. Если готов.
Эстиний крутанул ладонью. Мол: давай, удиви меня, парнишка.
Просвещать его, читать лекцию о свободе – не только внутренней, Назгал даже не думал. Он взял священника за широкий рукав, потянул за собой. Босые ноги двоих шлепали по ледяным плитам пола. Только один из них ощущал уколы боли, ударяющие выше. От этой боли страдали почки, но Эстиний забыл о том, что на вопли тела нужно реагировать.
Отчасти он уже свободен.
Только свобода эта весьма печальная. Люди страшатся ее, убегают прочь. Порой с криками. Смириться с неизбежным способен не всякий.
У выхода из храма Эстиний остановился. Назгал не сразу это заметил, только когда шерстяная ткань обожгла его, выскользнув из пальцев.
– Чего такое? – повернулся парень.
– Обуться. Холодно. Грязь по колено.
– Боишься замазаться, сбрось тряпку. Ноги отмыть проще.
Совет очевидный, даже логичный. Только логикой оперировать способен редкий человек. Этим даром наделены единицы. Обычно светоч его затухает во всеобщей тьме невежества. Слепцы спешат выколоть единственный глаз у того, кто еще может едва-едва взирать на мир.
Эстиний так поступить не мог. Назгал закатил глаза, махнул рукой, отбрасывая возражения священника.
– Подтяни тряпки, да выше колен! А босиком пойдем, чтоб за тобой не пришли.
– Так следы останутся.
– Сам же говоришь, – возразил Назгал, – твое стадо затопчет следы.
Эстиний кивнул. Так и произойдет. Что бы ни задумал его просвещенный гость, никто не подумает на священника.
Уже стемнело. Влажный холод сковал мир, загнав крестьян в теплые дома. Отовсюду доносился запах дыма. С собой он уносил частички пищи, что достанутся не людям, но древним богам.
Назгал вдохнул морозный воздух. Ощутил, как легкие наполняются водянистой субстанцией, разлитой вокруг. Холод обжег ноздри, глотку, уколол в ребра. Тысячи иголок пронзили его изнутри.
Все же он человек, а не чудовище.
Вкусив пищи богов, поднятой ритуалами настолько древними, что люди о них забыли, Назгал ощутил родство с окружающим миром. Чистое и незамутненное восприятием. Тысячами покровов, что отделяют людской мир от истины.
В наготе был смысл, понял Назгал. Не только противоборство с традициями. Нечто глубинное, древнее в этом скрывается.
– На тебя даже холодно смотреть, – сказал Эстиний.
Назгал повернулся. Видел, как его спутник весь сжался, сунул ладони в рукава. Его цыплячьи ноги напоминали шкуру опаленной курицы. Поднятые волоски цепляли грязь.
– Пойдем, – Назгал покачал головой, – на ходу согреешься. А то шкура твоя померзнет, придется срезать ножом.
– Куда идти? Темень такая. Дай, хоть лампадку захвачу.
– Я все вижу.
Взяв священника под локоть, Назгал повел слепца вперед. На вопросы – куда, зачем, не отвечал. Все сам увидит, поймет. Назгал говорил куда наступать, предупреждал о препятствиях.
– Ты действительно видишь! – выдохнул Эстиний.
С благоговением, как показалось Назгалу. Этот старик, почти мертвец чего доброго начнет относиться к гостю, как к посланцу Хранителя. Или его врага. Не суть.
– Вижу. И что?
– Как что? Ночь – время не людское.
– Ой, да глупости все это. Духам плевать на нас. Как и твоему хозяину.
– Это точно, – донесся вздох Эстиния.
Сколько ему потребовалось времени, чтобы понять это. Назгал не сомневался, что многим нужно прожить целую жизнь. И не все достигнут понимания. Даже умирая, будут видеть свет, как их на крыльях песни возносят в эфирную бесконечность. Хотя на самом деле разум этих глупцов будет погружаться в еще большую тьму.
– Ты хотя бы видишь, – ответил Назгал.
И Эстиний его понял. Он давно видел то, чего не желали видеть иные. Ни начальники в столице, ни коллеги по цеху. Они просто не способны. Положив жизнь на служение одной идеи, они уже не могли отказаться от нее. Приросли, словно веточка, привитая к иному растению. Не оторвать без вреда.
– Они не такие, – заговорил Эстиний.
– Громче. Никто кроме совы нас не услышит, – Назгал указал на одинокое дерево.
Хотя это бесполезно. Эстиний возможно никогда не обретет ясности зрения. Возможно, ему это не потребуется.
– Они не такие.
– Кто?
– Не похоже, что ты заинтересован. Все же, я выскажусь.
– Уж порадуй меня, – посмеялся Назгал.
Под четверное хлюпанье босых ног Эстиний пытался объяснить гостю, что из себя представляют крестьяне. Они не поклоняются Хранителю, хотя именно о нем говорят в молитвах, в просьбах и – что поначалу поражало священника, в требованиях своих. Обычные, ничтожные крестьяне смели требовать у Хранителя.
Это просто не укладывалось в голове.
– И чего такого? – перебил Назгал. – Мы ему молимся, за такими как ты ухаживаем.
– Не ради этого все… ладно. Все они поклоняются не живущему над эмпиреями. А древним богам. Всем тем, что достались им в наследство. Ты представь, стоишь на рынке, даешь купцу монету, а взамен что? А ничего кроме слов! Вот так же несчастные эти люди. На их мольбы, слезы и требования – лишь пустые слова. Я проводник этих слов, мой рот отворяет путь им в пустоту.
– Ерунда какая, – Назгал нахмурился.
– Сам посуди.
Сложно общаться, когда не видишь лица собеседника. Когда приходится концентрировать внимание на шагах.
Эстиний пытался объяснить, что подобное отношение к Хранителю, ошибочно. Как и отношение к его слугам, к его земной собственности. Этим храмам, алтарям, книгам и чашам.
Обычный люд почитал сами эти предметы, объекты. Столичные мудрецы старались перевернуть ложь эту, выдав за истину. Мол, через объекты они почитают Его.
Жалкая попытка, как считал Эстиний. Мысль, он признался, принадлежала не ему, а предшествующим мыслителям.
– За правду они боролись. Добились лишь забвения. Труды их порой поднимаются над потрескавшейся почве. Пробиваются.
– Ой, да прекрати! – не выдержал Назгал.
От этих рассуждений голова болит.
Что ему с того, как воспринимают Хранителя. Как воспринимал он – Назгал. Собственно благодаря этому случилась великая метаморфоза. Мысль, что всякий в этой деревне способен понять истину, не дошла до Назгала. Он просто не думал о таком.
Выходит так, что Эстиний сам закрыл ворота перед своим носом. Опустил руки, смирился и просто наблюдал.
Все это уже не имеет значения, потому что Назгал достиг своих целей.
Он привел священника к дому, из которого похитил Дшину. Назгал подумал, что возможно стоило взять девицу с собой. Но она и так настрадалась. За день, пронзенный ночью, на девушку свалилось слишком много перемен. Пусть отдыхает, на израненной душе крепнет свежая корочка.
Проживи Дшина обычную жизнь, обычной крестьянки, подобных мозолей на ее душе образовались бы тысячи тысяч. Она лишится способности воспринимать истину, разум ее закроет тщета и унылость.
Вовремя удалось спасти девицу. А теперь пришел черед других.
– Где мы? – спросил Эстиний.
Тьма не выколола ему глаза окончательно. Он увидел темную полосу, рожденную плотью ограды. Увидел за ней черный бугор, подчеркнутый оранжево-красными полосами. Сквозь щели пробивался свет затухающего в печи огня. Настолько нежные лепестки света, что ужаленный тьмой глаз улавливал их.
– Это дом, – сам ответил Эстиний. – Но чей дом? Что ты задумал?
– Идем, – Назгал толкнул калитку.
На этот раз хозяин закрывал калитку, замотал веревку между зубцами, вбил засов чуть ниже груди. С засовом пришлось повозиться. Росточка не хватало, чтобы дотянуться до щеколды. В темноте лишь его глаза могли решить эту задачу.
Отворив калитку, которая не посмела скрипнуть в присутствии голого человека, Назгал втолкнул Эстиния во двор. Земля под ногами стала прочнее, босые стопы ощутили уколы каменной посыпки. Но это лучше, чем топать в грязи, вырывая проглоченные ноги из холодной жирной глины.
Совсем не похоже на мать, как называют эту поверхность крестьяне. Тот же отголосок древних верований.
– Не спи! – толкнул его в спину Назгал.
Удивительно, но ночь прекратила свое угнетающее действие на глаза священника. Он не обрел чудесную способность видеть в темноте, но уже мог ориентироваться. Не понимал, как это происходит. А ведь все просто, истина никогда не прячется под слоем ложных утверждений. Ей это без надобности, человек сам справится.
Дверь видно – деревянная основа, немного отличается от внешних стен. Чуть темнее, ведь стены из мазанки. Трещины поглощают тьму, подчеркивая структуру, изнутри выливается робкий свет, создавая форму.
Седая шапка крыши, впитывается рассеянный свет звезд. Его недостаточно, чтобы слабый человек ориентировался в закатном мире. Сквозь облака и расстилающийся туман этот свет рассеивался по всей познаваемой вселенной.
Запахи, шорохи, прикосновение руки к шершавой древесине. Все это служило восприятию, ослепленному ночной тьмой.
– Вход здесь, – удивился Эстиний, поглаживая дверь.
– Ну, да.
Назгал отпер дверь точно таким же образом, как в прошлый раз. Хозяин установил больше засовов, подпер дверь бревном. Он не понял, как чужак проник внутрь.
Убрав бревно, Назгал сообразил, что это часть скамьи, спертая из храма. Ни ее естественная природа, ни ее магическое нутро не остановили чужака от проникновения.
– Заходи, – Назгал отошел в сторону, рукой сделал приглашающий жест.
Эстиний не увидел этого движения, но ощутил, что оно произошло. Услышал звук, ощутил движение воздуха – он не копался в себе, не пытался выискать ответ. Перешагнув порог, священник струхнул. Его провожатый в мир запретного, в царство ночи и проклятий, не боялся говорить в полный голос.
А если хозяин их услышит?
Назгал только пожал плечами, разгадав в шепоте спутника этот вопрос. И опять Эстиний ощутил жест. От этих перемен становилось не по себе. Такие изменения больше подходят юным, чей разум открыт к новшествам. Для окрепшего, закостеневшего и вросшего в землю ума – тяжко.
Кролики все так же спокойно встретили чужака. Смерть товарища, случившаяся прошлой ночью, не удивила их. Всякую седмицу кроличье семейство теряет братца или сестрицу. Они привыкли, смирились, вросли в замкнутый круг существования.
И пусть со двора доносился запах свежей крови, мокрой шерсти. Пусть хозяин проходил в дом, из которого доносился запах жаренного мяса, топленого жира, что соскребли со шкуры. Зато в клетке всегда трава и вода, а рядом еще десяток родичей.
Завтра их расслабленному существованию должен прийти конец. Совет деревни приговорил их к смерти.
– Открывай клети.
Эстиний не видел тюрьмы, где содержались приговоренные. Зато услышал, как Назгал распутывает узлы на дверцах. Едва уловимый скрип, дверца откидывается в сторону. Обретенная свобода не прельщает кролика, его приходилось подталкивать к выходу, направлять и указывать.
На ощупь Эстиний нашел запертую клетку, чудом справился с завязками. Веревка из конопляного волокна обхватывала два деревянных штырька – один на дверце, а другой на стене клети. Простой и дешевый способ закрыть клетку. Дневной свет облегчал работу пальцев.
Эстиний спас одного узника, затем другого. На его счету было трое обреченных, когда Назгал освободил десяток. Глупые твари скопились на полу, как меховые шарики. Приходилось ногой их подталкивать к выходу. А затем уже природное любопытство, еще не изжитое в мясных их тушках, заставляло животных бежать вперед.
На запах свежей зелени, под навес, под поленницу дров. А затем в леса, в поля, на встречу голодным лисам, цепким ястребиным когтям. Холоду ветров и всепроникающим лезвиям дождя.
Теплая шкура будет недолго их греть.
Эстиний и Назгал вышли из сеней, стояли на пороге. Куда делись животные, священник не видел. Знал, что все дороги мира открыты для них. Путь чуть длиннее того, что предсказали крестьяне на совете.
Но путь тот же.
Эстиний вздохнул.
– Вот.
– Чего? – Назгал скосил глаза на него.
Не сказать, что он хотел слышать то, что услышит. Болтовня священника раздражала. Слишком заумная, тяжелая. Нельзя ли говорить просто. По существу.
– Они свободны. Вольны бежать в поля. Они обречены. Ужасная смерть, – вздохнул Эстиний. – И так же они, – он кивнул головой в сторону дома, – Я обрек их на смерть. Не в тебе дело. Не ты, так другое. Я проклял их, когда пришел к ним. И знаешь что? Я не раскаиваюсь.
Назгал ничего не отвечал, закусил губу, чтобы не застонать. Как хорошо было с Бордом. Вот тот не жевал сопли, не копался в себе, как старуха в ветхой мошне. Вояка умен, хитер, понабрался всякого в этом глупом мире. Но Борд не жрал плода мудрости, которым потчуют священников в столице. Или где там учился этот головастый. Борд – мудрец, каких поискать.
Потому что он соблюдает меру.
– Идем, – Назгал взял священника под локоть. – Тебе пятки пора бы погреть. Есть в храме топливо, вода? Погреть в кадке, чтобы ты ожил.
Скорее уж это заставит беднягу дрожать от холода. Сейчас-то он не чувствует как замерз. Сон утягивает его сознание в пропасть, за которой бесконечное ничто. Отогревшись, священник будет страдать.
Сейчас это лучше, чем смерть.
Отпускать его в небытие Назгал не спешил. Пусть исполнит предназначение и идет куда пожелает. Оборвать нить жизни никогда не поздно.
Собственный быт Эстиний наладить не мог. Назгал в этом убедился, пока искал все необходимое. Дрова хранились рядом с боковой дверцей, но навес прогнил, топливо было мокрым. Назгал выбрал из поленицы чурбаки посуше, наколол на мелкие щепки и отнес в каморку.
Дшина все еще спала. Шум ее не беспокоил. Но вскоре она проснется, почувствовав обжигающие объятия тепла.
Еще сложнее найти подходящий сосуд. Назгал обошел весь храм, взгляд его то и дело падал на священную чашу. Не брал он ее только по причине малого объема. Все это время в каморке раздавались удары камня о камень. Эстиний пытался разжечь огонь. Все-таки он не собирается просто сидеть и ждать, пока о нем позаботятся.
Вместе им удалось разжечь огонь, вскипятить в худом чугунке воду. Назгал перелил кипяток в кадку, разбавил на треть и подтолкнул Эстинию. Тот сразу сунул ноги в воду и задрожал. Тепло обожгло грязные ноги, начало растворять коричневую броню, прилипшую к коже.
– Обретение воли, – заговорил Эстиний, – процесс сложный. Мы наделены свободой воли, что является первейшим нашим даром…
Назгал не слушал его, воспользовался щеткой, чтобы отмыть пятки священника. Делал он это не из почтения, а только для пользы дела. Оставив все, как есть, Назгал рисковал потерять полезного помощника.
От тепла проснулась Дшина, села на кровати и некоторое время смотрела на мужчин. Помочь она не предлагала, только смотрела и гоняла мысли в голове. В каморке наконец-то стало уютно. Девушка жалела только о том, что этот уют временный.
Она может перечислить десяток дней, когда подобное чувство обволакивало ее. Эти воспоминания ценны, всегда придавали ей сил. Помогали выстоять. Ведь у нее больше ничего не было. А за этими мгновениями тепла и комфорта обязательно следовала великая троица – голод, холод, унижение.
Так что и это мгновение пролетит, оставив после себя кислый привкус во рту.
Дшина поднялась и вышла. Эстиний проводил ее вопросом, но не получил ответа.
Все это время священник болтал, развивая мысль о свободе воли. Как человек, идущий по брошенным на землю нитям, волен выбирать из данных вариантов. Выбор, впрочем, ограничен болью и еще большей болью. Человек выбирает между плохим и худшим. Потому судьба его предрешена, а свобода воли – вещь умозрительная.
Назгал бы понял о чем говорит Эстиний, мог бы прислушаться к его словам. Вкусить меда мудрости. Меньшую его частицу – большего Эстиний не сумел вывезти из столицы.
Речь умника сбивалась дрожащим дыханием, подрублена выстуженным телом. Назгал слышал только несвязное бормотание, не понимал ничего. Да не хотел понимать. Разобрав, о чем говорит священник, Назгал только закатил бы глаза.
Сейчас он больше вспоминал о Борде. Старому воину не приходилось отмывать пятки. Не потому что он предпочитал ходить с грязными ногами. Просто воин мог о себе позаботиться.
Такие мысли слишком сложные для Назгала, потому он не стал на них концентрироваться. Из-за общения с Эстинием он начал слишком много думать, а это никогда не приносит пользы.
Если бы здесь оказался Борд, заместо этого болтуна, все станет проще. Старый товарищ принесет больше пользы.
А сейчас приходится слушать болтовню, наполненную странными призывами, обращениями, воззваниями. Словно Эстиний репетирует речь, готовится выступить перед такими же как он.
Назгал не понимал ничего из сказанного. Да стоит ли понимать.
– Все, – Назгал бросил тряпку на колени священника. – Теперь мне пора отмыться.
Он вытащил кадку из-под Эстиния, вышел, чтобы вылить воды. Хотел сделать это в самом храме и передумал. Не из-за богобоязни. Просто не в его привычках гадить возле укрытия. Назгал не видел ничего символичного в том, чтобы насрать посреди храма.
Где-то поблизости возилась Дшина. Видно только тень, слоняющуюся поблизости. До слуха Назгала доносилось ворчание.
– Поищи возле запретной части, – крикнул ей Назгал.
– Думаешь? – услышал он в ответ. – Здесь ничего нет! Вообще!
– Да наверняка там найдешь. Еду ведь?
Вернувшаяся Дшина увидела Назгала, блаженствующего в кадке с теплой водой. Эстиний все еще бормотал о чудесных творениях, оскорбленных чувствах и обязательной борьбы за существование. Слушать его девушка не стала.
Она раздобыла черствого хлеба, кувшин с забродившим соком. Не спрашивая дозволения девушка сбросил рубаху и сунула ноги в кадку с теплой водой.
– Ого! – восхитился Назгал. – Сильно.
– Есть будешь?
Она протянула коврижку хлеба, а затем заткнула священника вопросом о припасах. Кажется, только сейчас он заметил, что разговаривает сам с собой. Обещался с утра раздобыть чего-нибудь существеннее. Ему ведь не требовалось так много еды. Сначала довольствовался малым, приняв обет смирения. А с недавних пор тело отказывалось от излишеств.
– Все, хватит! – Назгал поднял руку. – Ты сейчас надумаешь много. Завтра я ухожу.
– Что? – Эстиний вылупил глаза. – Но ты не можешь!
– Чего это вдруг?
– Ты появился здесь не случайно. Куда ты пойдешь. Зачем?
– В себе сначала разберись, вместо того, чтобы поучать других, – перебил его Назгал. – Сидит тут, бухтит, цели всякие, миссии. А сам чего? Зачем сидишь тут, болтаешь? Ради чего?
Эстиний прикусил язык, уселся на койку и подтянул ноги. Пусть подумает, решил Назгал, уж это он умеет хорошо. От такого спутника надо избавляться, он дурно влияет на других.
Чтобы не разбудить задумавшегося, ни Дшина, ни Назгал больше не проронили ни слова.
Хлеб осел на дне живота, выдоив последние силы. Дшина опять улеглась, ничуть не смущаясь сидевшего рядом священника.
Одна из ночей, время которой длится и длится бесконечно. Назгал хотел действовать, но вместо этого оказался прикован к двум людям. Что только порождало разлад в голове. Все эти мысли отравляли, приводили к странным выводам.
Слова Эстиния – что яд.
Он знал такую свою особенность. Мечтал, чтобы кто-нибудь его использовал. Сочинил для себя судьбу полезного инструмента. Одноразового. Вот его мечта и желания.
Только Назгал не хотел ему помогать.
Ночь забрала разум двоих, на время погрузив их в состояние безмолвия. Дождавшись этого, Назгал прибрался в каморке и всю ночь поддерживал огонь. От стен поднимался пар. Давно здесь не топили, камень впитал окружающий холод и неспешно его отдавал.
Глядя на костлявого с нездоровым румянцем священника, Назгал удивлялся, что он пережил эту зиму.
Ведь работает – желания осуществляются. Эстиний мечтает умереть в служении, потому не в состоянии освободить землю от собственного присутствия.
– Как же ты поведешь себя, исполнив желаемое, – пробормотал Назгал и до крови прикусил язык.
Не хотел разбудить священника, который тут же начнет разглагольствовать о предназначении.
За Назгала справились другие.
Крик разнесся по деревне, подхваченный собачьим лаем и визгливым петушиным кличем. Вечность тишины, растянутая от скуки ночь в мгновение разорвана этим криком. Мир должен развалиться, стены храма обрушиться, обнажая спрятавшихся в каморке людей.
Этого не произошло, потому что крик родился в человеческом теле.
– Что такое?! – вскочил священник.
Лицо красное, помятое, глаза на выкате. Явно не выспался. Хотя спал достаточно, чтобы отдохнуть.