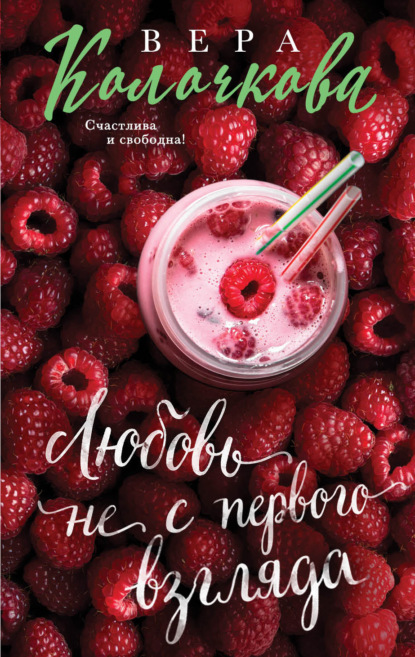Полная версия
Семья мадам Тюссо
Марк тихо засмеялся. Но смех его не был обидным, наоборот, располагал к дальнейшему разговору.
– Наверное, проклинал меня, пока счастливым гомо сапиенсом не стал? – спросила тоже насмешливо. Но Марк ответил вполне серьезно:
– Трудно ответить однозначно, тетя. Одно могу сказать с полной уверенностью – сейчас никакой обиды уже нет.
– Не ври… Не верю я тебе, так не бывает. Знаю, что виновата перед тобой, большой грех на мне, я и не пыталась его замаливать. Бог все равно меня не простит, и у тебя прощения просить не буду, не надейся. И тебе не поверю, что простил. Такое не прощают.
– Прощают, тетя. Прощение дает силу и мудрость, а гордыня отнимает последнее.
– Гордыня? Отнимает последнее? Это ты на мою немощь сейчас намекаешь?
– Ну, что вы… я вовсе так не сказал. Но каждый слышит то, что сам о себе подсознательно думает.
– И все равно – не буду я просить у тебя прощения. Не жди. Тем более оправдание у меня есть – я мать. Я пыталась спасти своего ребенка. А ты… А ты был не родной.
– Не надо, тетя. Хватит. Не надо ворошить прошлое. Сейчас уже все другое. Я другой, вы другая, и время другое, и жизнь.
– Зачем ты приехал, Марк? В смысле – зачем сюда пришел? Ведь мог и не заходить, а сразу в гостиницу.
– Я хотел вам помочь. Правда. Дядя Коля позвонил и рассказал, как вам плохо. А сейчас, когда такое горе случилось, тем более.
– Да, Марк, у меня горе, я мужа похоронила. Только слез почему-то нет. Странно, что их нет. Внутри сухо и горячо, как в пустыне, и ничего не чувствую. Устала, наверное. Ты иди, Марк. Иди, тебя жена ждет. Потом еще поговорим… Время для разговоров найдется, я думаю. И Коля мне давеча приснился, так же сказал.
– Да, я пойду… – Марк поднялся из кресла. – Постарайтесь уснуть, тетя. Спокойной ночи.
– Это уж как получится, Марк.
– До завтра.
* * *Елена Максимовна проводила взглядом Марка, и, как только он закрыл за собой дверь, устало закрыла глаза. Она знала, что не будет никакого сна. Даже само пожелание «спокойной ночи» прозвучало кощунственно. Какой сон, когда столько всего навалилось?! Пора забыть о спокойных ночах. Не зря в народе говорят: пришла беда – открывай ворота. Еще и Марк настоящей бедой свалился на голову! За что? Разве ей мало собственной болезни и смерти мужа?
И в голове один и тот же клубок сердитых мыслей, все вертится и вертится, не переставая. Как заведенный. Если бы не Марк, не уехала бы Жанна, осталась бы с ней как миленькая. Никуда бы не делась! Выбора бы у нее не было! То есть сделала бы правильный выбор, не стала бы служить попусту этому своему… Да разве для этого дочь растишь, чтобы ее как подстилку и служанку использовали?
А, да что уж теперь… Надо разорвать этот клубок, чего его мотать попусту. Ничего не изменишь, дело сделано. Жанна при службе, а Марк здесь. Расположился, как у себя дома. Душеспасительные беседы ведет. Разглагольствует на темы добра и зла, о прощении толкует. И ничего не поделаешь, приходится выслушивать. Ему теперь можно, конечно. Это она на щите, а он со щитом. Наказание для нее – этот Марк.
Знала бы, что все так получится, не взяла бы его тогда из детдома. И потом бы не соблазнилась на грех, все равно бы вытащила Юлика из той страшной истории. А теперь вот оно – возмездие. Явилось, не запылилось в самый бедовый момент.
Ох, как она не хотела его в семью брать! И ведь имела законное право – не хотеть. Потому что – чего ради? Он был для нее никто, и звать никак.
Марик был сыном брата Сережи, с которым они были погодками и росли вместе до школьного возраста. Жили хорошо, и семья была вполне обеспеченной, отец работал главным инженером крупного металлургического комбината. Помнится, соседи в доме уважительно называли ее и Сережу – дети Сосницкого.
В этой квартире и жили, кстати. В этой комнате, где она сейчас валяется, родительская спальня была. По тем временам такая квартира считалась роскошной жилплощадью, не каждая семья могла на подобное трехкомнатное полнометражное счастье рассчитывать. Мама не работала, занималась домом, детьми. Отец редко бывал дома, занятой человек, при должности. Обеспеченная семья, прекрасное счастливое детство, все это у них было. Пока гром среди ясного неба не грянул. То есть пока отец не воспылал страстью к молоденькой секретарше, да так сильно воспылал, что готов был с должностью проститься и переехать с объектом своей страсти в забытый северный городок, на такой же комбинат, но только простым инженером.
Да, плохое и грустное никогда не стирается из детской памяти. Невозможно забыть, как мама рыдала громко, с истерикой, не обращая внимания на детей, сидящих рядком на диване. И как ходила к партийному начальнику на комбинат, и ее, маленькую, за собой тащила. И в кабинете у партийного начальника тоже рыдала и пила воду из граненого стакана, проливая ее на подол крепдешинового платья. Лицо у начальника было красное, и он все время вытирал его клетчатым платком и повторял без конца одну и ту же фразу – ну что вы, зачем при ребенке?.. Мама оборачивалась на нее с досадой, успокаивалась на минуту, а потом опять. Начальник в конце концов не стерпел и голос повысил, пропел петушиным фальцетом: не надо при ребенке, прошу вас!
Хотя зря старался, чего уж там. Она к тому времени перестала быть ребенком, повзрослела в одночасье. Особенно после того, как услышала ночной разговор мамы с отцом. Сережа мирно спал в своей комнате, а ей понадобилось по ночной нужде выйти, и услышала, как они разговаривают на кухне.
– Ничего нельзя изменить, Тоня. Все уже решено. Я уж и с работы уволился. Ничего нельзя изменить, прости.
– Да не нужно мне твоего «прости», подавись ты им… Что я его, детям на хлеб вместо масла намажу? Как мы жить будем, ты подумал? На что, на какие средства? Я после института ни дня не работала, кто меня без стажа возьмет?
– Ничего, с работой я помогу. На комбинат тебя возьмут, у меня хорошие отношения с начальником отдела кадров.
– Кем возьмут? Уборщицей?
– Зачем же уборщицей? В плановый отдел возьмут.
– Да я же ничего не умею!
– Научишься, Тоня. Ничего страшного. У нас в стране все женщины работают, ни одна еще от голода не умерла.
– Господи, какая же ты сволочь, сволочь… Как же я тебя ненавижу.
– Я понимаю, Тоня, как тебе трудно принять новую жизнь. Но что делать, надо смириться. Я ни в чем перед тобой не виноват.
– Не виноват?! Ты – не виноват?!
– Да, я не виноват, что разлюбил тебя. Но все равно – прошу у тебя прощения. Скорее за доставленные неудобства, чем за то, что разлюбил. И я буду помогать, конечно. И алименты, само собой, и кроме алиментов чем смогу. И вообще, я хотел с тобой один важный момент обсудить, Тоня. Да, тебе будет трудно одной с двумя детьми, я понимаю, конечно.
– Да что мне от твоего понимания, легче, что ли?
– Нет, не легче. Но ты послушай… Только не принимай сразу в штыки, ладно?
– Ну, ну, говори.
– Я Сергея к себе взять хочу. А Леночка с тобой останется. По-моему, так будет справедливо.
– Справедливо? Да о чем ты? О какой справедливости вообще можно говорить, когда они брат и сестра? Думай, что говоришь!
– Я долго думал, Тоня. Да, так будет лучше. И в конце концов, не на веки же мы их разлучаем. В гости будут ездить друг к другу.
– В гости?! Родные брат и сестра – в гости? Думай, что говоришь!
– Тоня, не надо… Ты сейчас на эмоциях и не можешь принять решения, я понимаю. Но ты подумай, Тоня… Так будет лучше для всех нас. Мальчику нужно мужское воспитание, ему будет трудно расти без отца.
– А Леночке легко будет расти без отца?
– Девочке всегда проще с матерью, а мальчику…
– Да пошел ты! Знаешь куда?
– Знаю.
– Убирайся отсюда, сволочь! Подлец!
– Да, я уйду сейчас. А ты подумай…
Она стояла под дверью кухни – ни жива ни мертва. Потом, когда за рифленым стеклом кухонной двери замаячила тень отца, побежала в свою комнату на цыпочках, унося свое детское горе. Бросилась на кровать, закрылась с головой одеялом…
В ту ночь она, как и мать, стала женщиной, которую предали. От слез не могла дышать, обида тряслась в теле ознобной лихорадкой. К утру и впрямь заболела – была вялой и горячей, бормотала что-то несвязное, закатывала глаза. Мать вызвала «Скорую», и та увезла ее в детское отделение районной больницы. Лечили долго – сами не знали от чего. Признаков простуды не было, а температура долго еще держалась. Тогда еще не умели все списывать на психосоматику.
Вышла из больницы – отца уже не было. Уехал. И Сережу с собой увез. Потом звонил, правда, пытался что-то объяснить в трубку. В больнице, мол, карантин был, меня к тебе не пустили, дорогая доченька. Надеюсь, приедешь ко мне на каникулы. Сережа тебе привет передает. Голос у отца был сильно виноватый, но она от этого еще больше обиделась. Послушала его и, не сказав ни слова, положила трубку. Мать одобрительно кивнула и улыбнулась ей благодарно и хотела обнять, но она вырвалась, убежала к себе. Не нужны ей были объятия. И солидарность тоже не нужна была. Потому что свое горе всегда горше другого горя, и не надо примешивать одно к другому. Это радость может быть разделенной, а горе – не всегда. Зависит от характера человека. Да, у нее с детства был трудный характер.
Отца она так и не простила. И брата не простила. Завидовала ему. Ощущала эту зависть, как физическую боль. Отец выбрал не ее, а брата! Может, и не было бы такой сильной боли, если бы не услышала того разговора. Может, она бы и сама с матерью осталась, но он ее не выбрал! Пренебрег! Такой удар по женскому самолюбию!
Мать она тоже не простила. За что? И сама бы не могла объяснить толком, ведь мать – пострадавшая сторона. Скорее всего, ее обида проистекала из отчуждения, из чужих, то жалостливых, а то и злорадных взглядов, из асоциального дискомфорта, которым веяло со всех сторон после развода. Имя этому дискомфорту – «брошенка». Если мать брошенка, то и она тоже, автоматически, брошенка. Это брата отец предпочел не бросать, а ее – бросил.
Больше они с Сережей не виделись. И она, и мать сделали все, чтобы оборвать эту связь. Наверное, им так было легче. В те времена еще немодно было дружить после развода, все прежние связи разбивались горшок об горшок, и осколки выметались из всех углов дочиста. Их история была не первой, не последней. С годами вообще забылось, что живет где-то брат Сережа.
Она хорошо помнила день, когда вытащила из почтового ящика то проклятое письмо. Погода была прекрасная, и они долго гуляли с полуторагодовалой Жанной по бульвару. Жанна вовсю топала ножками, с визгом гоняла голубей, а в сумке лежало непрочитанное письмо. И вовсе не хотелось его читать, будто чувствовала – не надо.
Потом села на скамью, прочла. Снова сложила исписанный мелким почерком тетрадный листок, сунула обратно в конверт. Пришла домой, уложила Жанну спать. Юлик в своей комнате делал уроки – он тогда в пятом классе учился. Нежный задумчивый мальчик, не такой, как все. Подающий большие надежды. Двое детей, их же поднимать надо, им силы отдавать надо! Никто посторонний не может посягать на материнский ресурс! Да кто она такая, эта… Которая написала… Добрая самаритянка нашлась! Как снег на голову.
Писала некая Ольга Краснова, воспитательница из детского дома. Судя по интонации, молоденькая девица, с большими претензиями к несправедливо устроенному миру. В красках описывала чудесного мальчика по имени Марк, по отчеству Сергеевич, по фамилии Сосницкий. Искренне изумлялась, почему этот Марк проживает в детском доме, когда есть у него родная и вполне благополучная тетушка, то бишь она, Елена Максимовна Тюрина, урожденная Сосницкая. Мальчику одиноко, мальчик сирота. Родители погибли на Эльбрусе, оба увлекались альпинизмом, под снежную лавину попали. Бабушек и дедушек у Марка нет. И не проявит ли тетя Марка, то бишь она, Елена Максимовна Тюрина, большую человеческую сердечность и не навестит ли прекрасного мальчика Марка в детском доме? А может, большая человеческая сердечность откроет Марку дверь в новую семью?
Одни сплошные эмоции, а не письмо. И что на него ответишь? Да, надо бы съездить, конечно. Не от большого желания и уж совсем не от большой человеческой сердечности, но приличия ради. Люди есть люди, им же обязательно приличия надо соблюсти, умилительную слезу пролить, иначе камнями закидают. Еще и эта сумасшедшая воспитательница одним письмом не обойдется, наверняка куда-нибудь сигнализирует.
Ехать надо было далеко, в неизвестный поселок в Архангельской области, и она даже советовалась с Николаем, в какое время удобнее совершить поездку. А потом как-то закрутилась с делами, с детьми… Все недосуг было.
Воспитательница Ольга Краснова позвонила им на домашний телефон – и где только раздобыла номер, зараза! Голосок тонюсенький, но ужасно настырный:
– Ой, Елена Максимовна… Я ведь случайно выяснила, что у Марика есть родная тетя! А Марик такой странный… Утверждает, что никакой сестры у его отца не было. Как такое могло случиться, Елена Максимовна?
– Долго объяснять, Ольга. Мы с его отцом последние годы не общались.
– Но ведь он ваш родной брат? Сергей Сосницкий? Я видела его паспортные данные. Место рождения – ваш город.
– Да я и не отказываюсь, что вы. Да, это мой брат. Нас разлучили в детстве, родители развелись, он остался с отцом, а я с матерью.
– А-а… Теперь понятно… Так вы приедете, Елена Максимовна? Получается, что вы единственная родственница Марка, больше никого нет. Он такой чудесный мальчик, добрый, спокойный, умненький! Да вы просто влюбитесь в него, когда увидите! Жалко его, понимаете? У мальчика нежная, ранимая душа и мягкий характер, а детдом для таких детей не самое хорошее место. Впрочем, для любого ребенка детдом не самое хорошее место.
– Я приеду, Ольга. Мы с мужем приедем. Спасибо за участие.
– Когда?
– Не могу точно сказать. Но в самое ближайшее время. Извините, как получится, у меня ребенок маленький.
– Понимаю, понимаю. Извините. Я очень вас буду ждать. А можно я позже позвоню и уточню, когда вы приедете?
– Не надо звонить. Я же вам ответила – в самое ближайшее время.
– Да, спасибо. Извините за беспокойство, всего вам доброго, буду ждать.
Ничего не оставалось делать, собрались, поехали. Жанну взяли с собой, Юлика оставили на попечение соседки. Добрались кое-как, поселок оказался у черта на куличках. Странно все-таки, почему детские дома устраивают на выселках? Будто детей-сирот стесняются. Как тогда везде говорили – у нас этого явления нет и быть не может, у нас все дети счастливые, потому что государство о них заботится. Хороша забота, ничего не скажешь.
Марка им привели в кабинет заведующей. Елена Максимовна глянула и охнула – точная копия брата Сережи. Такой же хрупкий, темноволосый, глаза карие, смышленые. И так этими глазами смотрит, будто на шею сейчас бросится и заплачет от счастья. И Жанна вдруг в Колиных руках ворохнулась, потянула ручки к мальчишке. Будто признала в нем своего, сразу и безоговорочно. И Коля шагнул к мальчику, обнял его свободной рукой, наклонился, спросил тихо:
– Поедешь к нам жить, Марик? Смотри, как сестренка тебе радуется.
Ох, как ее тогда оцарапало Колино своеволие! Сам все решил, надо же! Впервые в их семейной жизни такое себе позволил. Не оставил ей выбора.
Нет, а что оставалось делать? Со стороны смотрится – вроде как муж решение принял. Не станешь ведь спорить в присутствии посторонних. Пришлось играть роль послушной покладистой женушки.
Бумаги им быстро оформили, в один день. Препятствий не было – не в чужие люди ребенка отдавали, а ближайшим родственникам. Да, это хорошо, конечно, когда нет формальных препятствий… Все быстро, все легко. А как на самом деле дела обстоят, никто не вникает. Может, и по-другому все бы сложилось, если бы Коля промолчал за ее спиной. Но как сложилось, так сложилось. От судьбы не уйдешь.
Вернулись уже вчетвером. Представили Юлику брата. Тот не особо и обрадовался, потому что пришлось комнату с Мариком делить. Никуда не денешься, что ж… Новую одежду покупать не стали, после Юлика много чего осталось. Не беда, что ношеная была одежонка, зато по размеру аккурат подошла, Марик был младше Юлика на три года и ростом поменьше, и худой был после детдомовского питания, как щепка. В первое время много ел и все норовил куски хлеба в карманы прятать, Елена Максимовна еле его от этой дурной привычки отучила. Один раз так по руке шлепнула, что он с перепугу со стула свалился и об ножку стола ударился, бровь рассек, все лицо затекло кровью. Ох, испугалась она тогда не на шутку! Если в больницу везти, там ведь скажут – бьют сироту, сволочи. Хорошо, что без больницы все обошлось. Но шрам все же остался, рассекал черную Марикову бровь белой кривой змейкой.
Привыкала Елен Максимовна к чужому ребенку долго, раздражалась все время. И Коле от нее тоже перепало за проявленное своеволие. Но что Коля… с него как с гуся вода, улыбнется, переморгается и дальше живет. Вот с Мариком было хуже, это да. Чем больше мальчишка старался ей угодить, тем больше она раздражалась. А потом ничего, привыкла все же. Смирилась. Да и к Марику, в общем, претензий не было – в школе учился хорошо, учителя его хвалили. Перепадала и ей от учительской похвалы порядочная толика – не всякий, мол, на такое решится, чтобы чужого ребенка в семье пригреть и вырастить из него пристойного человека. А вы, Елена Максимовна, стало быть, решились, и спасибо вам за вашу сердечность… Приятно было, что ж…
И Марику надо отдать должное – он был очень благодарным ребенком. Принимал всякое ее настроение со смирением, даже когда под горячую руку попадал. А попадал часто, что ж… Забот в большой семье много, нервов на эти заботы не напасешься. Может, и плакал втихомолку или Коле жаловался, она не видела и не слышала. И не извинялась никогда – еще чего. Пусть знает свое место в семье и понимает, что она для него сделала.
А еще Марик оказался прекрасной нянькой для Жанны, носился с ней, как дурень с писаной торбой. Можно сказать, она рядом с ним выросла. Потом уже в привычку вошло – не беспокоиться о том, кто заберет Жанну из садика, кто с ней погуляет и ужином накормит. Марик все сделает. И Жанна его полюбила и плакала потом…
А с Юликом так и не сложилось. Юлик относился к Марику холодно, близко к себе не подпускал, разговаривал с глухим недовольством в голосе. Хотя Марик и не лез к нему, а больше с Колей общался. Они вообще с Колей были похожи – всегда одно и то же выражение смирения на лице. Будто не она, а Коля был ему прямым родственником. Неудивительно, что и потом продолжилось их общение, просто она об этом не задумывалась. Постаралась забыть ту историю. Зачем самой себе душу травить, если уж дело сделано?
Конечно, дело было дурное, тут ни убавить, ни прибавить. И главное, все повернулось так нелепо, так странно. И надо же было той старушенции из пятьдесят третьей квартиры именно к Юлику за помощью обратиться! Он же вежливый, он же воспитанный, он никогда старому человеку в помощи не отказывал! Вот и подхватил Юлик старухины кошелки, поволок их на пятый этаж… Разве он мог предположить, что она на пороге собственной квартиры споткнется?
Конечно, он испугался. Испуг – не самый хороший советчик в таких ситуациях. Надо было «Скорую» вызвать или соседям позвонить, а он испугался и убежал. И потом все происходило, как в плохом кино. У той старушки сын – бритое быдло в малиновом пиджаке, с толстой золотой цепью на шее. Такие в те времена что хотели, то и делали. Если решил малиновый пиджак, что засудит маминого обидчика, никто ему слова поперек не скажет. И что было делать? Юлику судьбу ломать? Мальчик на втором курсе института учился, летнюю сессию сдавал.
Теперь и не вспомнить, как это ей в голову пришло – вместо Юлика подставить Марика. Материнский ум изворотлив, когда любимому ребенку грозит опасность, хоть что может придумать. И претворить придуманное в жизнь. А все рассуждения о морали и мерзости собственного поступка – потом, потом… Тем более старушка умерла и не успела пояснить, кто из «мальчиков» Елены Максимовны ей сумки на пятый этаж поднял, сын Юлик или племянник Марик. В деле фигурировала только одна примета – мальчик был в красной рубашке.
Марик в то лето закончил школу, собирался в институт поступать. В какой – она теперь и не вспомнит… А может, и вспоминать нечего, только память зря напрягать, потому что ей тогда это неинтересно было. Какой Марик и какой институт, если Юлик в такой опасности? Решение созрело в одну минуту, позвала Марика на кухню для разговора… Он пришел, глянул с привычной готовностью в глазах – что надо сделать, тетя, я все сделаю! Она указала ему на стул:
– Садись. Поговорить надо. Ты ведь знаешь, какая у нас беда случилась. Юлика назавтра к следователю вызывают.
– Знаю.
– Вот и хорошо, что знаешь. Ты должен ему помочь, Марик. Ты должен, понимаешь? Хотя бы из благодарности за то, что я для тебя сделала! А я много для тебя сделала, я тебя от детдомовской жизни спасла! Что бы с тобой стало, если бы я тебя в семью не забрала, ты хоть представляешь себе?
– Да, тетя, я понимаю… Я вам очень благодарен, вы же знаете. Но что нужно делать, теть Лен? Вы скажите, я все сделаю.
– Ты должен вместо Юлика пойти к следователю. Ты должен сказать, что это ты поднимал старухины сумки на пятый этаж. Это ты был в красной рубашке. Можешь даже надеть ее, когда пойдешь к следователю. Да, точно, ты ее наденешь и пойдешь! Ты должен, понимаешь ты это или нет?!
– Я пойду, тетя, пойду. Да, я должен, я понимаю. Вы только не сердитесь и не плачьте, пожалуйста. Я пойду.
Она как-то враз успокоилась и в ту же секунду поняла – вопрос решен. Спокойствие было шершавым на ощупь, резало и пилило грешную душу, но все же это было спокойствие. Лучше, чем непереносимая тревога за сына.
– Я думаю, реальный срок не дадут, тебе едва восемнадцать исполнилось… Скорее всего, условный. Зато Юлика выручишь, его могут из института выгнать. Ты должен это сделать, Марк. Ты мне многим обязан.
Она еще что-то говорила о долге и платеже, теперь и не вспомнить. Марик сидел, кивал головой, соглашался. Он верил ей, что реального срока не дадут. Он никогда с ней не спорил.
Когда его уводили из зала суда в наручниках, она ощутила в себе запоздалый ужас – почти физически. Ноги окаменели, даже со скамьи встать не могла. Коля плакал навзрыд, а она опустила глаза в землю, сосредоточившись на физической боли-ужасе. Несколько дней ходила с этой болью как неприкаянная, а потом отпустило. И даже у Юлика не спросила: правда это или нет про деньги, которые исчезли из квартиры старухи. Сын старухи в суде утверждал, что его маму убили из-за денег. Да теперь уж и без разницы было.
Конечно, ее мучили потом ночные кошмары. Марик снился, смотрел на нее то с укоризной, то с привычным смирением. Однажды приснилось, что он стоит с протянутой рукой, хлеба просит… Голова бритая, улыбка жалкая. Жуть… Просыпалась и гнала подобные сны от себя, шла в ванную, плескала в лицо ледяной водой. И снова успокаивалась внутренним уверенным монологом: неужели было бы лучше, если бы Юлика уводили из зала суда в наручниках? Да какая мать себе такое позволит? И не она виновата в том, что у Марка нет матери… Это сама его мать виновата, не надо было в альпинистки записываться да по горам прыгать, надо было дома сидеть, сына растить!
На том и успокоилась. Или почти успокоилась. И забыла эту историю. Тоже – почти… Домочадцам запретила произносить имя Марка всуе. Он тоже писем не писал, никак о себе не напоминал все эти годы. Но Коля, значит, и здесь ее не послушался.
А Марк выглядит хорошо, как ни странно. Такой уверенный в себе мужчина, глаза спокойные, мудрые. А как научился говорить! Ни дать ни взять проповедник! Интересно, кем он работает? И чем вообще занимается? Видно, что не бедный. Может, бандит все-таки? Аферист? Они умеют притвориться этакими…
Нет, в самом деле… Как ни крути, а годы в колонии зря не проходят. И жена тоже из таких… Очень все странно и подозрительно. Надо будет все-таки выспросить, чем он себе на жизнь зарабатывает.
* * *Марк тоже не мог уснуть. Лежал, смотрел в темное окно, пытаясь разобраться в своих ощущениях. И задавал себе один и тот же вопрос: может, зря он затеял это путешествие в прошлое? Приятным его не назовешь. Сентиментальным тоже. Хотя и горестным тоже не назовешь, просто путешествие, и все.
Да, накатило. Накрыло с головой. Какие же они цепкие – ощущения из детства и юности. Особенно те ощущения, которые в определенные времена своей жизни старательно выметаешь из памяти, призываешь для этого мыслимые и немыслимые ресурсы и думаешь, что да, тебе это удалось, и наивно полагаешь, что память твоя чиста, как у народившегося на белый свет младенца.
Наверное, нельзя появляться в тех местах, где тебя могут поймать якобы забытые ощущения. Обходить стороной их надо. Потому что забытое может явиться совсем в другой ипостаси, вылететь бабочкой из кокона и зажить своей жизнью. А ты будешь наблюдать за ней, но не из настоящего, а из прошлого. И будешь, глядя на себя, другого, со стороны делать выводы.