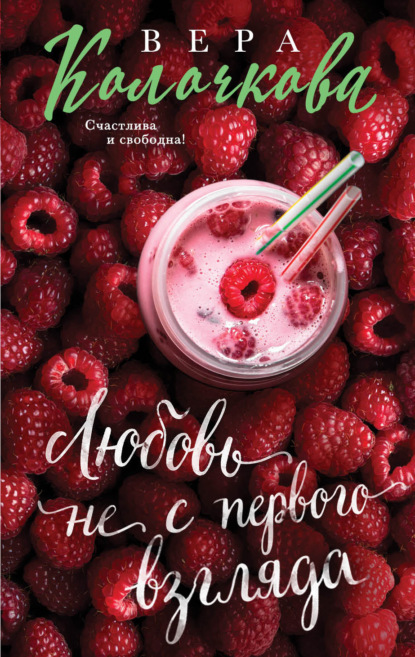Полная версия
Семья мадам Тюссо
Вон, отец уже довертелся, законченным алкоголиком стал. Понятно, ему труднее всех. Сломанная, забытая душенька. Неприкаянный спутник. Жалко его.
– Юлиан!
Он вздрогнул от резкого окрика из спальни.
– Ты заснул там, на кухне? Можно уже десять раз чай для матери сделать!
– Несу, мам… Я быстро…
Вот и в детстве он всегда именно так вздрагивал – всем телом. И суетился так же, как засуетился сейчас, наливая кипяток в чашку. Еще и обжегся, мимо плеснул.
И рассердился вдруг. Не на себя, на маму. Нет, чего так орать-то под руку! Надо быть скромнее в своих требованиях, учитывать свое новое положение. Разоралась… Он мог бы вообще не приходить, между прочим. Имел право. Жанка, вон, взяла и не бросилась по первому требованию.
Но в следующую секунду гнев прошел, и сам испугался своего порыва. Ох, кто бы поглядел сейчас на него со стороны, послушал бы его мысли.
Ведь стыдно, если со стороны! Стыдно не любить свою мать и рассуждать о ней как о чужом человеке! Она больна, она нуждается в его помощи. Да это бесчеловечно, в конце концов! Чтобы родной сын так думал о матери!
Как хорошо, что люди не умеют читать мысли. Если б умели – не избежать ему изгнания из социума. Камнями бы закидали. А настоящей правды никому не расскажешь, потому что никто ее не примет и не поймет. Кому интересна маленькая частная правда? В социуме один только закон действует – сыновний долг подлежит неукоснительному исполнению. И все. И без комментариев.
Да он и не отказывается от долга. Будет исполнять по мере сил. Но любить… Любить все же увольте. Любить согласно долгу нельзя. Нельзя, не-е-ет…
Он так и зашел в материнскую спальню, держа обеими руками чашку и мотая отрицательно головой.
– Ставь сюда, на тумбочку… Чего ты в пальцах ее держишь, блюдце не мог взять?
– Извини, мам.
– Да что извини. Ты с детства был такой – плохорукий. Как на тебя надеяться-то? А если отец окончательно сопьется? Что я буду делать, а?
– Все будет хорошо, мам. Ты полежишь, отдохнешь… Потом снова встанешь…
– Господи ты боже мой, Юлиан! Ты чем слушаешь, а? Или не слушаешь? Тебе ж русским языком объясняют: не встану я больше. Не встану. Ты можешь это понять? Почему я должна все время пробиваться через твою бестолковщину?
– Мам… Ну если я такой плохой и бестолковый… Чего ты от меня хочешь тогда? Что мне надо сделать, скажи? В чем заключается моя функция в данном обстоятельстве?
– Я не поняла… Это что? Ты мне еще и хамишь? Мне, абсолютно беззащитной в таком положении? Может, размахнешься и ударишь, чтобы я замолчала? Да, меня сейчас можно ударить. Со мной можно сделать все, что угодно. Давай, что же, начинай издеваться над матерью, этим все и кончится, я думаю…
Он почувствовал, как сильно заныло в правом подреберье, сглотнул горькую слюну. Больная печень дает о себе знать, с утра забыл таблетку выпить. Скорей бы уж отдать этот нелегкий сыновний долг и уйти отсюда. Пойти домой, лечь на диван, укрыться пледом… Сказать Ольге, что у него приступ. Она будет смотреть обеспокоенными глазами, потом пойдет на кухню – варить ему овсяный кисель. И пусть дома теща лежит за перегородкой – не так это страшно. Все лучше, чем здесь, в родном доме.
– Мам, я и не думал хамить. Наоборот, я хочу быть полезным. Извини, если обидел. Ты меня просто не поняла. Ну хочешь, я каждый день буду к тебе приезжать? Сразу после работы?
– Ну зачем же такие жертвы? Ты ведь заставлять себя будешь.
– Да не буду я себя заставлять, мам.
– А я знаю, что будешь. Больная мать никому не нужна и не интересна.
О господи, когда эта пытка кончится? Или это только начало? Пытка не кончится никогда?
– Я буду часто приезжать, как ты скажешь. Буду сидеть около тебя и читать книжки вслух. И рассказывать, как идут дела на работе.
– Ох, какой хороший сынок, – фыркнула мама, усмехнувшись. – А горшки тоже за мной выносить будешь?
– Горшки? Какие горшки?
– Обыкновенные!
– А… Нет, мам, это к Жанне, скорее. Она женщина, я мужчина. Ей как-то сподручнее. Да и тебе.
– Вот! В этом ты весь и есть, сынок! Пустышка и чистоплюй! Сидишь рядом со мной, а сам только и мечтаешь, как бы скорее удрать отсюда! Но вслух сказать боишься!
– Ты не права, мам. Что ты такое говоришь.
– Ой, все, хватит! Уйди с моих глаз. Видеть тебя не могу. Возьми пустую чашку, на кухню отнеси. Устала я…
На кухне он застал отца – тот откручивал торопливой дрожащей рукой пробку с водочной бутылки. Поднял голову, увидел сына и вздрогнул, и рука описала полукруг, сопровождающийся веером пахучих брызг на линолеуме.
– Осторожно, пап… И вообще, хватит на сегодня, остановись. Тебе плохо будет.
– Да я чуть-чуть, сынок… Будешь со мной?
– Ты же знаешь, я не пью.
– Ага, ага… Молодец. И не пей, и не надо. Это ж зараза такая… Как втянешься, не отвяжешься… Что мама? Не потеряла меня?
– Потеряла.
– А я продуктов купил. И вошел тихо, чтобы вашему разговору не мешать. Прокрался на цыпочках. Ну, будь здоров, сынок.
Отец лихо опрокинул в себя содержимое небольшого стаканчика. Юлиан смотрел с неприязнью, как дернулся заросший седой щетиной отцовский кадык. Чувство презрения к отцу было больше и объемнее, чем чувство неприязни к тому, что он увидел.
И опять заныло болью в боку, и затошнило слегка. Захотелось на свежий воздух или хотя бы окно открыть. А глаза закрыть, чтобы не видеть…
Стыдно презирать своего отца. Стыдно, стыдно. Но если презрение есть, куда от него денешься? Нелюбовь к маме – есть, презрение к отцу – есть. Как данность.
– Сынок, да ты не переживай за нас, мы справимся. Я ж вижу, как ты за нас переживаешь. Я всегда рядом с мамой, я все, что надо, сам сделаю. А ты живи, как жил. Иногда заходи только, чтобы мама не очень расстраивалась. Ты иди домой, сынок… Отдыхай…
– Мне правда можно не ночевать у вас, пап?
– Да конечно! Еще чего – ночевать! У тебя своя семья есть. Поезжай домой, поздно уже… Может, чаю попьешь на дорожку? Я колбаски купил, сыру. Мигом бутербродов наделаю.
– Нет, я не буду, спасибо, пап. Я лучше поеду.
– И поезжай… И с богом… Идем, я тебя провожу!
В прихожей он торопливо оделся, будто боялся, что отец передумает его отпускать. Или мама вдруг позовет.
Она и позвала, когда он шагнул за порог. Но он сделал вид, будто не услышал, торопливо захлопнул за собой дверь.
– Юлиан! – снова позвала из спальни мама.
– Иду, Леночка, иду… – засеменил по коридору отец.
Заглянул в дверной проем, доложил с готовностью:
– А он уехал, Леночка!
– Как это – уехал? Он разве не собирался у нас ночевать?
– Да он собирался, Леночка, но я его домой отправил. Поздно уже. И дождь.
– При чем тут дождь, не понимаю? Что ты несешь всякую ерунду? Скажи лучше – ты Жанне звонил?
– Да я ей все время звоню. Телефон отключен. Забыла, наверное, подзарядить.
– Да что ты мелешь! У нее с матерью беда, а она забыла подзарядить!
– Да поздно уже, Леночка. Я думаю, она завтра с утра приедет и сама все расскажет, что у нее случилось.
– Да ничего у нее не случилось! Дома сидит и сожителя своего пасет, а завтра приедет и с наглыми глазами начнет врать, почему не приехала! Сожитель для нее важнее больной матери! Ну что за дети, а? Кого я воспитала, кого вырастила? Я им всю себя отдала, всю жизнь, все здоровье… А они со мной, как с отработанным материалом… Готовы на свалку хоть завтра выбросить… Ну что за дети, а?
– Ну ладно, Леночка, успокойся… Не сердись, что ты. Погляди-ка лучше, что Валечка принесла! Я ей дверь открыл, пока ты с Юликом разговаривала. Погоди, сейчас принесу…
Он нырнул в коридор, слегка ударившись о дверной косяк, и вскоре вернулся:
– Вот, Леночка, смотри!
– Что это? – подняла голову от подушки Елена Максимовна, с ужасом всматриваясь в его руки. – Что это, Николай?!
– Это больничное судно, Леночка. Судно. Чтобы тебе… Чтобы нам… Легче было управляться.
– Убери немедленно эту гадость, я не могу на нее смотреть! Ты что, совсем ничего не понимаешь? Ты совсем в идиота превращаешься, да? Ты не понимаешь, как мне больно?
– Где? Где больно, Леночка?
– Как мне больно осознавать, что… Что…
Она разрыдалась, горько, с отчаянием. Николай потерянно суетился, не выпуская судна из рук. Потом наклонился, сунул его под кровать, робко присел на краешек постели.
– Неблагодарные… Сколько я для них сделала… Вытаскивала, как могла… Я для них жила! Я такой грех ради Юлика совершила, самой страшно вспомнить… Ну, ты же знаешь, о чем я говорю, Николай…
– Да, Леночка, знаю, знаю. Да, тебе страшно об этом вспоминать, я думаю.
– А Жанна! Сколько я с ней мучилась! Сколько сил вложила! Сколько эмоций, сколько энергии! Да разве хоть одна мать отдает столько сил своему ребенку?
– Да, Леночка, да…
Вскоре она успокоилась, вздохнула глубоко. Как всегда после приступа гнева. Николай по-прежнему сидел на краешке кровати, клевал носом ссутулившись. Елена Максимовна глянула на него, еще раз вздохнула. Потом небрежно ударила кистью руки по плечу, произнесла с отвращением:
– Ладно, давай эту мерзость, что ли… Все равно меня до туалета не дотащишь.
– Какую мерзость, Леночка? – вскинулся Николай, удивленно моргая осоловелыми мутно-голубыми глазами. – А, понял, понял… Ага, сейчас… Ты, главное, не нервничай, Леночка. Ты научишься, привыкнешь. Да вместе приспособимся как-нибудь. Я всегда рядом, Леночка. Я по первому зову…
* * *Жанна проснулась рано, тихо лежала под одеялом, рассматривала профиль Макса. Так себе профиль, между прочим. Не греческий. Лоб узкий, скошенный к волосам, выпирающие надбровные дуги, нос невразумительной формы, пухлые девчачьи губы. Хотя анфас всей этой некрасивости не видно, и даже наоборот, анфас лицо кажется привлекательным, и выпирающие надбровные дуги его не портят, а переносят акцент на глаза нежного медового цвета в обрамлении густых черных ресниц.
Вчера они помирились, конечно же. Вернее, она с ним помирилась. То есть никакого дополнительного выяснения отношений не было, как и не последовало с ее стороны объявления о выборе из двух предлагаемых обстоятельств, но все произошло само собой, на тормозах и тихо под горку. Вполне обыденно, скучно произошло… После того как Макс, так и не позавтракав, отправился досыпать, то бишь компенсировать предыдущую бессонную и грешную ночь, она деловито разобрала его дорожную сумку, изо всех сил стараясь не думать об этой проклятой бессонной и грешной ночи. «Не думать» не получалось, но она себя заставила. Впихнула в зев стиральной машины его рубашки, насыпала порошка больше, чем требовалось, – пусть все постороннее отстирается, все «рыжие-бесстыжие» запахи. А когда он проснулся – уже глубоко после обеда – и вышел на кухню, потирая опухшее от долгого сна лицо, спросила деловито: «Твой бежевый свитер стирать? Я его всегда вручную стираю…» Он спросонья промычал что-то, кивнул утвердительно. Потом глянул… И все понял про ее выбор. Потому что женщина, принявшая решение уйти навсегда, не будет разбирать дорожную сумку и спрашивать про бежевый свитер. Подошел, обнял за плечи, вздохнул так, будто покаялся. Хорошо, что без слов. Слушать слова и просьбы о прощении ей было бы тяжелее.
Потом они ужинали вдвоем. Он молча протянул ей коробочку с пражским сувениром – красивый серебряный перстень в россыпи мелких гранатов. Она так же молча приняла, примерила на один палец, на другой… Перстень оказался великоват. Наверное, рыжая-бесстыжая его на свои пухлые пальцы примеряла. Наверное, он ей такой же перстень купил.
Ну да ладно. Это уже послевкусие после горького основного, это уже не считается. И все, и хватит. Больше и словом о поездке не обмолвились. Зато ночью Макс был особенно нежен, словно пытался убедить ее в правильности выбора. И в то же время присутствовала в его нежности едва уловимая нотка победной снисходительности, небрежения даже… Но у какого мужчины она бы не присутствовала – после такого?
А может, ей показалось, и не было никакой нотки. Или не показалось? Женская гордыня, она ж по своим тайным законам живет, она все чувствует. Хотя… Какая разница – теперь-то, когда решение уже принято. Выбора у нее все равно нет. Лучше оставаться с его небрежением, чем с поруганной гордыней возвращаться в родительский дом. То есть к маме. Нет уж! Все, что угодно, только не это! Лучше перетерпеть армию рыжих-бесстыжих вкупе с нотками небрежения, но только не к маме!
Но сегодня идти все равно придется – дочерний долг никто не отменял. Пусть ненадолго, но придется. Надо вставать и идти… Время идет, съедает воскресное утро…
Она потянулась и тихо застонала от нежелания выбираться из теплой постели. Потом откинула одеяло, спустила ноги с кровати. И услышала за спиной, как Макс пробормотал сонно:
– Ты куда в такую рань, Жужелица?.. Давай еще поспим, воскресенье сегодня.
Он иногда называл ее Жужелицей. Выходило у него довольно мило и ласково, хотя она посмотрела в словаре, кто на самом деле есть эта Жужелица. Оказалось, что это – полезный в хозяйстве жучок. Маленький, незаметный, но полезный же! И на том спасибо, что еще скажешь.
– Мне к родителям надо съездить, Макс… Папа вчера звонил, просил приехать.
– Что, именно сегодня? А завтра нельзя?
– Нет… Я еще вчера должна была…
– Что-то случилось, да?
– Случилось. Мама заболела.
– Так она вроде давно болеет?
– Да нет… То есть она не заболела, а… Ладно, не буду тебя грузить, объяснять долго. Да и ни к чему тебе. Я быстро, только туда и обратно.
– К обеду, значит, вернешься?
– Я постараюсь, Макс.
– А вечером давай выберемся куда-нибудь в приличное место? Давно никуда не ходили.
– Давай… Если не к обеду, то уж к вечеру я точно приеду!
– Нет, лучше к обеду… Что я, все воскресенье буду один дома сидеть?
– Я ж говорю – постараюсь.
Чмокнув его в щеку, она легко подскочила и понеслась в ванную, чувствуя, как он глядит ей в спину. И за свою спину ей было-таки не стыдно! Годы мучений у балетного станка сделали свое дело, все нужные мышцы застыли в нужной форме там, где им и следовало застыть, и спина получилась – пальчики оближешь. Не спина, а скульптурная композиция. И талия, и ниже талии… Ни одной рыжей-бесстыжей в этом смысле ее не переплюнуть, никакой тренажерный зал не поможет. Да, вот так-то…
На улице по-прежнему моросил дождь, и серое низкое небо не обещало погодных изменений. Жанна села в автобусе у окна, просунула руки в рукава пальто, втянула голову в плечи, нахохлилась. И стала думать, как бы так извернуться, чтобы сократить визит в родительский дом. Что бы придумать такое, весьма убедительное, и чтобы звучало достоверно. Понятно – у мамы проблема и ее надо решать, но ведь одним набегом не решишь.
Да и что можно решить, в принципе? Инвалидную коляску покупать, чтобы она по дому передвигалась? Ну, сбросятся они с Юликом на инвалидную коляску… Только ведь маме не коляска, по большому счету, нужна. Маме нужны их душеньки, чтобы владеть ими всласть, чтобы пропускать через пальцы, как пропускают бусины на четках. Знаем, проходили. Да и сейчас проходим. Потому что у этой горькой науки не бывает прошедшего времени.
Зря она вчера телефон отключила. Надо было Юлику позвонить, узнать обстановку. Можно, конечно, и сейчас позвонить, да неудобно. Рано еще. Юлик обычно долго по воскресеньям спит и страшно сердится, когда его будят ранним звонком.
Что, что же придумать?.. Ладно, ближе к делу что-нибудь все равно придумается. К обеду надо вырваться – кровь из носу. Тем более Максу обещала.
Вышла из автобуса, по пути забежала в кулинарию, купила торт. Мама любит сладкое, никогда себе в такой вредной радости не отказывает. Может, и смягчит гнев по поводу ее вчерашнего своеволия. Хотя это вряд ли… Но все-таки. Вдруг прокатит, как Макс говорит.
Дверь открыл отец, радостно всплеснул руками:
– Наконец-то, Жанночка! Мама тебя весь вчерашний день ждала! Так нервничала, так обижалась.
– Я не могла, пап… Никак не могла.
– Что-то случилось, да?
– Долго рассказывать, пап. Можно я не буду?
– Да мне-то, конечно, мне можешь и не рассказывать. А вот маме…
Он трусовато пригнул голову, оглянулся назад и осторожно приложил палец к губам, прислушиваясь.
– Мама еще спит, да? – шепотом спросила Жанна, расценив его жест по-своему.
– Нет, не спит… Но я не знаю даже, как она тебя встретит, Жанночка. Ты уж будь готова ко всякому, прояви снисходительность, если что. Перетерпи как-то. Сама понимаешь, каково маме сейчас.
– Я понимаю, пап. Ничего, не волнуйся. Я перетерплю.
– Тогда иди к ней.
– Иду, пап.
Перед тем как войти в комнату матери, Жанна замерла на секунду, зажмурила глаза, вдохнула глубоко и выдохнула. И успела поймать за хвост промелькнувшую неприятную мысль – взять бы и выжать руками, как тряпку, свою перепуганную совесть и слить из нее к чертям собачьим тухлую воду, имя которой – дочерний долг…
Открыла дверь, вошла, встала у кровати, сцепив пальцы и нервно заломив ладони.
– Здравствуй, мам… Как ты себя чувствуешь? Извини, я вчера не смогла прийти. Мне папа звонил, но я никак не смогла.
Мама лежала на подушках, с преувеличенным вниманием глядела в экран телевизора, из которого лились веселые позывные воскресной развлекательной передачи. Ни один мускул на ее лице не дрогнул. Не вижу, не слышу, не воспринимаю. Никто в комнату не входил, ни о чем не спрашивал.
– Мам, я правда не могла.
Молчание. Знакомое с детства мамино молчание – хуже любого наказания. Молчание, вызывающее внутреннюю паническую атаку. Молчание-презрение. Молчание-убийство.
Жанна расцепила пальцы, посмотрела на свои ладони, приказала самой себе успокоиться. Она не ребенок, она взрослая женщина. Она живет отдельно от маминой воли. Это всего лишь дань дочернего долга – немного побыть в маминой воле. Совсем немного.
– Мам, а я торт купила. Очень свежий. Хочешь чаю с тортом? Я сейчас принесу.
Выходя из комнаты, она оглянулась. Мама по-прежнему внимательно слушала болтовню телевизионного ведущего, но в то же время лицо ее немного смягчилось, будто пробежала по нему тень утоленной обиды.
Отец на кухне задумчиво резал торт. Поднял на Жанну глаза, в которых застыло, как мутное голубое стекло, хмельное смирение перед жизнью. Улыбнулся, проговорил виновато:
– А я сахар забыл купить, Жанночка… Вчера ходил в магазин и забыл сахар купить.
– Так зачем сахар?.. Торт же есть.
– Что ты, что ты! – махнул он рукой вместе с испачканным кремом ножом. – Не любит мама чай без сахара! Ты забыла, что ли?
– Давай я схожу… – автоматически предложила Жанна.
– Нет, я сам! Я быстро! А ты пока чашки достань, парадные, из немецкого сервиза. Сегодня же воскресенье! Я мигом, Жанночка! Одна нога здесь, другая там!
– Да какая нога, пап… Ты уже с утра свои ноги с трудом передвигаешь, я же вижу. Когда успел-то?..
– Да я по чуть-чуть, Жанночка, по чуть-чуть. Я не пьяный совсем.
– Не надо, пап. Не ходи. Ну куда ты в таком виде?.. Слышишь меня?
Отец уже был в прихожей, торопливо всовывал ноги в растоптанные ботинки. Вскоре хлопнула входная дверь, и Жанна махнула безнадежно ладонью. Видимо, этот процесс не остановишь. Хотя и надо бы остановить, поберечь папино здоровье – ему еще за мамой ухаживать. Нет, она будет приходить, конечно… И Юлик тоже… Но основная нагрузка все равно ляжет на папу, это же очевидно!
Жанна включила чайник, открыла дверцу шкафа, в котором хранились парадные чашки. Поискала заварку – не нашла. Сунулась в один шкафчик, в другой. Надо же, как быстро успела отвыкнуть от родительского дома, уже и не помнит, где что лежит!
Заварка нашлась в дальнем верхнем шкафу. Хотела закрыть дверцу, но ударил волной свежий сивушный запах. Заглянула вглубь… Ага, так и есть. Водочная бутылка, почти пустая, на дне плещутся остатки папиной «радости». Даже пробку забыл прикрутить, оттого и запах прилетел. А рядом с бутылкой – едва початый пакет сахара.
Понятно, что ж… За сахаром побежал, значит.
Нет, надо прекращать это беспробудное пьянство, иначе оно плохо кончится. Сам не понимает, что ли? Хоть бы о маме подумал! Надо Юлика позвать и вместе с ним с отцом серьезно поговорить.
Так, накачивая себя сердитыми мыслями, она приготовила чай, насыпала сахар в изящную мельхиоровую сахарницу, на блюдце уложила большой кусок торта и, красиво расположив чайное хозяйство на подносе, отправилась в мамину комнату.
Мама так же молчаливо приняла из ее рук чашку с чаем, сделала первый глоток. Потом произнесла тихо и очень холодно:
– Ты можешь хоть сейчас идти обратно, к этому своему… Я тебя не держу. Потому что я все знаю. Тебе же этот… Дороже, чем мать. Иди, чего стоишь.
– Мам, ну не обижайся, пожалуйста. Я же все равно пришла. Не вчера, так сегодня.
– Ах, ты пришла! Соизволила-таки, надо же! Какое счастье для матери, дочь пришла!
– Мам, ну не надо…
– Что значит – не надо? Да как ты могла, Жанна, я не понимаю! Тебе сообщили, что с матерью плохо, а ты! Сидела рядом с этим своим… Неужели совесть не мучила?
– Но тебе не было так плохо, чтобы…
– Да откуда ты знаешь, каково мне было! Когда я с постели встать не смогла! Когда Валечка пришла и свой приговор вынесла! Знаешь, что она мне заявила, между прочим? Езжайте, мол, в швейцарскую клинику, там помогут! А если нет, зовите детей… Пусть они решают, что дальше со мной делать. В том смысле, что отныне это их обязанность и ответственность! Пусть они думают, что дальше делать с матерью, если она обречена валяться неподвижным бревном всю оставшуюся жизнь. А, да что говорить! Это я была всю жизнь вам обязана, а вы с Юлианом… Да разве вы думаете обо мне столько, сколько я о вас думала? Вы оба такие! Чудовищная, чудовищная неблагодарность!
Словно захлебнувшись гневом, она тяжело задышала, хватая ртом воздух, неловко потянула ко рту чашку, выплескивая чай себе на грудь. Сунув чашку в протянутые руки дочери, приподнялась на подушках, отерла пролившийся чай ладонью, приказав коротко:
– Салфетку подай! Не видишь, облилась! Хотя бы это можешь для матери сделать?
– Сейчас, мам…
Жанна суетливо кинулась вон из комнаты, но была остановлена ее властным окриком, как ножом в спину:
– Куда?! Здесь возьми! Открой дверцу шкафа, на второй полке! Да не эти, вон те давай… И чистую рубашку достань!
– Тебе помочь переодеться, мам?
– Не надо, я сама. Потом сама переоденусь. Обойдусь как-нибудь.
Жанна стояла около кровати, ощущая, как ее накрывает волна беспомощности. Казалось бы, довольно странное ощущение для такой ситуации – ведь это мама сейчас беспомощна, не она… И в то же время – ничего странного. Рядом с мамой всегда происходит именно так – будто исчезают в пространстве дух и душа вместе с телом, и ты становишься пустым неживым объектом. Нет тебя, как полноценного человека. Ни мыслей в голове нет, ни ощущений, ни эмоций. Вместо тебя – восковой манекен, застывший в неловкой позе.
– Наивная эта Валечка, честное слово… – отбросив салфетку в сторону и не глядя на дочь, продолжила мама, сменив прежнюю гневливую интонацию на горькую иронию. – Зовите, говорит, детей, решать надо… Вот позвали детей, и что? Сынок только к вечеру соизволил, а доченька вообще на следующий день явилась! Плевать ей на мать!
– Нет, мам.
– Что – нет? Не плевать, скажешь?
– Нет.
– Вот скажи мне, я когда-нибудь вела себя так же наплевательски по отношению к тебе? Я была плохой матерью, да? Я не была с тобой рядом, когда ты занималась балетом? Я не сидела часами в коридоре, не ждала, когда кончатся занятия, чтобы отвести тебя домой и накормить ужином? Сколько моей жизни ушло в тебя? Сколько лучших лет моей жизни? Да разве я могла бы… А ты…
– Прости меня, мам. Пожалуйста.
– Да что там – прости… Это все слова, пустые слова! Другая бы дочь бросила все и к матери переехала… И не долг бы ее погнал, а совесть и сердечная благодарность! Любовь, наконец!
– Я понимаю, мам. Но я не могу сейчас переехать, никак не могу. Так складываются обстоятельства, что я не могу.
Жанна говорила и тихо удивлялась тому, что способна произносить это «не могу». На самом деле она уже ни на что не была способна. Тем более сопротивляться и проговаривать это «не могу». Наверное, на автомате получалось. Как последнее слово умирающей души.
– Я не могу, но я буду приходить каждый день. Ты же не одна, ты же с папой.
– Что значит – с папой? – повернув голову на подушке, с иронией переспросила мама и приподняла левую бровь, что означало у нее крайнее изумление. – Будто ты не знаешь, какой у тебя папа, моя милая! Он же законченный алкоголик! Вечно у него руки трясутся! Нет, ты должна сюда переехать и жить здесь! Что мне папа? Да что он вообще может, твой папа?
– Он все может, мам. И мы с Юликом будем следить, чтобы он не пил. Поговорим, пристыдим… По крайней мере, он рядом с тобой и в любую минуту готов помочь. Он всегда рядом, и…