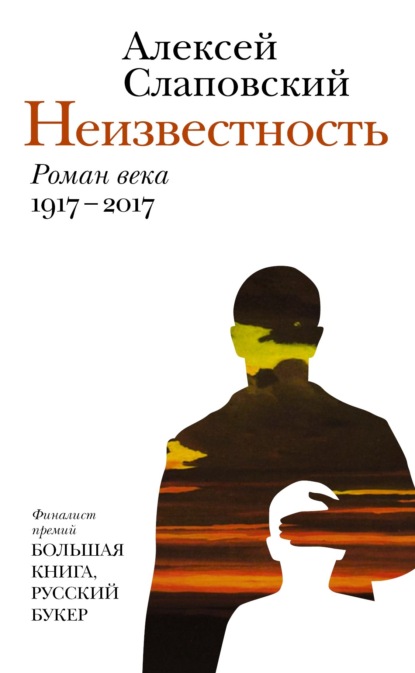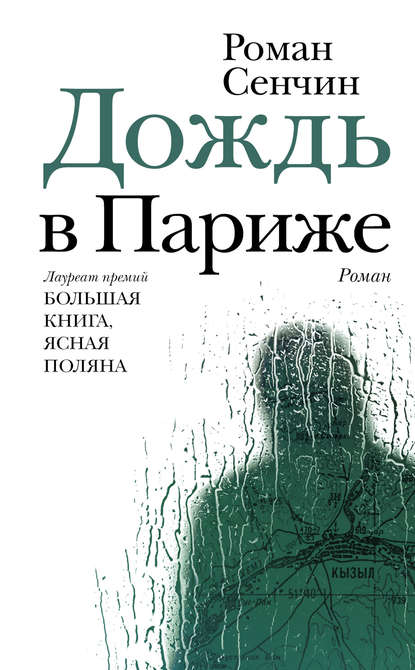Полная версия
Чагин

Евгений Водолазкин
Чагин
© Водолазкин Е.Г.
© ООО «Издательство АСТ»
* * *Часть первая
Дневник Чагина
Когда-то Иси́дор Чагин был знаменит. Его удивительная память вызывала восхищение. Иногда – сомнение: не являлись ли опыты с его участием результатом тщательно подготовленной манипуляции? Не верилось, что человек способен запомнить текст любой сложности и хранить его в голове как угодно долго. Потом выдающегося мнемониста забыли – что звучит почти скандально. Многие свидетели его славы уже в могиле, а те, что живы, поглощены противостоянием неизбежному.
Недавний всплеск интереса к покойному связан с исчезновением его Дневника. В полицейском протоколе событие четко определено как кража со взломом. В ходе следствия мне («Вы были последним, кто работал с Дневником») пришлось ответить на множество вопросов, но выяснить судьбу рукописи не удалось.
Да, я был последним, кто работал с Дневником. Скажу больше: был также первым и единственным. Когда я объявил, что собираюсь написать о моей работе, кто-то сказал, что это мой долг. Потом еще кто-то: банальности произносятся многократно. Я не люблю словадолг. Оно представляется мне в виде скорбного отсчитывания купюр. Это не случай Чагина, и двигало мной не чувство долга. Какое-то другое, не столь могучее, чувство.
Изучая эту жизнь, необычную и по-своему трагическую, я стал смотреть на нее изнутри. Кое-что из Дневника я успел выписать, но в основном – запомнил. Всё это легло в основу моих заметок. Бумага – большое подспорье для памяти, потому что всякий, кто запоминает, имеет и свойство забывать. За исключением, может быть, Чагина, который ничего не забывал.
* * *Исидор Чагин, архивист (1940–2018).
Табличку для могильного креста заказывал я. По-моему, достойный текст – информативно и лаконично. О покойном, понятное дело, можно было сказать и больше. Можно было и фотографию поместить. Некоторые так и делают, но в этом, я считаю, нет необходимости. Имя, фамилия, род занятий, годы жизни – вполне достаточно. Избыточность вредит.
Уход его прошел незамеченным, как то и подобает архивисту. Сам сотрудник архива, говорю это без тени иронии. Всякому роду занятий – своя жизнь и своя смерть. Я бы тоже хотел умереть незаметно – уронив голову на какое-нибудь архивное дело, под включенной лампой с круглым зеленым абажуром…
После отпевания в Князь-Владимирском соборе (оно прошло в узком кругу) гроб привезли на кладбище. Гражданская панихида, вопреки обыкновению, проходила не в Архиве – там делали ремонт. Вместо изысканных архивных интерьеров с Чагиным прощались в кладбищенском ритуальном зале. Бетонные, пораженные грибком стены, потрескавшиеся плитки пола. Простуженный голос сотрудницы похоронной службы, бледной усталой женщины с носовым платком в кулаке.
Зачитывая некролог, она запнулась. Бросила взгляд в свою бумагу, потом на Исидора и не очень уверенно сказала, что руки покойного пахнут просоленными морскими канатами. Многие заулыбались, поскольку никаких канатов в жизни Исидора не было. Он, вообще говоря, казался ходячей скрепкой.
Позднее сотрудница, читавшая некролог, подошла к директору Архива и попросила извинить ее за недоразумение с канатами. Этот фрагмент попал в ее выступление из файла о моряке. В правильном тексте сообщалось, что руки Исидора пахли пылью веков. Директор добродушно похлопал ее по плечу. В конце концов, моряков в Петербурге не меньше, чем архивистов. Да и какая разница, чем пахли руки покойника? Кто там будет принюхиваться…
Когда выходили из ритуального зала, начался дождь. Крупные капли били по зонтикам и по крышке гроба. Распорядительница отметила, что по усопшему плачет сама природа, но на это никто не отозвался. Всем было очевидно, что природа плакала по каким-то своим причинам. Из-за дождя гроб закапывали быстро, и мокрые лопаты могильщиков мелькали, как в ускоренной съемке. Через четверть часа все уже спешили к автобусу.
У ворот кладбища директор догнал меня и взял под руку.
– От Чагина нам достался солидный архив. Там много всего, но главное, говорят, Дневник. Учитывая особенности Исидора Пантелеевича, думаю, небезынтересный.
– Архив архивиста, – пробормотал я. – Архивесело.
– У вас, Мещерский, хорошее чувство юмора. Бесценное качество для архивного работника.
Сдержанно поклонившись, я было пропустил его вперед – догадывался, к чему он клонит. Но директор сжал мой локоть, и мы остановились прямо в воротах.
– Займетесь архивом Чагина?
Я не спешил с ответом, а директор меня не торопил. Он задумчиво рассматривал объявление на воротах. За нашими спинами толпились коллеги, но, несмотря на дождь, никто нас не обгонял. Что значит быть начальником…
– Расписание работы кладбища, – медленно прочел директор. – Я бы добавил: к сведению покойников.
Он обернулся ко мне:
– Ну что, займетесь?
– Трудно, Аскольд Романович, отказать в такой просьбе на кладбище, – ответил я.
Это был ответ, полный достоинства, поскольку согласие соединялось в нем с возможностью отказа. Пусть даже этой возможностью я и не воспользовался.
Директор вручил мне ключи от квартиры Чагина, чтобы предварительную работу с материалами я произвел на месте.
– Руки покойного пахнут пылью веков – в этом что-то есть, – директор засмеялся. – Проследите, чтобы на моих похоронах сказали именно так.
Я изобразил легкий ужас: разве директор может умереть?
* * *На самом деле руки Исидора пахли дегтярным мылом. Все знали, что он моет их после каждого рукопожатия. Кроме того, от него пахло чесноком. Этот запах исходил не только изо рта Чагина, но выделялся каждой порой его кожи. Мылом и чесноком пожилой сотрудник защищал себя от вредоносных микроорганизмов. В конце концов, в зрелом возрасте каждый имеет право на причуды.
Чагин ушел на пенсию года два назад – по собственному желанию. Если бы он хотел, мог бы преспокойно работать и дальше: его ценили. Но Исидор, очевидно, хотел другого. Может быть, отдыха. Или даже путешествий – умер он, как выяснилось, в Тотьме, маленьком северном городе.
В течение многих лет Чагин являлся на службу в одно и то же время и, как мне казалось, в одном и том же виде. Надо думать, одежду Чагин менял, но каждая смена повторяла предыдущую. В любое время года он ходил в темно-сером костюме и такой же рубашке. Серым был и его галстук, который не сразу опознавался, потому что сливался с рубахой. Осенью и весной Чагин носил болоньевый плащ цвета мокрого асфальта, а зимой – темно-серое пальто с цигейковым воротником. Когда вышел роман «Пятьдесят оттенков серого», я подумал, что так могла бы называться и книга об Исидоре.
Замечу, что Чагин радовал не только глаз, но и ухо: он говорил скрипучим бесцветным голосом, довершавшим его особенный облик. Однажды я (мальчишка, нахал) сказал Исидору, что для полноты образа ему не хватает черного зонта, и он молча кивнул. Я подумал было, что он обиделся, но через несколько дней Чагин пришел именно с таким зонтом – и больше с ним не расставался. В погожие дни он использовал его в качестве трости.
Особый чагинский стиль я никогда не считал стилизацией, но сейчас, спустя годы, понимаю, что оттенков серого могло быть и поменьше. Увеличивая их количество, Исидор не только демонстрировал качества художника (они у него были), но и создавал вокруг себя оболочку – если угодно, зонтик, – которая защищала его от внешних воздействий. Чагин ценил свое одиночество и делал всё, чтобы оно не нарушалось.
Между тем Исидор не всегда был таким. Просматривая книги по истории архивного дела, мы, его сотрудники, время от времени натыкались на немыслимые снимки. Молодой человек в белых широких штанах и светлой сетчатой тенниске. После каждого такого открытия под изумленный шепот книга переходила из рук в руки: неужели это Исидор? Да, это был именно он – весь в белом, без запаха чеснока. Фотографии (за исключением разве что очень хороших) не передают запахов, но одежда, прическа, а главное – взгляд Исидора – такой запах исключали.
В другой журнальной публикации – фото Чагина в длинном кашемировом пальто. На шее – светлый шарф, свернувшийся двумя небрежными кольцами. Сходство шарфа с удавом так очевидно, что переводит фотографию в разряд экзотических. В еще большей степени это делает широкополая шляпа. Киплинг. Гумилев. Чагин.
Но самое удивительное в снимке – это прилипшая к углу Исидорова рта папироса. Исидор и папироса – о, боги… Появление папиросы объяснял помещенный на той же странице журнала причудливый текст. Исидор вспоминал фокус, который показывал в юности.
Затягивался. Задерживал дым. Говорил за двоих:
– Солдат, куришь?
– Курю.
– Трубка есть?
– Есть.
– Плюнь.
Плевал.
– Дунь.
Дул.
– Выпусти дым.
Только после этого выпускал весь дым – он, наш Исидор.
Наконец, все мы знали об удивительном мнемоническом даре Чагина. Старые журналы описывали, как наш коллега запоминал колонки в сотни цифр и воспроизводил их без единой ошибки. Как, ознакомившись с любым текстом, готов был повторить его сейчас же, и через месяц, и через пять лет.
Несколько раз мы просили его продемонстрировать свои способности, но Исидор отказывался – кроме одного раза, лет семь назад, когда я только начинал работать в Архиве. Да, мы как раз отмечали мое поступление на работу. И к нам неожиданно присоединился Чагин. Стояла ранняя весна, и в открытую форточку вливался сырой питерский воздух. Он не был еще теплым, но уже ощущалось в нем что-то незимнее, пьянящее.
Возможно, этот воздух опьянил и Исидора – настолько, что он даже произнес тост. Слов его я не помню – не думаю, что они были очень яркими. Когда все выпили, Чагин вдруг предложил дать ему любой текст для запоминания.
На одном из столов лежал статистический отчет по Смоленской губернии за 1912 год. Мнемонист предложил присутствующим выбрать страницу и знакомился с ней в течение тридцати секунд. Потом передал книгу соседу по столу – и повторил всю смоленскую статистику. Последнее слово переносилось на следующую страницу, и в исполнении Исидора прозвучал лишь первый его слог.
В наступившей тишине было слышно, как от порывов ветра на столах трепетали бумаги. Трепетали и молодые коллеги Чагина, ничего подобного не видевшие. Слабо пахло дегтярным мылом, и для всех это был запах тайны. Вскоре Исидор попрощался и ушел. Больше подобные эксперименты не повторялись, да иначе и быть не могло, потому что тайна не должна становиться повседневностью.
Однажды я услышал, что свой удивительный дар Исидор в конце жизни потерял. И тогда мне вспомнилось, что уже тем весенним вечером перед лицом смоленской статистики он обнаружил некоторую неуверенность. В памяти это осталось только потому, что за моей спиной кто-то прошептал, что Акела промахнулся. Да, Чагин действительно допустил ошибку. Говорюя (ха-ха!), который не способен запомнить даже трехзначного номера автобуса.
* * *Через день после похорон я сидел в Исидоровой квартире на Пушкинской улице. Мансарда в бывшем доходном доме. Я в гостях у Исидора – возможно ли это? Оказалось, возможно. После его смерти.
В комнате Чагина стеллажи занимали три стены из четырех. Четвертая, внешняя – это, собственно, полстены: на уровне груди она переходила в скошенный потолок с врезанным в него окном. На стеллажах стояли книги и коробки, преимущественно из-под обуви фабрики «Скороход». Сама комната тоже напоминала коробку – такая же маленькая и невыразительная.
Прихожей не было: входная дверь одновременно служила дверью в комнату. Справа от входа была еще одна дверь. Казалась вырубленной среди стеллажей. Вела к крошечным туалету и ванной. Кухня тоже отсутствовала. Ее (по мере возможности) представляла двухконфорочная электроплитка на высокой табуретке с прильнувшим к ней обеденным столом. Который служил одновременно и письменным. Несколько тарелок разных мастей и чашка держались на нем маленькой пестрой группой. Еще одна большая чашка с отбитой ручкой стояла особняком: в ней помещались ложки, вилки и нож.
Железная кровать. Я приподнял матрас, под ним – панцирная сетка. Легкое разочарование: хотелось чего-то другого. Гвоздей, допустим – как и положено аскету. Подошел к окну: ограниченный вид на Пушкинскую улицу. Проржавевший водосточный желоб закрывал половину проезжей части, зато полностью был виден Пушкин. Первый в городе памятник Пушкину. Маленький, но первый: всё начинается с малого. Представив себя Исидором, навалился грудью на подоконник, коленями почувствовал горячий чугун батареи.
Да, именно так он здесь и стоял – Исидор, светило архивного дела. Приветствовал солнце русской поэзии. Смотрел, как по дну водосточного желоба, желтого от листьев, бежит вода. Нащупывал коленями рёбра батареи. Есть на коленях точки, на которые приятно нажимать. Которые приятно обжигать. Расположены на внешних сторонах коленных суставов, отзывчивы к жару и жесткости.
Отчего-то мне кажется, что эти точки целебны, что, воздействуя на них с разной силой, можно вылечить любой орган. Ну, почти любой, уж такие это точки. Нужно будет, думалось, посвятить им публикацию. Назвать их точками Мещерского, сколотить состояние и уйти из Архива навсегда.
Стыжусь нахлынувших мечтаний. Это было бы предательством по отношению к Исидору и его коробкам – даже если учесть, что точки Мещерского изменят жизнь многих. Ладно, пусть потерпят. Пусть, я считаю, прочувствуют, каково им было без этих точек.
Открыл первую попавшуюся коробку: фотографии. Исидор на фоне Клодтовых коней – чуть ссутулившись, в руке потертый портфель.
Представил себе Исидора укрощающим коня. Портфель аккуратно положен сбоку, узловатые пальцы сомкнулись на узде. Ноги широко расставлены, голова запрокинута. Мимо проезжают «Москвичи» да «Волги», на заднем фоне, у дворца Белосельских-Белозерских – бочка с квасом…
Нет, без портфеля – это не Исидор. Одной рукой сжимает узду, а в другой все-таки держит портфель. Пусть на его могиле поставят такой памятник. Ленинградский архивист, укрощающий природные стихии.
Снимки на незнакомых улицах. В белых рамках (накладывали стеклянные прямоугольники) всюду написано: «Иркутск».
Исидор со связкой шаров на демонстрации. Первомайской, должно быть: все одеты легко, хотя и в фуражках – по моде того времени. Маленький Исидор тоже в фуражке. В том, что это май, нет никаких сомнений: на деревьях клейкие листочки. Даже сквозь черно-белую фотографию проступает их яркая зелень. Воздух полон света. И свеж – это очевидно. Мать держит Исидора за руку. Ни на одной из его детских фотографий я не увидел отца.
Коробка «Документы». Справки из иркутской детской поликлиники. Похвальные грамоты за каждый класс. Наш Исидор, похоже, ничего не выбрасывал, всегда был архивистом. Школьные дневники: четверки и пятерки. Имеются учительские замечания.Болтал на уроке русского языка. Или: забыл дома пенал. Исидор болтал, и уж совсем невероятно: забыл. Впрочем, это не помешало ему получить аттестат зрелости, которым, похоже, и заканчиваются бумаги его школьных лет.
Открыл соседнюю коробку – на внутренней стороне крышки написано: «Дневник». Знаменитый Дневник, о котором все знали и которого никто не видел. Четыре общие тетради, исписанные мелким каллиграфическим почерком. Этот почерк знаком мне по архивным описаниям. Характерная странность: буквы слегка наклонены влево. Напоминают построенные вертикально в ряд костяшки домино в минуту их цепного падения. Но буквы Исидора не падают. В своем неустойчивом положении они навеки замерли на расчерченных в клетку листах.
Записи открываются 1 января 1957 года. Исидор ведет их, не пропуская ни дня. Очевидно, он взял себе за правило (Чагин – человек правила) писать ежедневно – пусть даже по две-три строки. Но короткие записи – это, скорее, исключение. Ему всегда есть что сказать: если нет событий, Исидор описывает свои мысли и ощущения. Особенно ощущения.
Гимнастическая скамейка в спортивном зале. Распластавшись на ней, так приятно скользить. У Исидора дома нет предметов с подобными свойствами. Доски пола? Но они нечисты, и кроме того – в сучках. Здесь же – без сучка, что называется, без задоринки. Апофеоз скольжения, окончательная победа над трением. Но. Если снять тенниску, волшебство кончается. Голая кожа не скользит, прилипает к полированному дереву, издавая визжащий немузыкальный звук.
Характерный для покойного старомодно-канцелярский стиль:как представляется, коль скоро, следует признать. Слабость к церковно-славянскому: притча во языцех, паче чаяния.
Первая запись: «Могут спросить: для чего, обладая феноменальной памятью, ты решил вести Дневник? Отвечу так: память лишь воспроизводит события, а Дневник их осмысливает. Если подходить к делу ответственно, то писать надлежит в утренние часы, пока мозг свеж».
Еще раз скольжу по строкам глазами. 1 января… Сколько себя помню, утром этого дня никогда мозг мой не был свеж. А парню, между прочим, семнадцать. Успел, судя по тексту, выпить чая – и пишет, подходя ответственно.
Я бы тоже выпил чая. На Исидоровом столе – электрочайник. В ящиках стола нашел пачку индийского чая и ситечко на цепочке. Берешь его за кольцо, а оно интересно качается, как какой-нибудь тебе маятник Фуко. Засыпал чай в ситечко, погрузил его в чашку и залил кипятком. Четыре тетради; сколько это, интересно, в издании – том, два? Впрочем, до публикации их надо еще изучить.
Чай продолжал насыщаться цветом. Пользуясь свободной минутой, я направился к дверям деревянной походкой Исидора. Негнущиеся ноги, руки прижаты к туловищу. Открыл дверь (как бы вошел). Строг и неподвижен, голос скрипуч.
– Изволите хозяйничать, Мещерский? Пьете чай без спроса? Что называется, ничтоже сумняшеся…
Перебежал к своему месту у стола и ответил, опустив голову:
– Скорей уж не мудрствуя лукаво, Исидор Пантелеевич… Но согласитесь, что, используя ваши запасы и листая Дневник, я в каком-то смысле пью чай вместе с вами.
Я продел палец в кольцо ситечка, и оно марионеткой запрыгало в глубинах чашки.
– Видите ли, Исидор Пантелеевич, наш директор, поручив мне заниматься вашим архивом, не озаботился снабдить меня чаем. Ну, просто забыл, понимаете? В силу занятости упустил, как говорится, этот момент из виду.
Исидор (почему-то голосом директора):
– Так ведь не упустил, Пал Сергеич. Несмотря на свою занятость, как раз таки принес.
Я поднял голову – на пороге действительно стоял директор. С чаем и овсяным печеньем в целлофане. Он бросил мне печенье, и я поймал его с хрустким звуком.
– Руки у меня теперь заняты, – сказал я, – так что чай, Аскольд Романович, пожалуйста, не бросайте.
Директор кивнул:
– В этом, строго говоря, нет необходимости. – Закрыв дверь, он положил чай на стол. – Милейшее представление – как жаль, что я вас прервал. И часто вы так?
Улыбнулся.
– Зависит от того, чьи бумаги. – Я покрутил головой, как бы демонстрируя кругозор. – От характера, так сказать, материала… Да и просто от настроения.
Освободив большую чашку от ложек и вилок, наполнил кипятком и ее. Ловким движением перебросил в нее ситечко. Мы молча ждали, пока чай заварится и в ней. Слушали, как усилившийся дождь барабанил по крыше.
Гость пил чай из чашки с ручкой, а вот мою чашку так просто было не взять. Пальцы скользили по горячей гладкой поверхности, на сколах ручки – шершавой. Мне оставалось только ждать, когда чай хоть немного остынет.
– Я всё пытался представить себе, – надкусив печенье, директор отпил чая, – как выглядело жилище этого необычного человека.
– И как же, Аскольд Романович?
Директор сделал громкий глоток и встал.
– Именно так я его себе и представлял. – Он подошел к двери. – Да, главное. Ввиду небольшой ценности этого жилья его, возможно, передадут Архиву. В качестве, ну, как бы, подсобной площади. Так что предварительный разбор бумаг можете спокойно производить здесь.
Он втянул ноздрями воздух:
– Спа-кой-на.
Когда этот энергичный человек ушел, я (вздохнув с облегчением) растянулся на кровати поверх покрывала. Панцирная сетка скрипела при каждом движении. Я представлял, как под этот скрип проходила жизнь Исидора.
А может, скрипа и не было. Скорее всего, Исидор просто не шевелился. Лежал себе – руки вдоль тела или, допустим, сложенные на груди. Возможно, что даже и не дышал – на него это так похоже.
– Можете спа-кой-на работать здесь, – повторил я голосом директора. – Как, впрочем, и качаться на панцирной сетке – это ваше право.
Покачавшись на кровати, я встал. Ответил собеседнику прохладно:
– Я всегда спокоен, Аскольд. – Величавый отпускающий жест. – Сегодня, Аскольд, вы мне больше не нужны.
* * *Вернувшись вечером домой, я объявил, что переселяюсь на служебную площадь. Сказал это после ужина, поскольку проблемные заявления лучше делать после еды. Так они лучше воспринимаются. Мать уже убирала со стола посуду, отец направлялся на балкон курить, сестра Маргарита несла из своей комнаты тарелку с несъеденным пловом. Маргарита, трудный подросток, всегда ест в своей комнате. Точнее – не ест, потому что худеет.
Фраза моя прозвучала буднично, как-то даже очень спокойно, отчего впечатление только усилилось. Отец прикрыл балконную дверь, мать поставила посуду на стол, а Маргарита застыла на пороге кухни со своим пловом. Собственно, я не планировал всерьез уходить – хотел только сказать об этом. Но, сказав, подумал, что, может быть, и в самом деле уйду.
– Тебе что, с нами плохо? – спросила мать.
– Хорошо… Не хочется тратить времени на дорогу.
– Всё естественно, – сказал отец. – Парень стремится к независимости.
Ему хотелось курить, и он щелкал зажигалкой.
– Я тоже стремлюсь к независимости, – сообщила Маргарита.
– Мне двадцать девять, тебе – пятнадцать, – напомнил я сестре. – Всё, что ты можешь делать, это ужинать в своей комнате.
Маргарита замахнулась на меня тарелкой, и плов с нее плавно съехал на пол. Мать показала Маргарите на стоящий в углу веник, но та не шелохнулась.
– Птенцы покидают гнездо, – от долгого щелканья сигарета отца зажглась сама собой. – Процесс грустный, но неизбежный.
Он выпустил дым в полуприкрытую дверь балкона.
– Побереги мудрость, – сказала мать. – Лучше подумай о том, что происходит с детьми.
– Всё нормально, мам, – успокоила ее Маргарита. – Он нашел себе архивистку.
Внимательный взгляд матери.
– Правда?
– Оренбургский пуховый платок. – Маргарита зябко повела плечами. – Колечко с камеей.
– Это лучшее, что может быть, – отец сделал еще одну затяжку.
Я кивнул. С этим нельзя было не согласиться.
* * *Я все-таки переехал к Исидору. Спросил для порядка разрешения у директора, взял постельное белье, кое-что из необходимого – и переехал. Директор расценил это как тягу к полному погружению в материал. Крайнюю, что ли, степень исследовательского интереса: человек ночует на работе. Такое объяснение мне не приходило в голову, но возражать я не стал. В конце концов, в этой мысли ничего плохого не было. Теперь у меня были все условия для занятий наследием Чагина, и в первую очередь – его Дневником.
Прежде чем вести ежедневные записи, Исидор дает краткий очерк детства. Вспоминает, какой невкусной была еда в детском саду. Манная каша, вся в комках, успевала остыть, еще не добравшись до стола. Пшенная каша, наводя на мысли о песке, хрустела на зубах. Окаменевшие бруски свеклы в борще. Слипшиеся, словно покрытые слизью макароны. Желеобразный кисель с застывшей пленкой наверху. Упреждая возможные протесты, воспитательницы говорили, что в голодные годы у людей не было и такого. Этим людям Исидор тайно завидовал.
Требовалось всё доедать до конца. Выходя из-за стола, каждый должен был показать пустую тарелку. Тарелки – тяжелые, щербатые, без рисунков. Показывал свою тарелку и Исидор, а потом, зайдя в туалет, выплевывал то, что не смог съесть и держал за щеками. В туалете пахло хлоркой. Любопытно: Исидор пишет, что, включи они в столовой какую-нибудь музыку, он смог бы дажеэто доесть до конца. С музыкой еда хоть частично получала бы приемлемый вкус, потому что хорошая музыка – вкусна.
Исидору купили шаровары. Даже в то далекое время, когда одежде большого значения не придавали, было видно, что они недопустимо широки. Бабушка вывернула их наизнанку и, собрав лишнее, прострочила изделие на «Зингере». Она не хотела тратить черные нитки, которые и так недопустимо быстро расходовались. Использовать благоразумно решила оранжевую нитку, поскольку изнаночной стороны всё равно ведь никто не видит.
В детском саду у Исидора спросили, что означают сборки сзади на его шароварах. Сборки же означали единственно то, что шаровары надеты наизнанку: бабушка забыла вывернуть их обратно. Дети смеялись над необычным фасоном шаровар, особенно над оранжевой ниткой, а Исидор стоял, прислонившись к печи спиной, чтобы злосчастные сборки не были видны. Но их уже все успели увидеть, и оттого, что Исидор их скрывал, детям было только смешнее. Он чувствовал шершавость кафеля и жар печи, но в еще больший жар его бросал стыд перед детьми. «Дети – злы», – записывает в конце рассказа Исидор.