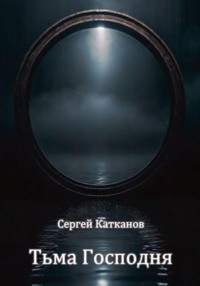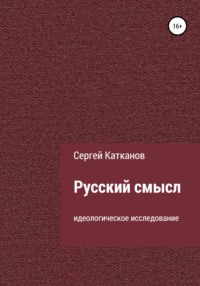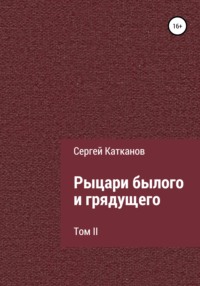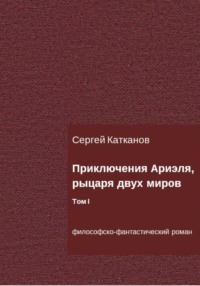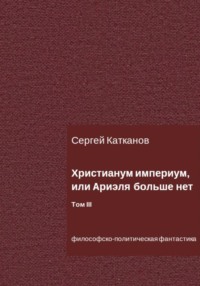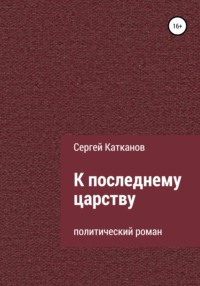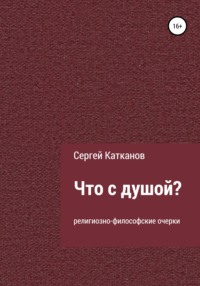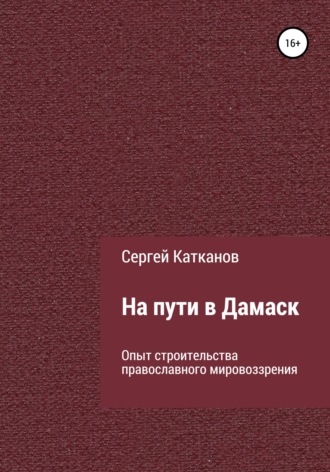 полная версия
полная версияНа пути в Дамаск. Опыт строительства православного мировоззрения
Но даже эти несчастные «рекомендованные суммы» и то уже во многих храмах считают неловким указывать. Не раз встречал такой порядок: свечей каждый берет сколько хочет, а денег спускает в ящик сколько может. Впрочем, не осуждайте батюшек, которые выставляют напротив свечей ценники с конкретными цифрами. Поставьте себя на место настоятеля храма, который по концу месяца пересчитал общую сумму кружечного сбора и понял, что ему просто нечем платить зарплату своему клиру. Проблема-то не в их жадности, а в нашей. Что же делать, если мы всего и всегда хотим на халяву. И если нам сказать «сколько можешь», то мы, как правило, можем три копейки.
Мы не хотим содержать свою Церковь, и мне жаль наших священников, которые постоянно вынуждены бить челом перед богатыми спонсорами. Место священника – у престола и на амвоне, а не в приемной у жирного коммерса, который презрительно поглядывает на батюшку, как на попрошайку. И тем не менее духовенство старается избавить нас от лишних расходов, сделать нашу жертву на Церковь не обременительной.
А может ли религиозная организация проводить более прагматичную финансовую политику? Еще как может. В большинстве протестантских общин действует правило десятины, то есть прихожане отдают десятую часть своих доходов на содержание своей общины. На мой взгляд, в этом нет ни чего плохого. Если нам это надо, так мы и платим. А кто за нас должен платить? Но если бы мне, например, предложили с каждой тысячи отдавать сотню на Церковь, я бы заскрипел зубами. Жалко. Потому что непривычно. Привык в православных храмах все получать почти задаром.
А в Швеции, где лютеранская церковь является государственной, все платят налог на Церковь, причем независимо от вероисповедания. То есть шведские мусульмане, кроме того, что содержат мечеть, отстегивают еще и на лютеранскую церковь. Налог не большой, что-то около 1%, но все же. Если же подданный шведской короны заявляет о своей принадлежности к лютеранской церкви, он становится плательщиком еще одного налога на церковь, где-то еще процента полтора. Это честно и справедливо. Но чтобы в современной России государство собирало налог на содержание Церкви – и помыслить себе невозможно. При этом ни кто не обвиняет шведских пасторов в жадности. В жадность почему-то обвиняют русских священников, которые ни с кого не требуют денег.
Почему мы так не справедливы к своим? А я объясню. Большинство русских, которые время от времени заходят в православный храм, считают, что делают кому-то большое одолжение, что их едва ли не поблагодарить за это должны. Кажется нас не удивило бы, если бы нам еще и платили за посещение церкви. А если попы осмеливаются взять хоть за что-то хоть копейку, так тут уж мы считаем их редкостными стяжателями.
Мы воспринимаем "услуги священников" как то, без чего легко можем обойтись, в отличие, например, от услуг врачей или адвокатов. Последним мы отстегиваем, не скупясь, потому что вполне осознаем, что в некоторых ситуациях их услуги нам жизненно необходимы. А достаточно ли мы осознаем, что от "услуг Церкви" зависит наша жизнь, причем – жизнь вечная? Если бы мы это не просто понимали, а глубоко переживали, так ведь последней рубашки было бы не жалко, только бы храм не закрылся и батюшка не бедствовал. И мы восхищались бы бескорыстием наших священников.
Сказки о попах
Антицерковная, антиправославная пропаганда целиком строится на том, что священники плохие. Начиная от тупого обывательского: "Знаем мы этих попов" и заканчивая интеллигентскими мудрованиями о том, как надлежит жить христианину, и как далеки от этого идеала православные священники. К этому суровому хору иногда присоединяется протестантский писк: "Наш пастор как учит, так и живет, а ваш священник…" далее по списку все основные тезисы воинствующих безбожников.
Меня эти нелепости и возмущали, и обижали, и даже травмировали, а потом я научился им радоваться и не раз говорил своим: "Вы только вдумайтесь, какая чистая и непорочная у нас вера. Православие настолько безупречно, что даже самые лютые и самые умные враги нашей Церкви не могут найти в ней ни малейшего изъяна, поэтому им ни чего не остается, как только ворошить грязное белье наших священников. Мне, например, для того, чтобы проехаться по протестантам вовсе не надо узнавать подробности личной жизни пастора, сам по себе протестантизм настолько кособок, что дает достаточно поводов для критики".
Без счету раз приходилось объяснять, что вера наша не становится ни лучше ни хуже от того, что иной священник, мягко говоря, не безупречен. Очередной дурак заявляет: "Вот из-за таких попов я в Церковь и не хожу". В очередной раз приходится отвечать: "А если бы ты знал, что у хирурга есть любовница и вообще он берет взятки, ты не пошел бы на операцию? Если бы ты был уверен, что все врачи плохие, ты вообще отказался бы от услуг медицины? Если тебе нужны услуги профессионала, так какая тебе разница, он грешный или не грешный, лишь бы дело делал. Священники – ремесленники, они делают то на что поставлены, на что их личные качества ни какого влияния не оказывают. Что это за логика: священник плохой, поэтому Бога нет".
Мне говорят: "Он слишком много плохого знает про священников, поэтому в Церковь не ходит". Я усмехаюсь: "Пусть он ко мне приходит, я знаю про священников в десять раз больше плохого, чем он может знать, я ему такое порасскажу… А в конце добавлю, что меня из Церкви и палкой не выгнать".
В самом деле, хоть я ни когда и не собирал церковных сплетен, однако знаком с людьми, которые не мало знают, а потому и сам знаю о священниках гораздо больше плохого, чем большинство врагов Церкви. Почему-то меня это ни когда даже в малой степени не соблазняло. Ни разу не появилось даже тени желания уйти из Церкви потому только, что тот или этот священник ведет себя неподобающе. Мне просто логически очень хорошо понятно, что между личными качествами священников и моими убеждениями нет ни какой связи. Если иной поп живет не так, как учит других, это характеризует только его самого, к характеристике православия это не имеет ни малейшего отношения. Неужели так трудно это понять? И тем не менее сплошь и рядом эта простейшая логика оказывается недоступна пониманию неглупых вроде бы людей. Кто из компьютерщиков отказался пользоваться антивирусом Касперского только потому что узнал о Касперском какую-нибудь грязную сплетню? Нет же таких идиотов.
Я привык отвечать, что не имеет значения то, что наши священники плохие. А недавно подумал: что ж мы так легко соглашаемся с тем, что они плохие? Я лично знал очень многих священников и не просто мельком, а достаточно регулярно с ними общался в течение многих лет. За каждое из этих знакомств я благодарен Богу. Все знакомые мне батюшки были замечательными людьми. Я ни одного из них не идеализировал, ни с одного из них не стал бы писать икону, я всегда видел недостатки любого из них. Один водочку любил больше, чем она того стоит, другой к деньгам был явно неравнодушен, третий был склонен к самолюбованию, четвертый страдал припадками гнева, в пятом было слишком много человекоугодия. Я добродушно улыбался, отмечая про себя их недостатки, но ни когда не забывал, что лично мне свойственно все вышеперечисленное и еще многое куда похуже. Я восхищался ими, потому что все они были людьми очень искренней веры, и у каждого были свои замечательные качества. Они были очень разными и к каждому из них тянулись очень разные люди. Все эти священники осознавали себя духовными лекарями и воистину таковыми были.
"Иных уж нет, а те далече". Но вот вспоминаю любого из них, и на душе тепло. Где же те самые "плохие священники"? Итак, я утверждаю вполне ответственно и на основе многочисленных фактов: средний нравственный уровень православного духовенства заметно выше среднего нравственного уровня мирян. Нам хочется, чтобы уровень духовенства был еще выше? Наши батюшки все-таки не дотягивают до той высокой планки, которую мы для них устанавливаем? Но, господа, давайте не будем забывать, что Церковь наша – народная, и батюшки наши – из народа. И если мы с вами – полный отстой, так откуда возьмутся идеальные батюшки? С Марса их что ли завозить?
Храмохождение
Как-то одна вроде бы верующая старушка мудрым голосом сказала: "Лучше в Церковь не ходи, а сделай доброе дело". Вот она на этом основании в Церковь и не ходила. Не могу быть уверенным, что вместо каждой воскресной литургии она в обязательном порядке совершала какое-нибудь доброе дело, но аргумент ее воистину из разряда бронебойных. Кажется, нечем от него прикрыться. А бабушка – таки не права. Но, как и всегда в подобных случаях, опровержение гораздо сложнее утверждения.
Конечно, если вы встали перед выбором, пойти сегодня в церковь или спасти человека, то и думать не чего, не ходите в Церковь, спасайте человека, иначе вы не православный. Но часто ли жизнь ставит нас перед подобным выбором? Это все-таки исключительная ситуация, а мы говорим о том, как вести себя обычно, всегда. В каком-нибудь добром деле, пусть и небольшом, все же больше пользы, чем в посещении храма? Или как?
И вот тут перед нами в полный рост встает вопрос о том, а сами-то мы, православные, какой главный смысл усматриваем в этом столь привычном для нас "хождении в церковь"? Что такое для нас это "храмохождение"? Мы когда-нибудь задавали себе этот вопрос? А в нем-то все и дело.
Беда наша в том, что мы очень часто воспринимаем "посещение богослужений" как исполнение формальной обязанности, в которой вроде бы и смысла ни какого нет, но так уж положено. Как бы Церковь требует от нас исполнения чисто внешних, ритуальных обрядовых действий. Будто бы эти действия по каким-то неведомым для нас причинам угодны Богу. Посещая храм, мы как будто "ставим галочку", почему-то считая что от количества проставленных галочек зависит спасение нашей души. Это очень обычный тип религиозности, но он обычен для ветхозаветной эпохи, а отнюдь не для православия. Однако, сердца наши так часто остаются ветхозаветными…
Суть Ветхого Завета – закон. Закон надо выполнять детально и не рассуждая. Если человек исполнил все 613 заповедей Ветхого Завета – у Бога не может быть к нему претензий, такой человек угоден Богу, он сделал все необходимое и не имеет ни какого значения, что сердце человека в этих "делах закона" вовсе не участвовало. Ветхозаветная религиозность строится на неукоснительном исполнении бесчисленных формальных предписаний. К этому так склонны были фарисеи, за что Господь их обличал. А мы сейчас порою чисто по-фарисейски считаем хождение в храм "делом закона" – нам велели, мы исполнили.
Однажды в храме ближе к концу богослужения удалось услышать поразительное суждение. Пожилая женщина наставляла свою молодую спутницу: "Если ко кресту не пойдешь, то считай, что на службе не была". Во как! Вы только вдумайтесь. Здесь, оказывается, исполняется такое ритуальное действие, которое не возможно совершить, не завершив. Одной только маленькой детальки в конце не хватит и "дело закона" тебе не зачтется, не сможешь галочку поставить. В самом деле, было бы очень глупо проторчать в храме часа полтора столбом, потерять время, убить ноги, но не завершить ритуал – и все коту под хвост. Это как длинное магическое заклинание, которое не срабатывает, если не произнести последней фразы. Такова формальная ветхозаветная и совершенно не православная религиозность.
И вот тогда становится понятно, откуда взялось это суждение: "Лучше в церковь не ходи, а сделай доброе дело". Из полемики с формально церковными, а по сути – ветхозаветными старушками. "Ты вот, Мария, все в церкву ходишь, да что-то пользы не видно. С соседями ссоришься, детей тиранишь, одна в тебе злоба. Ты бы лучше не в церву таскалась, а хоть что-нибудь доброе для кого-нибудь сделала". Это суждение продиктовано здоровым нравственным чувством, но оно направлено не против настоящей церковности, а против церковности ложной. Беда только в том, что иные православные являются носителями именно ложной церковности, а их критики не имеют представления о церковности настоящей.
Посещение храма не есть какое-то угодное Богу дело. Не то Богу надо, чтобы мы истуканами торчали на ногах в специально отведенном месте, сами не понимая зачем. Богу надо, чтобы сердца наши становились чище, лучше, добрее. А участие в богослужении призвано нам в этом помочь. Участие в коллективной молитве очищает душу. Из храма мы должны выходить добрее, чем были, когда зашли в него. И, посещая храм, мы не должны упускать из вида этой главной цели.
И тогда все встает на свои места. Если не будешь ходить в церковь, то и на доброе дело, может быть, окажешься не способен, сил на добро не хватит. И к каждому твоему доброму делу примешается столько нехорошего, что лучше бы ты и ни чего не делал. Не всегда даже будешь добро от зла отличать. Нам кажется, что тут все просто, а не всегда. Как часто мы делаем зло, думая, что совершаем добро.
Если мы присутствуем на Богослужении – толку от этого ни какого, и нецерковные люди в этом совершенно правы. Но если мы участвуем в Богослужении, если стараемся искренне вместе со всеми молиться, Бог не оставит нас без духовной пользы. Пусть даже в храме мы постоянно отвлекаемся на мирские помыслы, но если за полтора часа Богослужения наберется в общей сложности пара минут относительно чистой молитвы, мы и то станем чище, хоть на время. Может быть, возвращаясь домой посмотрим на соседей добрее, чем вчера. И тогда им станет понятно, зачем мы ходим в церковь.
Церковная дисциплина
Однажды мы беседовали с одной очень милой протестанткой. Она говорит:
– Неужели вам ни когда не хотелось вот просто так присесть и помолиться Богу своими словами?
– Конечно хотелось, да часто именно так и бывает. Я вообще считаю, что такое простое обращение к Богу – самое главное.
Она посмотрела на меня удивленно и растерянно, мой ответ был явно для нее неожиданным, и она перевела разговор на другую тему. А я понял, в чем был смысл ее вопроса.
Вот пришла девушка к вере, обратилась к священнику, спросила, как надо молиться. Батюшка первым делом вручил ей молитвослов и стал объяснять, когда какие молитвы надо читать. Ей это не понравилось. Обращение к Богу тут получается каким-то регламентированным, формальным, неживым. К Богу предписано обращаться чужими словами древних людей, да к тому же на полупонятном языке. Но вот она приходит к протестантскому пастору и он ей говорит: "Молись своими словами как хочешь и когда хочешь. Молитва – это же живое обращение к Богу". Ей это понравилось. Она решила, что только у протестантов вера живая, а у православных – лишь мертвящий формализм. Девочка, совершенно не имея духовного опыта и ни одного дня не прожив в Православной Церкви, теперь уверена, что наша Церковь – казарма, где и дышать можно только по уставу.
В чем же правда? Да в том, что православным известны законы духовной жизни. Наша Церковь – необъятное вместилище духовного опыта. И если человек принадлежит к Церкви, то надо быть последним идиотом, чтобы этим опытом пренебречь. Конечно, главное – религиозные чувства, но легко ли облечь их в слова? Ведь мы же и минуты не помолимся, если попытаемся выразить эти чувства по-своему, слова сразу же закончатся. Но вот берешь в руки молитвослов, начинаешь читать и как будто встречаешься с собственной душой. Чувства-то все мои, а слова такие точные, возвышенные, глубокие, что мне бы таких и за сто лет не подобрать. Когда мы молимся по молитвослову, мы молимся хоть и чужими словами, но своими чувствами, да и слова-то вскоре становятся близкими и родными, то есть перестают быть чужими.
Предположим, мне завтра скажут: молитвослов отменяется, молись по-своему. И что я скажу Богу вместо покаянного канона? И какими-такими "своими словами" я заменю "Отче наш" и "Царю Небесный"? Как же нестерпимо стыдно будет перед Богом за свое бессвязное блекотание. Знаете, что произойдет? Я почти полностью перестану молиться.
Мудрость Церкви свидетельствует, что если не будет молитвенной дисциплины, то и молитвы не будет. Как долго мы способны молиться своими словами, если, конечно, не занимаемся попрошайничеством? Выклянчивать-то что-нибудь у Бога мы способны с утра до вечера и слова найдутся. А покаянная молитва? Окажется ли она длиннее, чем два слова: "Господи, прости"? Длиннее она будет только в одном случае, если мы начнем заниматься самооправданием, тут-то враз найдется множество слов. А славить и благодарить Бога мы сможем своими словами? Тут ведь опять все закончится одной фразой. Впрочем, эти отдельные короткие молитвенные вздохи: "Господи, прости", "Благодарю Тебя, Господи" – это тоже наиважнейшие молитвы. Но разве их достаточно для того, чтобы настроить душу на определенную волну и удержать ее на этой волне?
Православным ни кто и ни когда не запрещал молиться своими словами, но эти слова еще надо обрести, а то вот так сядешь "помолиться по-своему", а в душе ни одного слова или такие слова, которые насквозь пропитаны страстями, то есть грехами. Стыдно к Богу с такими словами обращаться. Важно, чтобы молитвенное чувство было своим, а слова пусть будут наилучшие. Свои – хорошо, чужие – не беда.
Но вот протестанты ни чего этого не знают. Бывал я на их молитвенных собраниях. Как же они там молятся "своими словами"? Однажды, помню, они бесконечно долго распевали одну фразу: "Как хорошо, что спас меня Иисус". Даже не касаясь дикого сотериологического смысла этой фразы, надо сказать, что впечатление было удручающее, как будто это был сеанс массового зомбирования. Не лишка же у них нашлось "своих слов". Распевают они порою "гимны" и подлиннее одно фразы, но до чего же это примитивные, убогие и безвкусные тексты. Ведь они же и чувствовать приучаются так же примитивно и убого. И вот захочет кто-нибудь из них помолиться своими словами, а слова все какие-то глупые, да и чувства такие же. Православному все же придет на память что-нибудь из молитвослова и "свои слова" окажутся лучше, чем у протестанта, и чувства глубже. Так что если отвергаешь что-нибудь "чужое", подумай сначала, окажется ли "свое" равноценным.
В армии говорят: "Уставы написаны кровью". То есть каждое правило введено в устав после того, как кто-нибудь погиб и офицеры подумали, как избежать подобных смертей. А приходит новобранец и ему эти правила кажутся глупыми. Но если он не будет соблюдать этих правил, тогда он собственной кровью еще раз подтвердит их важность. Смысл церковной дисциплины тот же, что и армейской. Делайте как велят, даже если вы не понимаете смысла того, что вам велят. Может быть, потом поймете, а может быть и никогда не поймете, но следование церковной дисциплине спасет вашу душу. Все церковные правила основаны на реальном духовном опыте. Отцы смотрели, от чего люди гибнут и вводили правило, предотвращающее гибель.
Так же, например, с исповедью. Однажды один едва воцерковившийся человек сказал, что больше года не был на исповеди при этом начал доказывать, что он прав: "Нельзя идти на исповедь, если в душе нет искреннего покаяния, тогда получается исполнение формальности, а не исповедь. Покаяния же у меня пока нет».
Очень захотелось сказать ему: «Ты бы, умник, делал, что велено, да мудрил бы поменьше». Не сказал. Наши умники очень обижаются, когда их мудрость ни во что не ставят, а просто призывают к дисциплине. Постарался объяснить, как мог, суть проблемы.
Действительно, условием исповеди является искреннее покаяние, но если ты будешь ждать, пока оно у тебя появится, то может случиться так, что не дождешься ни когда, и тогда ты просто окажешься вне Церкви. Лучше будет все-таки, если ты придешь на исповедь и кроме прочего покаешься в отсутствии искреннего раскаяния. Так, глядишь, и раскаяние придет. Вот стоишь ты в очередь на исповедь и думаешь: я столько нагрешил, так почему же я, зараза худая, не испытываю ни капли раскаяния? И не заметишь, как слезы закапают. А может быть и не закапают. Или не в этот раз, а через пять раз на шестой. Или, если душа не плачет о грехах, так ты во всяком случае от головы, от разума займись самоосуждением. Это, конечно, не то, но это куда лучше, чем ничего. А у тебя пока – ни чего. Откуда же у тебя раскаяние возьмется, если ты себя вне Церкви ставишь?
Мне понятен пафос отвержения формализма. В самом деле мало толку просто «вычитывать» молитвы по молитвослову. Это не более, чем исполнение формальности, которая гроша ломаного не стоит. Но ведь настоящая, живая молитва скорее появится в сердце во время такого формального молитвословия, чем в других ситуациях. Исповедь без покаяния тоже не много стоит, но настоящее покаяние скорее появится в душе во время исповеди, чем в других ситуациях. Просто, исполняя требования церковной дисциплины, не надо в силу этого чувствовать себя праведникам. Дескать, я все делаю, как надо: молюсь, как положено, исповедаюсь, как положено. Это может быть, всего лишь форма, лишенная содержания, и тут до праведности, как до звезд. Но не надо и недооценивать форму. Она имеет свойство притягивать содержание. Делайте, как велено, и у вас появится хотя бы надежда на то, что будет, как надо.
Как же это замечательно, что у нас в Церкви есть дисциплина. Такие, как я, погибли бы без нее гарантированно. Я в ужас прихожу, когда говорят: "Главное – в душе Бога иметь, а не формальности исполнять". Да в душах-то, ребята, у нас всегда одно и то же – помойка. Вы думаете, там сами по себе розы расцветут? Люди, которые считают, что "достаточно иметь Бога в душе", никогда Его в душе не имеют. Это просто самообман, продиктованный ленью.
Часть III. Вот мы и дома
Карательное богословие
Безбожники упрекают нас в том, что наш Бог жесток. "Установил правила, а за их нарушение жестоко карает". В этом случае, как и во многих других, безбожники полемизируют не с православием, а с мифами о православии. Беда только в том, что сами православные очень часто являются носителями и распространителями этих мифов. Разве вы никогда не слышали от верующих: "Будешь грешить – тебя Бог накажет". А разве это правда? Не правда. Правда в том, что Бог никогда никого не наказывает. Бог не жесток. Это мы жестоки. И мы приписываем Богу свои свойства.
Боюсь, что сейчас придется полемизировать со своими. "Карательное богословие" так прочно у нас укоренилось, что критика его вполне может быть воспринята, как отступление от веры, как попытка ввести какое-то новомодное боголословие, противоречащее православию. На самом деле это лишь возвращение к подлинному святоотеческому вероучению. Высшие истины порою бывают слишком высоки для бытового сознания. Во мнениях народных смысл православия так порою примитивизируется и оглупляется, что превращается в свою противоположность. Бога, Который Сама Любовь, мы понимаем, как карателя, не ведающего жалости.
В чем же истина? Начать надо с того, что заповеди – не система запретов. Это правила техники безопасности. Бог вообще ничего не запрещает. Он предупреждает: если будешь делать вот это, то последствия будут вот такие. Если, например, будешь прелюбодействовать – обречешь свою душу на страдания. Никто тебя не будет наказывать. Просто нарушение заповеди и страдания – это причина и следствия. Вам, например, сказали: не надо прыгать из окна девятого этажа. Это запрет? Нет, это предупреждение: прыгнешь – убьешься. А если человек все-таки прыгнул и убился? Это наказание? Нет, это следствие того, что человек не послушался доброго совета. Ему казалось, что его свободу ограничивают бессмысленным запретом, он хотел парить в небесах, подобно орлу. И вот результат. Ну ведь предупреждали же.
Или, например, отец запрещает мальчику совать гвоздики в розетку. А мальчику надоели эти вечные отцовские запреты, он решил попробовать. Когда мальчика пребольно ударило током, это что по-вашему – отец жестоко наказал его за нарушение запрета? Да отцу самому больно от того, что сын пережил такую боль. Но ведь он же предупреждал.
Так же Бог постоянно предупреждает нас, своих детей: не нарушайте заповеди, это причинит вам боль, вы разрушите свою душу, вы обречете ее на страдания. А мы сначала все делаем наоборот, а потом говорим: Бог наказывает, Бог – жестокий, бесчеловечный. У нас совесть есть? Или хотя бы крупица разума?
Тоже самое будет и в аду. Ад – не штрафной изолятор, это не место, где грешников будут наказывать за плохое поведение. Ад – органичная естественная среда обитания грешных душ. Человек при жизни не хотел идти тем наилучшим путем, который предложил ему Бог. Человек решил жить без Бога. Таким был его свободный выбор. А дальше начинаются последствия. Без Бога душе плохо. Ад это всего лишь место, где нет (или почти нет) Бога. Ну вы же сами это выбрали, ребята, это не наказание.
Но разве Бог не может простить человека и избавить его от вечных мук? Да Богу и прощать не надо, он и так любит грешников не меньше, чем праведников. И после смерти Бог помещает грешников туда, где им будет лучше всего – в ад. Дело в том, что в раю им было бы еще хуже, там близость Бога заставляла бы их страдать куда больше – это не органичная для грешников среда. Конечно, в аду грешники будут страдать, но гораздо меньше, чем страдали бы в раю. Это не наказание. Это проявление Божьего милосердия.