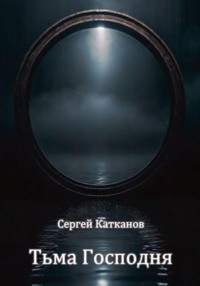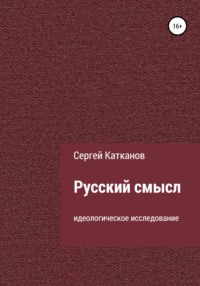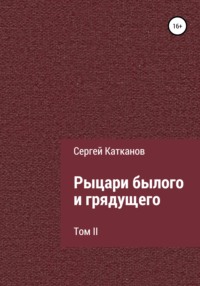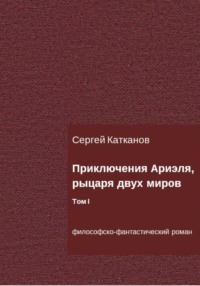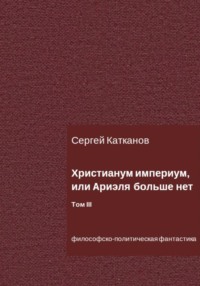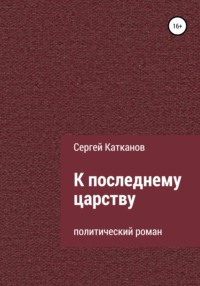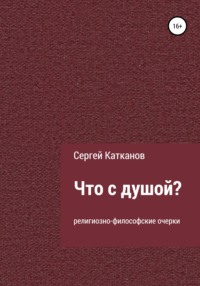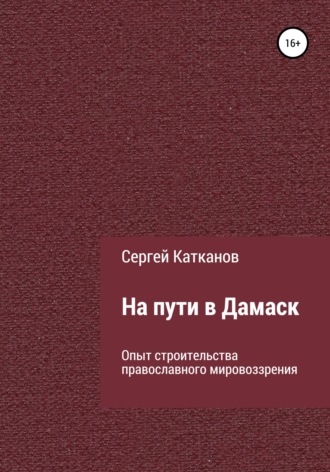 полная версия
полная версияНа пути в Дамаск. Опыт строительства православного мировоззрения
Вдруг особенно остро почувствовалась усталость в ногах. Пятки тупо и тоскливо ныли. Стараясь перенести тяжесть тела на носки, я опять отвлекаю себя этими упражнениями от молитвы.
"Преподобне отче Зиноне, преподобне и честне житие твое на земли препроводивый и тем Богови по премногу благоугодивый, моли о нас, чтущих память твою".
Отгоняю от себя душевную муть, стараюсь забыть о ногах, но получается неважно. Так молебен в моем восприятии был раздерган, растащен, расхищен. Известно, что дар нерассеянной чистой молитвы имеют лишь святые, и они, печерские иноки, для того и спускались в пещеры, чтобы этот дар приобрести и находиться в непрерывном общении с Богом. Нам куда до них, но все-таки можно было поменьше отвлекаться – запоздало укоряю себя. А предстояло самое главное.
Иеромонах начал помазывать богомольцев нерукотворным миром, которое источают священные главы. Ум трепетал от сознания величия и значимости того, что должно было произойти, ум вопил о своем недостоинстве столь ощутимо прикоснуться к Вечности. Душа, обремененная мирскими попечениями, безмолствовала. И, может быть, Господь еще приведет, хотя бы по прошествии времени, ощутить на себе неизреченную благодать этого великого помазания. Благодать, скопленную киево-печерскими угодниками в подвигах, превосходящих человеческое разумение.
***
Горело на солнце золото куполов обширной лавры, лежал внизу, под монастырскими горами, подобный морю Днепр. Душа после духовного напряжения пещер мягко и плавно разворачивалась в светлом, теплом, ласковом просторе. Душе казалось, что она у себя дома, в мире поющем птичьими голосами. Но память о тесных, темных, холодных пещерах неотступно напоминала о том, что выше зримого – невидимое и паче солнечного – свет, просиявший во мраке.
1996 г.
Высокая земля
В шестом часу утра трехпалубный пассажирский теплоход "Родина" был окружен бескрайней водной равниной Ладожского озера – отовсюду взгляд встречал только волны, которые сливались с небом. Кто бы поверил, что мы не в море. Стоял штиль, кричали чайки, волны, как и положено, бежали от винта за кормой. "Родина" шла курсом на Валаамский архипелаг.
Название этих островов можно понимать, как угодно. Иногда его связывают с именем библейского пророка Валаама, под которым неожиданно заговорила ослица. Более распространен перевод "Земля Ваала". Этому языческому богу в древности здесь совершали жертвоприношения. Другая версия возводит название архипелага к финскому слову "Валамо", что означает "высота", "высокая земля".
Высшие точки некоторых островов (вокруг коренного, главного их около полусотни) возвышаются над горизонтом воды до 50 метров. А глубина вод у самых берегов порою превышает 200 метров. Воистину – высокая земля – одномоментный выплеск магмы в расщелину земной коры. Так история Валаама восходит к первым дням творения.
Ровно в 6 часов утра, минута в минуту, среди водного безмолвия на корме "Родины" был поднят государственный флаг России. Его молча закрепил молодой матрос, одетый, кстати, не по форме. Судовой устав не требует помпезности, но предполагает абсолютную точность. Так же, к слову, строги, неумолимы, максимально целесообразны монастырские уставы. Это сравнение естественно у водного порога тысячелетней колыбели монашества – северного Афона – легендарного Валаама.
В восьмом часу прямо по курсу горизонт омрачился полоской тумана. Вскоре начали угадываться очертания острова. Заговорило судовое радио, возвестившее прибытие в Никонову бухту Валаама в 8.00 и завтрак в 9.00, а затем экскурсию. Неприятно пораженные перспективой потерять больше часа, мы решили обойтись без завтрака и сразу же, как причалим, рвануть в монастырь, к службе, для чего экскурсовод совсем не нужен. Но вот огромная "Родина" зашла в небольшую уютную бухту и замерла у пирса. Наши планы разбились о глухую стену прибрежного ельника. Рисовавшийся в воображении красавец-монастырь, стоящий на горе и видимый с любой точки острова, так в мечтах и остался. А на лесных тропинках нужен проводник. К тому же, как выяснилось, пристали мы довольно далеко от монастырской бухты. Оставалось покорно ждать завтрака, а затем – экскурсовода. Хочется предостеречь всех православных, стремящихся на Валаам. Если человек прибыл сюда по туристической путевке, он не сможет вдруг по своему желанию стать паломником. Он обречен остаться туристом.
***
Под звуки отработанного и плавного повествования экскурсовода мы поднимались на сопки и обозревали бухты, лежащие далеко внизу, смотрели на деревянные часовни – память о некогда действовавших монастырских скитах. Потом от изогнутых ветром елей на скалах спускались к лесным озерам, к ласково шумящим дубам и кленам, к поросшим мхом каменным фундаментам монастырских построек. Не будем даже пытаться описывать, насколько красива природа Валаама, это надо делать художникам. Но, глядя вокруг туристическими глазами и не желая все-таки изгонять из себя внутреннего паломника, мы постепенно начинали чувствовать (а не только понимать), что святыня – это весь Валаам, все эти благодатные 34 квадратных километра насквозь промоленой за века земли. Здесь имеют Божие благословение каждый камень, каждое дерево, каждая волна. Но, опомнившись от первого впечатления, которое производит поражающая сознание красота, надо перестать стрелять глазами, надо зафиксировать взгляд в одной точке и долго не отрывать.
Хорошо встать на колени перед кустиком спелой земляники и не торопясь поклониться ему. Потом в безветренную погоду сесть на камень и погрузить на часок взгляд в прозрачную толщу прибрежной воды. Хорошо, пока не занемеет шея, смотреть, стоя рядом с волнами, на вершины елей, растущих на скале, на другом берегу бухты. Чтобы войти в зрительное, видимое пространство осязаемого Валаама, по нашим прикидкам потребуется около месяца. Чтобы войти в сакральное пространство духовного Валаама потребуются многие годы. Впрочем, Господь не без милости и нам, осуетившимся, позволяет иногда взглядом скользнуть вдоль Валаама духовного для того, чтобы мы знали – он существует.
Входим в ворота Воскресенского скита, не действующего, но отреставрированного. Он – ближайший к Никоновой бухте, где пристала "Родина". Постройки из красного кирпича, обнесенные такою же стеною, обращают внимание своим лаконичным, рациональным числом – храм, дом скитоначальника, братский и хозяйственный корпуса. Больше ни чего нет. Потому что больше ни чего не надо.
Экскурсовод, как бы между делом, рассказывая про храм, говорит, что он поставлен на месте, где по легенде апостол Андрей Первозванный, якобы побывавший на Валааме, поставил каменный крест. Я, было, отвлекся, рассматривая монастырские постройки, когда периферийным слухом уловил эти слова. Тут же бросился к экскурсоводу: "Это так, я не ослышался?" Да, говорит, это именно так.
Давайте оставим извинительные слова "по легенде", "согласно преданию" и "якобы" для безбожников. Мы входим в духовное пространство, где достоверность фактов измеряется не псевдоточными доказательствами так называемой объективной науки, нахально претендующей на монополию в постижении истины. В духовном мире истинно то, что продиктовано ощущением истины, открывшейся вдруг, сразу и целиком. Десять институтов в ста томах не смогут опровергнуть то, что постигается православным подвижником через молитвенный опыт. Подтвердить – могут, но потребуется уже сто институтов и тысяча томов, а успех – проблематичен. И если через Богообщение монаху открывается истина, он уже знает, чему надо верить. А на вопрос "почему?", он ни чего не ответит.
***
"Полный православный энциклопедический словарь" сообщает: "Житие апостола Андрея составлено в VIII веке, но оно не относится к достоверным источникам". Над этими грустными словами мы развели руками. А недостоверные источники приписывают святому апостолу путешествие по Скифии и Черному морю, включая Крым. Некоторые источники повествуют о том, что он доходил до земель Новгородских. А из монастырского предания узнаем, что "следуя из пределов Новгородских, апостол с сопровождавшими учениками пристали в заливах Никоновских. Св. Андрей осенил горы Валаамские каменным крестом".
На духовном пространстве Валаама пребывание здесь святого апостола – истина, не требующая доказательств и не подлежащая сомнению. Не надо долго бежать вдоль параллельных прямых для того, чтобы выяснить – они ни когда не пересекутся. Держу в руках фотоальбом "Валаам", на первой странице которого красиво написано четверостишие. Во всем издании нет даже намека на его авторство. Ну значит нет и не надо, а стихи такие:
…И прими, как дар благоуханный
Благодать священных этих мест,
Где Андрей, Апостол Первозванный
сам воздвиг когда-то первый крест.
В верхней части храма, воздвигнутого на месте первого креста – выбеленные голые стены. Здесь проходят концерты духовной музыки. Мы сидим на скамеечке посреди церкви, вяло упрекая себя за бесчинство и оправдываясь тем, что пришли на концерт, а не на богослужение. Перед нами стоят четверо мужчин разного возраста, они – в черных рубашках, подпоясанных веревочками. Тщедушный певчий начинает, и все храмовое пространство заполняет Русь исконная – звучат знаменные распевы Валаамского монастыря. Они были расшифрованы со старинных крюковых нот, составленных много веков назад клиросными монахами. Так пел Валаам тогда. Так поет он сейчас. Над местом первого апостольского креста.
Тщедушный певчий вытягивается, весь выходя в голос, черная рубашка на нем обвисает, жиденькая бороденка задирается. Он весь в распеве и я, кажется, уже вместе с ним. И вот взгляд упал на огромного негра, который тоже слушает пение. На его широком черном лице лежит печать понимания. Очевидно, такая же печать лежала бы на моем лице, если бы я смотрел на африканские пляски.
А подклет этого храма чист и прибран, но не отреставрирован. Стены небеленые, обшарпанные. Вечером мы нашли время побыть здесь в одиночестве, благо двери стояли нараспашку. Тишина и сумрак. Под ногами – камень плит. Под плитами – скала. Та самая, на которой стоял Первозванный Апостол. Это – "точка ноль" духовного пространства Валаама. Более того – это "точка ноль" духовного пространства Святой Руси. Отсюда наша вера. Отсюда мы. Редко духовный и материальный миры столь ощутимо пересекаются в одной точке. Это надо постараться вместить в себя. Здесь надо побыть одному, а не с толпой туристов. Иначе вы не увидите ни чего, кроме обшарпанного подвала.
***
Экскурсия по местам расположения бывших скитов закончена. Около полудня мы возвращаемся к пристани, так и не побывав в действующем Спасо-Преображенском монастыре. Нам обещано, что в 16 часов нас туда отвезет небольшой теплоход "Игумен Дамаскин". Времени в избытке, и мы неторопливо плетемся к ожидающему нас на "Родине" обеду. И тут меня посетила самая счастливая за всю поездку мысль – спросить у освободившегося от трудов экскурсовода, есть ли до монастыря пеший путь. Выяснилось, что дорога есть, и это всего 5 километров от пристани. Более того, мы по ней и шли, только в обратном направлении.
Больше нам ни чего не надо было знать. Без обеда сможем обойтись? Вполне. Пять верст туда, да пять обратно – реально? В Божьей помощью. Через несколько минут мы уже шагали по дороге к монастырю, имея пустые желудки и ни с чем не сравнимое ощущение внутренней свободы.
Еще довольно твердо держась на ногах после отмеренных с утра десяти верст, мы подходили к обители. Преодолев на едином дыхании каменные ступени, ведущие в гору, встали и отдышались. Перед нами было то, что вполне можно было считать входом в монастырь. Не торопились. Подошли сначала к часовне с иконой Божией Матери в киоте. Перекрестились и поклонились. Теперь можно войти. И тут началось нечто ирреальное.
Шли между двухэтажным и трехэтажным корпусами, думая, что это какая-то монастырская периферия. Потом был тупик и мы пошли обратно. Сменили направление, но вокруг тянулись все те же корпуса. Потом снова вышли к каменной лестнице, по которой поднялись к монастырю и растерянно посмотрели друг на друга. Кажется, мы увидели все, что можно было увидеть.
Это было сущей правдой. Спасо-Преображенский монастырь – не монастырь-крепость, к которым мы больше привыкли. Это огромный жилой корпус, поставленный прямоугольником. В него вложен меньший прямоугольник – тоже жилой корпус. В него в свою очередь вложен огромный собор. Пустоты между ними, извилистые и незначительные – это все, что мы видели, и все, что можно увидеть в первого наскока.
В соборе, где покоятся мощи преподобных Сергия и Германа Валаамских, идет ремонт, туристов не пускают. На службе можно побывать лишь в надвратной церкви во имя святых апостолов Петра и Павла. Расписание богослужений доступно всеобщему обозрению, но, глянув на него, мы первоначально были сбиты с толку двумя соседними графами – "монастырское время" – "московское время". Разница между ними была в 2 часа. Позднее выяснилось, что монастырь живет по "царскому времени", эта традиция сохранилась с начала ХХ века. Временной разрыв лишний раз подчеркивает существование на острове двух реальностей – туристической и монастырской.
Ежедневно огромные пассажирские лайнеры выплевывают на остров сотни и тысячи туристов. Многие из них настолько подготовлены ко встрече с Валаамом, что даже спрашивают: "А какая здесь религия?" Весьма значительная часть пришельцев имеет очень простую цель – выпить на природе. Все это могло бы вдребезги разбить монашеский уклад жизни, если бы монастырь не уподоблялся попеременно то ежу, то черепахе, то бобру.
Суда пристают в Никоновой бухте, а не в монастырской. Так проходит первый уровень отсева – более половины туристов до монастыря просто не добираются. Тех же, кто приходит сюда, у дверей собора встречают иглы ежа – вход закрыт.
Жилья своего монастырю не спрятать, туристы при желании могут даже потрогать его руками, как панцирь черепахи, но живого тела монашеской общины вы не увидите. Мелькнут два-три черных подрясника и все. Черепаха в своем домике гостей не принимает, нелепо ее в этом упрекать, она так устроена.
Третий способ, которым монастырь оберегает свое уединение – это способ бобра, который прячет вход в свою хатку в воде. Ныне возрождаются три скита, которые расположены на маленьких островах. Туда туристам доступ закрыт – вода бережет уединение монахов. В Предтеченский скит доступ даже паломникам-мужчинам открывается только с благословения игумена, а для женщин доступ сюда закрыт полностью.
Мы не стали колоть себе руки об иглы ежа, попереминались с ноги на ногу у входа в домик черепахи, а где прячутся за водной гладью ходы к бобровым хаткам, даже не любопытствовали. Грубым нахрапом не проникнуть в чужой мир. В этот мир пришедшие жить на Валаам входят годами.
А на обратной дороге нас вознаградила за утомление пути и за пропущенный обед удивительно крупная и спелая земляника на обочине. Горсть красных ягод не могла, конечно, поддержать тело, но порадовала душу. Воистину, святыня – это весь Валаам.
***
Так мы и не поклонились мощам преподобных Сергия и Германа Валаамских. Если будет на то Божья воля, мы вернемся на Валаам паломниками и тогда, хочется верить, нам откроется доступ к месту упокоения святых основателей Валаамского монастыря. А пока постараемся узнать о них как можно больше. Но… Валаам в очередной раз ускользает. Это его уникальное свойство. Приплыл на остров, а монастырь – словно невидимый град Китеж. Пришел в монастырь – и опять ни чего не увидел. Взял в руки книги, все прочитал и ни чего не узнал.
Вот несколько цитат из самых разнообразных печатных изданий:
"Еще до крещения Руси, в Х веке, пришли на остров основатели обители – преподобные Сергий и Герман, Валаамские чудотворцы".
"Монастырь основан приблизительно в XII веке преподобными Сергием и Германом".
"Валаамский монастырь со времени его основания в XIV веке преподобными Сергием и Германом…"
Итак, три различных источника, и не как версию, а однозначно утвердительно, относят время жизни преподобных последовательно к X, XII, XIV векам. Это данные "объективной исторической науки", позволившей себе разбег в четыре века.
Вот еще книга, она честнее: «Когда именно жили преподобные и откуда они были родом – неизвестно». И еще одна: «Летописи не определяют времени преподобных Сергия и Германа, коих житие даже утрачено». Ну вот теперь понятнее. Жития нет. Ни кто ни чего не знает. Наука безмолвствует, словно народ в известной трагедии Пушкина.
Тогда перейдем на язык версий: «Можно отнести житие преподобных ко временам княгини Ольги, и некоторые думают, что они были греческие выходцы, искавшие просветить Север». То есть самое начало? Похоже, но, видимо, чуть раньше начала.
Из рукописного жития св. Авраамия Ростовского следует, что уже в 960 году на Валааме был монастырь и имел игуменом некоего Феоктиста, который и окрестил будущего простветителя Ростова из язычников. Обратите внимание – это произошло за 28 лет до крещения Руси князем Владимиром. А кто сказал, что монастырь на Валааме к 960 году не существовал уже несколько десятилетий? Или столетий?
А.Н. Муравьев писал: «Темные предания называют преподобного Сергия одним из учеников апостола Андрея, который с людьми новгородскими посетил сей остров, где крестил язычников и между ними некоего Мунга, которого полагают быть Германом».
«Темным преданиям» было, видишь ли, наплевать, что согласно данным науки апостола Андрея только от князя Владимира отделяет почти тысяча лет. Одно слово – «темные», какой с них спрос. Веками «безграмотные отсталые монахи» передавали эти предания из уст в уста. В силу своей кромешной безграмотности они ни на минуту не сомневались в том, что иноческое житие основал на Валааме сам св. ап. Андрей, а преподобные Сергий и Герман – его личные ученики. Темные монахи не спорили с исторической наукой. Они ее игнорировали. Наука хохотала над монахами. Но от их спокойной убежденности науке становилось не по себе. Хохот ее над монахами становился все более неуверенным и в конечном итоге смолк.
Если наука позволяет себе произвольно тыкать пальцем то в Х, то в XII, то в XIV век, тогда хочется спросить, а почему не первый? Если у нас нет вообще ни какой информации о том, что происходило на Валааме в первом тысячелетии по Рождеству Христову, что тогда вынуждает нас исключить версию об апостольском происхождении христианства на Валааме? Если монашеские предания не выглядят достаточно основательным источником информации, то ведь надо сказать, что других-то источников и вовсе нет. Ученые верят только фактам. Ну и где их факты? Итак, нам не известен ни один факт, который вынуждал бы нас исключить версию о том, что христианство на Валаам принес св. ап. Андрей. Эта версия, как минимум, ни чем не хуже других. От апостола Андрея до времен летописных христианство вполне могло на Валааме существовать.
Если принять эту версию, то получается, что христианство на землях будущей Руси отнюдь не моложе христианства европейского, если не старше. А вот это уже далеко не всем понравится.
***
В 1163 году шведы ломились на Валаам. И разумеется – с благословения папы римского. Русские монахи на острове спокойно знали: это война против православия, а потому основной удар будет нанесен по святыням. Впервые после упокоения преподобных Сергия и Германа иноки решили потревожить их тела, которые оказались нетленными. Святые мощи перевезли в Новгород, понимая, что иначе их не сохранить. По прошествии 17 лет, когда схлынуло шведское нашествие, мощи основателей Валаамской обители возвратили на остров. Было это 11 сентября 1180 года, за 60 лет до того, как святой благоверный князь Александр Ярославович разбил ярла Биргера на Неве.
Монахи понимали – шведские разбойники придут опять и опять. Каждый раз вывозить мощи в Новгород не удастся, а шведы их непременно уничтожат, если найдут. В скале высекли глубокую шахту, где упокоили святые мощи. Там они и поныне. Весьма, кстати, вероятно, что житие преподобных Сергия и Германа, проливающее свет на апостольские истоки русского православия, было уничтожено шведскими пиратами с благословения римского первосвятителя. А монашеские предания хранили факты из уничтоженного жития.
В XIV веке шведский король Магнус II опять воевал новгородские земли и опять не весьма успешно. Шведы снова ломились на Валаам, но Господь хранил православную обитель. Буря на Ладоге разметала шведский флот, а сам король Магнус полумертвым был выброшен на остров, где его подобрали монахи. Иноки стали лечить царственного врага. Он, по валаамским преданиям, принял православие и монашество. Вскоре Магнус скончался. Его могилу монахи показывали желающим. Но шведы все это начисто отрицают и тоже показывают могилу своего короля у себя в Швеции. Две могилы. А правда одна. Эта правда была нестерпима для всех последующих шведских королей. Они рады были воздвигнуть десять усыпальниц, чтобы ее скрыть. В политике престиж – дело не последнее. А зачем было врать русским монахам, укрывшимся на просторах водной пустыни и этим доказавшим свое равнодушие ко всевозможным мирским интересам, включая политические?
В 1611 году, после полутысячи лет разорительных набегов, шведские поползновения на Валаам увенчались длительным успехом. Монастырь был разрушен, монахи перебиты, православные святыни осквернены. 100 лет Валаам был шведским. 100 лет здесь не было монастыря. А что появилось? Ничего. Ни каких даже самомалейших следов векового шведского присутствия на острове. Зачем они рвались сюда полтысячи лет? Что им было здесь надо? Их выбил с Валаама Петр Великий, когда грозного воителя Карла XII постигла судьба Биргеров, Магнусов и прочих доблестных викингов.
В 1787 году преосвященный Гавриил, митрополит Новгородский, писал про Валаамские острова: «Промыслом Спасителя мира они предназначены для спасения иноков». А для чего еще? Леса на Валааме много, но строевого нет. Сплошной камень, из которого состоят острова, покрыт весьма не глубоким слоем земли – до 30 см. Деревья не вырастают толстыми и внутри скоро дрябнут. Из зверей на Валааме только заяц, белка, лисица. Крупного зверя нет. Летом, даже в жару, от окружающей водной пустыни воздух быстро охлаждается и ночами – холод. С теплой одеждой на островах почти не приходится расставаться, а печи в году отдыхают не более двух месяцев. До ближайшего берега – 25 верст. Края Ладожского озера около островов если иногда и замерзают в последних числах декабря, то лед стоит только при сильных морозах и тихой погоде. Иногда по озеру всю зиму нельзя ездить. Сильные ветра постоянно ломают лед.
Итак, леса нет, зверя нет, климат нестерпимый, стратегическое значение – ничтожно. Гражданскому населению здесь делать нечего, оно ни когда, вплоть до 1945 года, и не пыталось селиться на Валааме. Зачем пять веков рвались сюда шведы? Если это не война за истребление православия, тогда что?
Есть на земле такие дикие места, где селиться могут только христианские отшельники, да отчаянные разбойники. Когда в пустыне водворяется любовь, возведенная на уровень прямого Богообщения, туда же устремляются силы зла, с кистенем или с торпедой, на дракаре или на крейсере. Это непреложный духовный закон.
***
С горы, где расположен Спасо-Преображенский монастырь, мы спустились вниз по каменным ступеням. Проигнорировав продававшихся за доллары матрешек на лотке, зацепились взглядом за небольшой вагончик с надписью «Кофе». Рядом с ним за летними столиками весело щебетали полсотни финнов с пластиковыми стаканчиками в руках.
Зашли в вагончик и, дружелюбно встреченные соотечественником, взяли по такому же стаканчику кофе. Опорожнив свой стаканчик, я поставил его на стойку со словами: «У вас хороший кофе». А в ответ услышал: «Кофе хороший, правда. Иначе нельзя. Финны мне поставили оборудование, у меня договор с ними. Если хоть одному из них кофе не понравится, больше уже ни один не зайдет. Я вылечу в трубу».
Все-таки бывшие вассалы шведов добрались до Валаама, да еще и распоряжаются здесь. Опасно ли это для Высокой Земли? Как знать…
***
«Родина» отчалила, вышла из Никоновой бухты, валаамские берега вновь понемногу стали окутываться туманом.
Мы посмотрели места расположения нескольких бывших монастырских скитов, дошли пешком до монастыря, прошагали по Валааму без малого километров двадцать. Мы ни чего не видели. Главного – монастырской жизни – во всяком случае. А потому и сейчас не стали затрагивать этой темы – воистину необъятной, способной дать огромный материал для заметок паломника. Но заметки православного туриста на этом завершаются. Внутренняя жизнь духовного архипелага, Северного Афона, пусть пока останется тем, что она есть – тайной за семью печатями.
1995 г.
Большое гнездо
Гора была окутана яркой листвой деревьев, даже древний собор на самой вершине невозможно было полностью рассмотреть – только купола, увенчанные первохристианскими четырехконечными крестами горели золотом, словно вырастая прямо из кудрявой сочной зелени. Мы подъезжаем к тысячелетнему Владимиру – северной твердыне Святой Руси. Владимирская гора поражает высотой и величием, невольно напоминая горы южнорусской столицы – Киева.