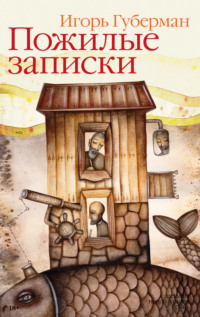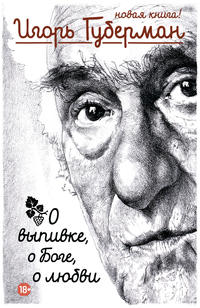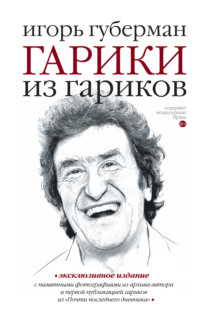Полная версия
Книга странствий

Игорь Губерман
Книга странствий
© И. М. Губерман, 2003
© ООО «Издательство Гонзо», 2017
Очень короткое, но нужное начало
Вообще говоря, я хотел назвать эту книжку скромно и непритязательно – «Опыты». Но вовремя вспомнил, что такое название уже было. И начертано на трехтомнике Монтеня, стоящем у меня на полке. А еще мне было очень по душе название известной книжки философа Бердяева – «Самопознание». Но тут возникла закавыка несколько иная: у философа Бердяева явно имелось, что в себе познавать, а у меня? Я заглянул вовнутрь себя и молча вышел. Но от огорчения сообразил, что я ведь двигался по жизни, перемещаясь не только во времени, но и в пространстве. Странствуя по миру, я довольно много посмотрел – не менее, быть может, чем Дарвин, видавший виды. Так и родилось название.
Внезапно очень захотелось написать что-нибудь вязкое, медлительное и раздумчивое, с настырной искренностью рассказать о своих мелких душевных шевелениях, вывернуть личность наизнанку и слегка ее проветрить. Ибо давно пора.
Мой путь по жизни приближается к концу. Душа моя чиста, как озеро, забытое прогрессом. Я эту мысль уже зарифмовал когда-то, у меня такой именно способ сохранять свои и чужие мысли. Я уже в возрасте, который в некрологах именуется цветущим. В такие годы пишут умные и серьезные книги, но я еще настолько не состарился. Хотя уже охотно ощущаю вечернее глотание лекарств как исполнение супружеского долга. Ну, словом – грех не занести на беззащитную бумагу все мои от жизни легкомысленные впечатления. И выпивка, конечно, мне поможет. Многие пьют, чтобы забыться, а я – чтобы припомнить неслучившееся. Как говорил Экклезиаст (цитирую по памяти) – есть время таскать камни, а есть время пить пиво и рассказывать истории. Тем более живу я в Израиле, где и без того достаточно камней, ибо каждый приехавший сюда скидывает камень с души. Это сказал, вернувшись из вавилонского плена, какой-то древний еврей своему столь же древнему собеседнику. Я этого, правда, нигде не читал, но, вероятно, тот древний еврей просто не записал свою мысль. И вообще, если вы в моей книге прочитаете: «как говорил Филоктет в беседе с Фукидидом» – не используйте эти слова в научных трудах, ибо летучие цитаты я обычно сочиняю сам. Однако же я убежден, что ежели в ученой и серьезной книге вдруг написано, что Эмпедокл сказал нечто Филодендрону, – то и это чушь собачья, ибо это сотню лет спустя сочинил какой-то третий грек, чтоб именами усопших утвердить свою сомнительную правоту. У меня, кстати, в блокноте понаписано полным-полно различных мудрых мыслей, только возле каждой есть пометка, откуда она именно и чья. И мог бы я спокойно зачеркнуть эти пометки и начинить свою книгу мудрыми словами и идеями. Но я побаиваюсь подлинных чужих цитат, ибо опасно, если книга умнее автора. Кроме того, по-настоящему глубокие мысли всегда печальны и пессимистичны, а мне вовсе неохота утолщать жалобную книгу человечества. Хотя, с другой стороны, я где-то прочитал, что иметь на каждый случай подходящую цитату – это наилучший способ мыслить самостоятельно. Прямо не знаю, что лучше, – буду поступать по ситуации.
А вот действительно печальное в любых воспоминаниях – тот факт, что многое никак не выскажешь. Я вот о чем, я поясню это простым примером. Дочка моя Таня в возрасте лет четырех влюбилась в незамысловатую пластинку «Малютка-флейтист». Она слушала ее целыми днями – как только пластинка кончалась, она тут же ставила ее с начала и опять изнемогала от блаженства. Вскоре она выучила текст наизусть и занялась естественным детским террором: принялась ее пересказывать. Одной из первых жертв оказалась ее любимая тетя Лола, сестра матери. С подъемом и волнением излагая текст, минуты через три вдруг маленькая Таня остановилась и как-то напряженно замолчала.
– Забыла? – участливо спросила тетя Лола.
Танька, не сказав ни слова, отрицательно покачала головой.
– Так что же ты молчишь? – обеспокоенно спросила тетя Лола.
– Здесь музыка, – объяснила ей Таня.
И я как раз об этом же: никак не перескажешь всю ту музыку, что звучала в наших душах в разные года по поводу тому или иному, а гораздо чаще – просто так. И мемуары это сильно обедняет. А ведь хочется – ох, хочется! – представить свою жизнь красиво. Нет, не приукрасить, не приврать, а именно представить. И мне снова много легче объясниться на примере или случае.
Мне рассказывал один художник, начинавший некогда в Одессе. Он сидел во дворе своего густо населенного дома и изо всех юных сил подражал художнику Поленову – рисовал одесский дворик. Там висело на веревках разноцветное белье, и в том числе – исподнее, конечно, ему было весело и интересно среди этого пейзажа. Вышла ветхая старушка, повернула часть бельишка к солнцу непросохшей стороной и с недоумением спросила у юнца, зачем он это все рисует.
– Будет картина, – ответил он вежливо, – повезу ее на выставку в Москву.
Старушка покачала головой и удалилась. Через минут десять она снова вышла и залатанные старые подштанники, что сохли на веревке, заменила новыми и целыми.
– Если в Москву, – сказала она художнику, – пусть лучше будут эти.
Как раз об этом я и говорю.
К несомненным достоинствам моей книги следует отнести тот факт, что ее можно читать, начав с любого места и не подряд. Включая, разумеется, возможность не читать ее совсем. Но если все-таки вы станете ее листать (довольно частая ошибка у любителей воспоминаний), то наверняка наткнетесь на места, где с автором категорически не согласитесь. И закипят у вас разнообразнейшие возражения. Так вот, имейте в виду, что я заранее согласен с каждым вашим аргументом. Хотя согласие мое такого будет типа, как в истории, которую я некогда услышал.
У нас тут жили в Иерусалиме два пожилых плотника – Яков и Федор, русский и еврей. Они давно дружили, за работой предавались шумным философским спорам, будучи попеременно правы и не правы, только Яков обожал, чтобы за ним оставалось последнее слово. И однажды на какой-то довод Федора ему Яков сказал:
– Ты, Федя, рассуждаешь прямо как еврей. Ты, может быть, и есть еврей?
– Ты что? – обидевшись, ответил Федор. – Ты не знаешь, что ли? Хочешь, я тебе сейчас докажу?
– Да я твое доказательство вчера под душем видел, – досадливо отмахнулся Яков.
Но Федор в полемическом задоре вынул все-таки и предъявил свое доказательство.
– Да, ты не еврей, – задумчиво согласился Яков, лихорадочно соображая, что все-таки не за ним остается последнее слово. И язвительно добавил: – Но и это – не хуй!
Все мемуары пишутся еще и для того, чтоб неназойливо и мельком похвалиться и похвастаться. А у меня для этого хранится в памяти (и там пребудет вечно) удивительный житейский эпизод. Пять лет назад я получил на свое шестидесятилетие уникальный по душевной ценности подарок. Для того чтоб рассказать о нем точнее, я отступлю от юбилея на полгода назад. Я получил тогда из Нью-Йорка от своего друга Юлия Китаевича довольно странное письмо. Он собирался торговать с Россией всяческой медицинской аппаратурой и просил меня прислать ему список людей (в Америке, в Германии, в Израиле, в России), с которыми я был настолько близок и которым я настолько доверял, что Юлик мог спокойно обратиться к ним за разными наводками на сведущих людей и вообще с некими вопросами. Я пожал плечами, смысла обращения не понимая, но немедленно составил такой список. Он оказался довольно обширен – помню, как я хмыкнул не без удовольствия, как много у меня по свету развелось за жизнь приятелей. И Юлий всем им позвонил. Но вовсе не с той целью, о которой говорилось мне. Он предложил им скинуться по сотне долларов, чтоб к юбилею изготовить мне некий поразительный подарок. И никто из них не отказался. В день юбилея я получил отменно изданный сборник своих стихов, который никогда не составлял. Он явился в свет «без посредством отца», как говорили некогда в Одессе. Его составили Саша Окунь и Дина Рубина. А все стихи перепечатывала (у меня под носом, на моем компьютере, мне только стоило уйти) моя жена Тата. Вообще об этом знали человек, наверно, двести, и ни один не проболтался! Для интеллигентов это крайне редкое явление. Полным идиотом в этой ситуации был только я, ни разу ничего не заподозрив за полгода. Более того: за месяц до юбилея я пришел в любимый всеми нами ресторан «Кенгуру», и владелица ресторана Лина спокойно обсудила со мной меню на тридцать человек (на больше не было финансов), мне ни слова не сказав о том, что ужин ей уже заказан – и не на тридцать, а на сто двадцать человек – от собранного оставались деньги. Тата стала волноваться только за день приблизительно – все спрашивала у меня, не склонен ли я к инфаркту от различных неожиданностей жизни. Я, тупица толстокожий, ухмылялся, ничего не понимая. Возле самой двери в ресторан мне Тата вдруг заботливо сказала – «ты держись», но я и это понял как ее всегдашнюю боязнь, что я наговорю различных глупостей. И тут я все увидел. Ибо все уже сидели чинно за столами, а посреди зала огромной и прекрасной грудой возлежал тысячный тираж впервые мной увиденного сборника «Открытый текст». Он издан был со вкусом и размахом. А те, кто скидывался, – каждый получил номерной экземпляр в роскошной обложке из холстины. Мне такой достался тоже. Нет, я не расплакался при входе, удержался, я заплакал чуть попозже, уже выпив и пытаясь что-то благодарственное несвязно лепетнуть. Я, наверно, что-нибудь высокое хотел сказать – об уникальности такого дара дружбы и о безмерной благодарности моей, но так как я к высоким изъявлениям не приспособлен, то мой чуткий организм – чтоб выручить меня – и заменил слова слезами.
И еще одна короткая история, пригодная для праведного хвастовства. Совсем недавно в Бутырской тюрьме состоялось уникальное для заведений такого рода мероприятие: выставка московских художников. Они развесили свои работы в большом зале, и зэкам эта выставка будет доступна. Накануне открытия художник Боря Жутовский спросил у начальника тюрьмы, может ли прийти на нее Игорь Губерман – сейчас он тут в Москве, но у него израильский паспорт. И начальник тюрьмы ему ответил незамедлительно и кратко:
– Губермана я сюда пущу по любому паспорту и на любой срок!
Хорошо, если книжки начинаются одинаково, подумал я, тогда немедля видно, что писал один и тот же автор. По глубине этой догадки легко понять, что я уже немного выпил и теперь был склонен размышлять о книге моих странствий. И в пространстве, и во времени, разумеется. Что наша жизнь, как не дорога? Да еще с заездами в различные отменные места. Ибо любая заграница интересна своими иностранцами, подумал я и записал эту удавшуюся мысль. А так как предыдущая моя книжка воспоминаний где-то в самом начале повествовала о выпивке по пути в Америку, то вот сейчас, летя в Австралию, мне стоило подробно описать одиннадцать часов тоски по сигарете. Пожалуй, ситуация сейчас была потяжелей, чем в лагере – там не хватало табака, а здесь его полно было со мной, но было негде. Попирались на глазах моих святые человеческие права, но борцов за них пока что не нашлось. Да, мы курящее меньшинство, но сексуальное такое же давным-давно уже боролось за свои права! Так почему же нам, подобно гомосекам и лесбиянкам, не выйти на улицы городов с протестом против ущемления? Жизнь в самолете обещала быть тяжелой по еще одной причине: стюардесса (из Малайзии или с Филиппин, если это не одно и то же) явно была фраппирована (если я верно понимаю это слово) моим непрерывным выпиванием, ее это чем-то задевало. Она наливала мне с потухшим взглядом и со скорбно сжатыми губами. Только я ничем не мог помочь ей, видит Бог. А то, чем я бы мог ей помочь, она отвергла бы с негодованием, ибо, по сухости фигуры судя и по общей грустности лица, была из этих (не люблю даже названия), отъявленных от собственной обездоленности. Такими пополняются международные террористические группы, подумал я. А может, так оно и есть? Я присмотрелся к ней внимательней и убедился в точности догадки. Взгляд мой оценив неверно, но правильно, она молча налила мне виски. И внезапно улыбнулась, так похорошев и помягчев, что я почувствовал себя мерзавцем и еще острее захотел курить. А за окошком самолета протекала невообразимая красота: по ровной синеве величественно плыли белые льдины, острова, торосы, снежные холмы и просто ледяные завихрения. Красота дороже денег, подумал я, но деньги нам нужней. И вдруг мне стало ясно, что природа воздушной и водяной стихии имеет нечто общее между собой. Научность этой мысли потрясла меня. Я вообще ужасно мало, плохо и дремуче образован. Много лет я собирался как-нибудь при случае свой уровень повысить, но потом одну ужасную историю услышал и раздумал. Дальний родственник моей жены Таты, приняв пагубное решение образоваться, кинулся на старости лет читать энциклопедию. И что вы думаете? Умер на букве «В». Про это помня, я остался темен и дремуч. Поэтому и приходящие мне в голову идеи об устройстве мироздания всегда меня волнуют своей свежестью.
А так как единственное, что может сравниться по глубине и размаху с моим невежеством, – это мое доброжелательство к окружающей среде, я от нахлынувших высоких чувств чокнулся своим виски с соседом – англичанином, сосавшим из соломинки томатный сок. Он дико возбудился, полагая, что разрушено и попрано его многолетнее одиночество внутри занудной собственной натуры. И заговорил, бедняга, на присущем ему безупречном английском, не понимая, что каждым звуком своей родной речи он невозвратно разрушает нашу только что проклюнувшуюся близость, ибо языков не знал я и не знаю никаких. А если бы и знал, то хер бы стал я тратить на пустые разговоры время размышлений о родстве стихий. Тут я случайно выпил белого сухого – просто рядом наливали именно его, и мне так понравилось, что я немедленно повторил. Я выпил бы еще, но коляска уже чуть отъехала, и я решил записать часть своих мыслей.
Увидав, что я еще и пишу, англичанин просто охуел. Ни слова не произнося, он долго на меня смотрел, в душе себя коря, конечно, за нарушение пресловутой английской корректности. Он, видимо, хотел меня узнать – а вдруг я кто-то? Но, не опознав, сообразил, что и Шекспира знали в лицо немногие его современники, утешился и засопел, причмокивая.
А я уснуть не мог. По двум причинам сразу. А точней – по трем, но надо по порядку. Я вдруг вспомнил, как летел куда-то, и под самолетом расстилались не плавные снежные и ледяные поля, а вовсе наоборот – немыслимо курчавые и завитые. Словно огромного размера белый баран проглотил наш земной шар, и только некоторых за умеренную плату выпускает полетать вокруг него. И я был очень рад, что это вспомнил, потому что твердо знал: уж если взялся я писать, то должен мыслить образами, где-то я это читал. А тут отменный образ появился сам, и я неслышно ликовал. Коляска с выпивкой еще не ехала – это и было второй причиной моей творческой бессонницы. А третья состояла в том, что впереди неподалеку распустился белый экран, и стали нам показывать кино. Я сразу же хочу предупредить, что я от этого кино так получшел душой, так вырос нравственно, что не могу его не рассказать. Я звук не слышал, ибо надевать наушники бессмысленно мне было, я ведь все равно не понимаю иностранной речи, так что мной рассказанное может со сценарием совсем не совпадать. Но что из этого? Ведь если бы я понимал, тогда сюжет владел бы мной, а так – я полностью владел сюжетом и как раз поэтому возвысился душой.
Я самое начало продремал, но главное и было чуть попозже. Там отец бил сына. Или моложавый дедушка – подростка внука. Лучше пусть будет отец. Он музыкант, и сына он учил тому же, только сын его нечаянно обидел пожилую учительницу музыки, а та еще отца его учила, и отец ударил сына по лицу. Это такой трагедией явилось для обоих, что сразу вспоминался Гоголь с его Тарасом Бульбой, потому что для еврея стукнуть внука – это тяжелей намного, нежели казаку сына застрелить. А что эти сын с отцом (дед с внуком) евреи, никакого сомнения не было, потому что оба – музыканты. И тогда отец от горя, что ударил внука, пошел переживать на какую-то очень темную улицу, где его подстерегало еще одно моральное падение в виде какой-то пожилой проститутки с некрасивым высохшим лицом и дико скрюченной невыдающейся фигурой. Только он с ней трахаться не стал, а сел на скамейку разговаривать и закурил (вот сволочь, я не мог этого сделать!). А в это время внук одумался после таких побоев, весь душевно возродился и потрясающе сыграл на скрипке на каком-то выпускном вечере. (Возможно, это было пианино, я плохо вижу без очков, а чтобы опознать по звуку, наушники я брать не стал, я все равно язык не понимаю.) Играл он очень, очень хорошо. Как Бог играл он. Как Шопен, когда вошла Жорж Санд. И сам от собственного впечатления, когда пошел домой, то ебнулся в обморок. А на дворе дождь, и поднять его некому. Но что вы думаете? Дождь прошел, мгновенно все подсохло (даже лето, кажется, сменилось на зиму), он сам поднялся и идет (очень подрос за это время) и встречает девушку – она была уже в начале, он тогда ее обидел тоже. А она давно его простила, ей только хотелось его встретить, чтоб ему об этом рассказать. И вот они уже потрахались (а дедушки с отцом нет дома), и она уснула, а у него в голове – мелодии и разные пейзажи. И тогда бежит он в зал, где играет та старушка учительница, которой он в детстве нагрубил (за что его отец и стукнул), и он идет прямо на сцену и, вовремя угадав, переворачивает ей нотную страницу. Тут она взорлила и заиграла со страстью Рихарда Вагнера на еврейских похоронах. А в зале уже плачет его дедушка (довольно сильно постарел, так что, наверно, дедушка).
И кончилось кино. Я так душевно вырос от него, что постеснялся беспокоить стюардессу и отпил из собственной бутылки, наплевав на самолетную халяву. Но перебрал. В силу чего проснулся я уже в Бангкоке. Да, до Австралии оставалось еще столько же, и вечер, ночь и утро мне предстояло отдохнуть в Таиланде. Как я там курил тяжелые наркотики и как валялся я в массажных заведениях – притонах (где кидают прямо в ванну какую-то ароматическую травку), – я об этом умолчу, ибо приятели мне не поверят все равно, а жена поймет меня неправильно, решив, что я все это делал ради достижения блаженства, а не ради сбора информации для книги. Но спал я плохо в эту ночь, поэтому назавтра всю дорогу до Австралии (и стюардесса наливала мне от сердца) я проспал, а снились мне наркотики и ванна с травкой. Даже не припомню, кто со мной рядом сидел. По-моему, сидел кто-то, но при первой же возможности пересел. Чтоб я так жил, как я храплю, подумал я меланхолически. Я прихватил с собой в дорогу «Божественную комедию» – хотел прочесть ее еще раз (ибо ни разу не читал), но так и не раскрыл, хотя она валялась рядом. Как-то мельком глянув на нее (поскольку чуть не выплеснулось пиво), я подумал, как мельчает со временем значение и смысл однокоренных слов: Данте – Дантес – дантист, но развить эту идею не успел, везли обед. А после самолет летел довольно низко, и в просветах между облаками плыла пустыня и холмы. Я сразу догадался, что уже летим мы над Австралией. Очень хотелось послать телеграмму соболезнования вдове капитана Кука, но я в точности не помнил, где его съели, а телеграфировать откуда ни попадя мне было неудобно. Время течет, а я лечу, подумал я с законной гордостью, и мысль эту сразу записал. Из нее, конечно, следовал какой-то вывод, резюме или мораль, и знал бы я, какие именно, то тоже записал бы. Только я не знал. Поэтому я снова задремал, а перед самым Мельбурном опять везли коляску с выпивкой.
Теперь, когда понятно вам, читатель, что за книгу эту взялся не поверхностный турист, а настоящий и заядлый путешественник, могу я смело начинать свои истории о странствиях по жизни.
Часть I
Житейский пунктир
Стоп-кадры
Что память наша – это дикого размера мусорная куча – знает каждый, ибо каждый что-то вспоминал или пытался вспомнить. Те психологи и психиатры, что изучают память, пишут о связи воспоминаний по смысловой ассоциации, по созвучию, подобию внешнего вида, совпадению по времени, даже в соответствии с настроением. Я когда-то читывал статьи и книги о связях и цепочках, по которым расположено былое наше, но, копаясь в собственной памяти, понимаю снова и снова тщетность всех попыток угадать систему этой свалки. Только знаю точно, что какие-то события и факты запечатлены там прочно и надолго. То и дело в памяти они всплывают кстати и некстати, я сейчас на чистый лист этой главы их выложу без всякого порядка, перескакивая через время и пространство, ибо время все равно одно – лично мое, текущее то вяло, то взрываясь, а пространство – слава Богу, что пришлось дожить – уже повсюдное и разное.
Все годы молодости моей – непрестанное сидение в Ленинке, я другого названия и не употреблял никогда для любимой этой библиотеки. Старожилы-завсегдатаи наверняка помнят и старую курилку – огромную комнату в подвальном этаже, где стоял неописуемых размеров стол – за ним запросто уместилась бы небольшая международная комиссия по разоружению, а вместо пепельниц стояло три или четыре столовских металлических подноса. Стульев было несколько, но на них почти не сидели, потому что вечно шла какая-нибудь шумная дискуссия, а спорить легче стоя. Самые животрепещущие темы тут не обсуждались – времена были не те, хотя уже попахивало устным вольномыслием. К тому же за столом в торце или у стенки всегда сидел дежурный стукач – они менялись, разумеется, но многих из них знали в лицо. Кстати, всегда весьма интеллигентное. Я голову даю на отсечение, что бедолаги эти все поумирали от болезней легких или сердца: смену высидеть в таком дыму было нагрузкой каторжной, да все они притом еще курили сами. Высоченный потолок от дыма не спасал. Я там толпился с упоением, завел много знакомых и общался с ними, часто забывая имя, произнесенное мне накануне или с неделю назад: калейдоскоп имен и лиц там был невообразимый. И не сиротливые телефоны-автоматы там тогда висели на стенах, как сейчас, а стояли две добротные закрытые будки. Много ли еще живо читателей, помнящих, как снесли эти будки? А я, честно сказать, и сам бы позабыл, но мне это совсем недавно напомнил старый приятель, когда мы с ним пили водку в Вашингтоне. Дело было так: внутри одной из будок появилась надпись – авторучкой, но обведенная трижды и заметная весьма: «Бей жидов, спасай Россию!» Обсудили эту надпись сдержанно, какие тут могли быть комментарии? Слегка поспорили, должна ли обслуга библиотеки это стирать – решили, что не обязательно. А через пару дней наша дискуссия приобрела настенный характер: появилась надпись рядом: «И жидов не перебьешь, и Россию не спасешь!» Исторический пессимизм этой второй заметки администрация явно должна была пресечь – уже хотя бы потому, что ее несомненно сделал какой-то злокозненный еврей. Тут согласились все. Администрация молчала. Третья надпись появилась очень вскоре. Начиналась она так: «Я полагаю…» Сразу же возникал образ некоего чудом уцелевшего старорежимного интеллигента, который выписывал свое наболевшее мнение, поминутно поправляя или же ловя спадающие с переносицы очки. «Я полагаю, – писал он, – что бить жидов столь же нецелесообразно, как спасать Россию». Конец цитаты. Но мелочиться и закрашивать следы народного мышления администрация сочла излишним, принят был вариант радикальный: обе будочки снесли, и на стене повисли бездушные казенные автоматы. А дискуссия, как всем известно, двадцать лет спустя выплеснулась на страницы прессы, только мнения по-прежнему те три, ничего нового общественная мысль пока не родила.
Год шестьдесят второй, ранняя осень. Дома у нас не было телефона, бегал я звонить в скверик на Ленинградском шоссе. Звонил я некоему редактору из издательства, мой голос был почтителен, хотя волнения не выдавал. Еще через минуты две являл я дивное собой, должно быть, зрелище: здоровый и по виду полностью в уме амбал подпрыгивал у телефонной будки, стоя на одной ноге попеременно и руками нечто тоже танцевальное выделывая. Только минут через двадцать я унял таким образом свое восторженное возбуждение. Это узнал я, что со мной заключен договор на крохотную (первую в жизни!) книжку (а точней – брошюру) под волнующим и романтическим названием «Локомотивы настоящего и будущего». Тиражами в несколько сот тысяч экземпляров издавались впоследствии мои разные книжки – толстые и подлинные книжки, но такого удивительного счастья больше я уже не испытал.
А спустя три года вышла моя первая толстая книжка – о науке, очень шумно обсуждавшейся в те годы, – о бионике. Наука эта занималась идеями, которые заимствовал человек у живой природы. И некая была там примечательность, которой тайно я гордился: книга начиналась со стиха Иосифа Бродского о сожженном некогда ученом Мигуэле Сервете. Это было первое (если не единственное) большое стихотворение его, напечатанное в империи. Он уже тогда был в ссылке, а вернувшись, получил от меня свой гонорар. И тут же вспомнился мне вечер незапамятного дня (а это – года за два до суда над ним, я в Питер приезжал в командировку), когда уже растущая повсюду слава Бродского накрыла дивный ужин восьмерым разгильдяям. Именно в таком числе пришли мы к очень известному коллекционеру, профессору Технологического (если не вру) института. Смотрели поразительную живопись (там было много Фалька, видел я его впервые), болтали все наперебой, потом хозяин попросил Иосифа почитать, тот не ломался, а меня тем временем случайно занесло на кухню, где хозяйка уже поставила чайник и насыпала на тарелочку печенье. Тут вдохновение напало на меня, и что-то я сказал проникновенное о неприкаянном большом поэте, не евшем с самого утра. Как-то получилось вставить, что и мы с ним были с самого утра все вместе, – чуть не прослезившись, хозяйка стыдливо ссыпала печенье обратно в пакет и выключила чайник. Вот те на, подумал я, увидев несомненный вред от болтовни своей, и удрученно поплелся в комнату. А минут через двадцать гостевальный стол в парадной комнате ломился от еды и выпивки!