
Полная версия
Достоевский / Dostoyevsky
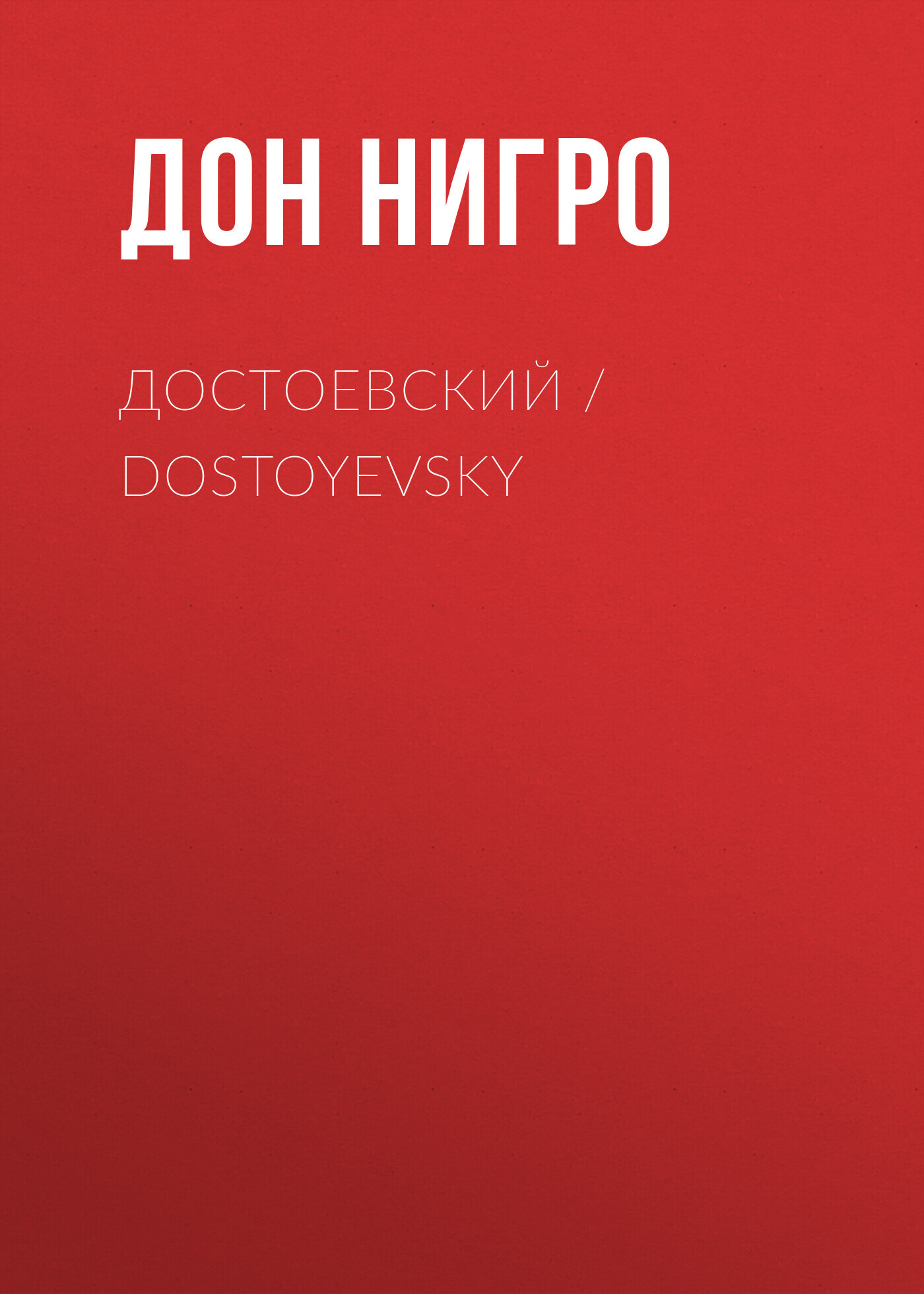
Дон Нигро
Достоевский
Don Nigro
Dostoyevsky/2015
Перевел с английского Виктор Вебер
* * *Действующие лица:
ДОСТОЕВСКИЙ
СТАРИК КАРАМАЗОВ/1-й БЕС/ИСАЕВ
ТУРГЕНЕВ/2-й БЕС/ДВОЙНИК/ПОЛЬСКИЙ ДВОРЯНИН
ПУШКИН/ЧЕРТ/ВЕРГУНОВ/3-й БЕС
ГОГОЛЬ/ФЕТ/ДЕРЕВЕНСКИЙ ДУРАЧОК/ТОЛСТОЙ/4-й БЕС
МАРИЯ
ПОЛИНА
АННА
ФЕДОСЬЯ
ГРУШЕНЬКА/МАТЬ/КАРЕНИНА
Декорация:Различные места в России и в других странах. Закругленные лестницы справа и слева от центральной платформы ведут к площадкам. От них прямые лестницы к сцене. Справа на авансцене письменный стол и стул. Деревянная мебель, фрагменты стен, на которые проецируются тексты книг. В глубине сцены, справа от центральной арки, кровать. В глубине сцены, слева от центральной арки, круглый деревянный стол и стулья. Слева на авансцене скамья. Разбитые и треснутые старые зеркала, включая большое овальное зеркало слева, практически пустая рама. Центральная арка-проход под платформой одновременно служит и тюремной камерой.
Актеры могут входить и выходить отовсюду: слева и справа на авансцену, по центральную арку, по задним лестницам на обе лестничные площадки и на платформу в глубине сцены. Часто персонажи могут оставаться на сцене в картинах, где непосредственно не участвуют, наблюдать или заниматься своими делами, если это имеет какое-то отношение к разыгрываемой на сцене картине. Это ненавязчивое постоянное перемещение персонажей на сцене – прямое указание на сумбур в его голове, так же, как и переход картин из одной в другую без малейших пауз. Движение пьесы – всегда ее неотъемлемая часть.
Действие первое
1. Черт съел Луну
2. Семнадцать деревьев во дворе
3. Бездна
4. Мертвый дом
5. Анна
6. Ваша жена такая красивая
7. Любой может быть кем угодно
8. Столовые ложки
9. Бессмысленная похоть
10. Случилось что-то ужасное
11. Никто не может быть достаточно хорош
12. Тургенев смеется
13. Красота – это кошмар
14. Опасная личность
15. Любовь – это болезнь
16. Человек, грезящий, что он писатель
17. Не стойте, вытаращившись на меня
Действие второе
18. Толстой
19. Страждущий
20. Фатальная брачная ночь
21. Мы наказываем людей, которые нас любят
22. Полина, которая не была такой ужасной
23. Злоупотребление доверием
24. Ты чуть опоздал
25. Колесо рулетки
26. Особо отвратительное насекомое
27. Все предают всех
28. Отчаявшийся человек
29. Невозможная личность
30. Яд
31. Красное. У нас красное
32. Константинополь или никто так себя не ведет
«По азарту, с каким ты отвергаешь меня, – засмеялся джентльмен, – я убеждаюсь, что ты все-таки в меня веришь».
Черт Ивану в «Братьях Карамазовых.Действие первое
Картина 1
Черт съел Луну
(В темноте слышны завывания ветра и голоса в казино. Загорается тусклый свет, и мы видит тень гигантского вращающегося колеса рулетки, слышим шуршание, с которым оно вращается, стук маленького шарика по лункам при вращении колеса и доносящаяся издалека мелодия «Ах, мой милый Августин/ Ach, Du Lieber Augustin», которую наигрывают на оркестрионе. Мы также видим МАРИЮ, лежащую на кровати, СТАРИКА КАРАМАЗОВА, выглядывающего из овального зеркала, АННУ и ПОЛИНУ, сидящих на ступенях справа и слева, и ДОСТОЕВСКОГО, который пишет за столом).
ДОСТОЕВСКИЙ. Аккурат перед тем, как со мной такое случается, совершенно внезапно, посреди душевной темноты и отчаяния, мой мозг словно вспыхивает… (Громко чиркает спичка, трещит огонь, тени невидимых языков пламени бегут по сцене). И мгновенно мои жизненные силы прирастают многократно. (В свете невидимых языков пламени мы различаем слова или фрагменты слов, кириллицей, как он пишет, сидя за столом, появляющиеся в разных частях сцены, словно мы видим проекции написанного им). Мои чувства обостряются до невозможности. (Рулетка вращается, как карусель, все громче играет оркестрион, и мы видим тени карусельных лошадок, кружащихся по сцене, теперь где-то шарманка играет другую версию мелодии «Ах, мой милый Августин», в разнобой с первой). Перед глазами сверкают молнии. Мои сердце и разум заливает слепящий свет. (Яркий луч перемещается по сцене, падает на ПУШКИНА и ГОГОЛЯ, сидящих в тюремной камере, под аркой). Тревоги и сомнения исчезают, меня наполняет всепобеждающее чувство радости и надежды и взвешенное осознание глубочайшей сущности вещей. (Начинает звучать третья версия мелодии «Ах, мой милый Августин», которую наигрывают на старом, расстроенном пианино, в разнобой с первыми двумя). И я понимаю, что разум – это болезнь, как и романтическая любовь.
МАРИЯ. Я люблю тебя. Но я также люблю и его. Нет, вообще-то, не люблю. Не знаю, почему я это сказала.
ДОСТОЕВСКИЙ. Но возможно ли, что заветное проникновение в природу реальности на самом деле есть проявление болезни?
ПОЛИНА. Я могу позволить тебе полюбиться со мной, но какой в этом смысл?
ДОСТОЕВСКИЙ. Да какая разница, если при этом мне даруется это святое ощущение завершенности, единения со всем, что окружает меня?
АННА. Все мужчины виновны за всех.
ДОСТОЕВСКИЙ. Жизнь – это азартная игра, в которую играют в зеркальном лабиринте, и нет ничего более странного и страшного, чем всматриваться в свое отражение в зеркале.
СТАРИК КАРАМАЗОВ. Ты – не мой сын. Ты вырос из плесени в бане.
ДОСТОЕВСКИЙ. Возлюбить ближнего своего, как себя, следуя завету Иисуса, невозможно. Добро и зло чудовищным образом перемешано в нас. Я – больной человек. Я – злобный человек. Любить меня не так-то легко.
(Грохот и паровозный гудок приближающегося поезда, потом звучит канкан из «Орфея в подземном мире/ Orpheus In The Underworld» и ТУРГЕНЕВ, вместе с ФЕДОСЬЕЙ и ГРУШЕНЬКОЙ по обе его стороны, пересекает сцену, танцуя канкан).
ТУРГЕНЕВ. Да, но сможете вы это сделать?
(Свет становится ярче, словно от прожектора приближающегося паровоза).
ДОСТОЕВСКИЙ. В этот последний момент, эта чрезвычайно обостряющаяся осознанность, это ясное ощущение собственного существования… За этот момент я готов отдать жизнь… Но потом за это приходится платить, человек платит за это, как платит за любовь, страданием и глубочайшим унижением, какое только можно себе представить.
(Поезд все ближе, музыка громче, свет ярче, луч прожектора надвигающегося паровоза направлен на ДОСТОЕВСКОГО).
МАРИЯ. Чтобы увидеть Господа, надобно ослепнуть.
ПОЛИНА. И смерть не повредит.
ДОСТОЕВСКИЙ. Но потом, после этой крайней необычности, этого чувства безграничного счастья, этой сверхъестественной уверенности, что время – иллюзия, что потом?
АННА. Семнадцать деревьев во дворе.
ДОСТОЕВСКИЙ. После этой радости приходит чудовищное.
(Отвратительный смех, потом дикие крики, словно душ в аду, свет красный, карусельные лошади бесовские).
СТАРИК КАРАМАЗОВ (кричит). А-А-А-А-А-А-А-А-А-А! А-А-А-А-А-А-А-А-А-А! УБИЙЦА! УБИЙЦА! СТОЛОВЫЕ ЛОЖКИ! СТОЛОВЫЕ ЛОЖКИ!
(Звуки проходящего поезда, очень громкие, ДОСТОЕВСКИЙ содрогается и валится на землю, у него эпилептический припадок. Шум поезда стихает вдали, голоса смолкают, тени рулетки тают, остаются только завывания ветра).
ПОЛИНА. Черт съел луну.
2
Семнадцать деревьев во дворе
(Завывания ветра. ДОСТОЕВСКИЙ, ГОГОЛЬ и ПУШКИН в центральной арке в тусклом утреннем свете. Тюрьма).
ГОГОЛЬ. Не собираются они нас расстрелять. Не умрем мы через несколько минут.
ПУШКИН. У них военная форма и ружья. Кто их остановит?
ДОСТОЕВСКИЙ. Не могу поверить, что они действительно расстреляют нас. За несколько идей. За высказанное мнение. За использования разума.
ПУШКИН. Для этих людей идеи более опасны, чем бомбы. Гоголь, перестань ковырять в носу.
ГОГОЛЬ. Если я не буду ковырять в своем носу, кто будет? Пушкин, каково это, умирать? В тебя уже стреляли. Ты получил пулю в живот, на дуэли. Расскажи нам, каково это, чтобы мы не боялись.
ПУШКИН. Ты знаешь, каково это. Ты тоже умер.
ГОГОЛЬ. Да, но я уморил себя голодом во имя Господа. Это совершенно другое, в сравнении с тем, что тебя выведут во двор, привяжут к столбу, наденут колпак на голову и расстрельная команда изрешетит тебя, как сыр.
ДОСТОЕВСКИЙ. Им нет никакого смысла убивать нас. Не могу поверить, что Бог это допустит.
ПУШКИН. Бог делает все, что хочет, включая то, чего вообще нет.
ДОСТОЕВСКИЙ. Тебе легко шутить. Ты уже умер. Как может повредить тебе повторная смерть? Но я живой. Я еще ни разу не умирал.
ПУШКИН. Мертвым ты был очень долго, до того, как родился.
(МАРИЯ, ПОЛИНА и АННА появляются на верхней платформе, бросают лепестки цветов на ДОСТОЕВСКОГО, словно в могилу).
ДОСТОЕВСКИЙ. Меня больше тревожит не сама идея смерти, как момент убийства и мгновения, которые к этому ведут. Или тебе завязывают глаза, и тогда наступает момент, когда ты видишь мир в последний раз, или не завязывают, и тогда ты смотришь в ружейные дула до самой команды: «Пли!» Ты кожей чувствуешь холодное утро, и смотришь в глаза женщин, мимо которых проходишь к деревянным столбам, и вспоминаешь детство, пчел в яблоневом соду, эти воспоминания принадлежат только тебе, по-прежнему живут, а потом пули выбивают тебе глаза, и боль невероятная, и все уходит. Следом уходишь ты. Все уходит, словно ничего и не было.
ПОЛИНА. Черт съел луну.
ДОСТОЕВСКИЙ. Что-то здесь не так. Не те ощущения. Это опять сон?
ГОГОЛЬ. Нет ничего более невозможного, чем сама реальность. На этот счет необходимо принять закон. Избыток реальности убивает человека быстрее крысиного яда.
ДОСТОЕВСКИЙ. Неплохой сюжет. Человек верит, что он пишет роман о собственной жизни, но не поставив последнюю точку, раздражается, начинает переписывать. Меняет главы, вводит дополнительные линии, пытается создать что-то вразумительное из хаотичной массы воспоминаний, снов, выдумок. Но есть один момент, к которому он продолжает возвращаться: он стоит перед расстрельной командой. Он возвращается к нему снова и снова, но никак не может описать должным образом. Момент этот не дает ему покоя. Снится ему. Может, и сейчас он видит сон?
ПУШКИН. Наказание того, кто насмехается над Богом, создавая другие вселенные, в том, что его приговаривают к жизни в одной из них, заточению в одной из них, смерти в одной из них. Сначала ты это пишешь, потом это случается с тобой.
(ФЕДОСЬЯ и ГРУШЕНЬКА имитируют утреннее пение птиц).
ГОГОЛЬ. Послушайте. Что это? Это птицы? Уже заря. Они собираются нас убить. Нам предстоит умереть. Остановите птиц. Кто-нибудь, выключите птиц. Схватите солнце и заставьте вращаться в обратную сторону. Нет. Это не птицы. Птицы – замаскированные рептилии. Это бесы. Это все бесы. (По центру со скрипом открывается невидимая дверь Свет надает на трех узников. Входят ПЕРВЫЙ и ВТОРОЙ БЕСЫ. ДОСТОЕВСКИЙ спешит через сцену к своему столу. ПУШКИН и ГОГОЛЬ остаются. ПУШКИН держится стоически, ГОГОЛЬ в ужасе). Вот первые два. Доброе утро господа. Уже пора завтракать? Я буду яичницу-болтунью. Нет. Лучше оладьи. Вы же не убьете человека до ого, как он съел оладьи, так?
ДОСТОЕВСКИЙ. Все не так. Это был не Гоголь, и не говорил он об оладьях.
ПЕРВЫЙ БЕС. Заключенный Гоголь?
ГОГОЛЬ (указывает на ДОСТОЕВСКОГО). Это он. Вон там.
ВТОРОЙ БЕС (хватая ГОГОЛЯ). Пойдешь с нами.
ГОГОЛЬ (когда БЕСЫ утаскивают его). Нет. Пожалуйста. Вы делаете ужасную ошибку. Вы не можете меня убить. Я – великий писатель с очень большим носом. И я уже умер. Нет. Бесы! Бесы!
ПУШКИН (смотрит на ДОСТОЕВСКОГО). Очевидно, самый уродливый уходит первым. Это означает, что следующий – ты.
(Падающий на них свет меркнет).
3
Бездна
(Поздний вечер. АННА спускается по лестнице и зажигает свет. ДОСТОЕВСКИЙ спит на полу у письменного стола).
ДОСТОЕВСКИЙ (еще не вырвавшись из сна). Я не самый уродливый. Ты самый уродливый.
АННА. О чем вы? Что не так теперь? Кого вы называете уродливым?
ДОСТОЕВСКИЙ. Пушкин следующий. Не я. Пушкин.
АННА. Вы заснули, когда писали, и вам приснился кошмар. Если будете продолжать в том же духе, однажды проснетесь с пером в носу.
ДОСТОЕВСКИЙ. Я был с Пушкиным и Гоголем. И Гоголь что-то говорил о своем носе. И первым они забрали самого уродливого, потом собирались забрать меня, а это совершенно несправедливо. Вы думаете, я уродливее Пушкина?
АННА. Нет. Пушкин давно уже умер. Сейчас он точно уродливее вас.
ДОСТОЕВСКИЙ. Это так ужасно.
АННА. Что?
ДОСТОЕВСКИЙ. Вам не понять.
АННА. Вы не знаете, что я понимаю. Вы не знаете меня.
ДОСТОЕВСКИЙ. Разумеется, я знаю вас. Вы… Как вас зовут? Людмила?
АННА. Анна.
ДОСТОЕВСКИЙ. Нет. Я так не думаю.
АННА. Вы думаете, что знаете мое имя лучше меня?
ДОСТОЕВСКИЙ. Имена очень важны. Если дать персонажу неправильное имя, ничего не получится. Это как магическое заклинание. Скажи его задом наперед, и бес тебя сожрет.
АННА. К счастью, я – не персонаж.
ДОСТОЕВСКИЙ. Разумеется, вы – персонаж. Каждый – персонаж. Не желаете сигарету?
АННА. Я не курю.
ДОСТОЕВСКИЙ (кричит кому-то за сценой). ФЕДОСЬЯ! (АННА подпрыгивает от неожиданности). Не волнуйтесь. Единственная служанка, которую я смог найти, очень молода, глуховата или глуповата, может, и то, и другое. Одному Богу известно, где она. Я думаю, прячется в чулане. (Кричит снова). ФЕДОСЬЯ!
АННА. На ее месте я бы тоже пряталась.
ДОСТОЕВСКИЙ. Как, вы говорите, вас зовут?
АННА. Анна.
ДОСТОЕВСКИЙ. Изволите пирога?
АННА. Нет, благодарю.
ДОСТОЕВСКИЙ. Хорошо, потому что у меня его нет. Во всяком случае, не думаю, что есть. Как насчет чая? (Берет чашку с чаем). Он не такой и… (Отпивает глоток, выплевывает). По вкусу лошадиная моча. (Кричит). ФЕДОСЬЯ!
(Вбегает ФЕДОСЬЯ, маленькая, тощая, суетливая, перепуганная).
ФЕДОСЬЯ. Да, барин?
ДОСТОЕВСКИЙ. Чай остыл. На ковре грязь, и что-то ползает в моей чашке.
ФЕДОСЬЯ. Я уберу, барин. (Лезет пальцем в чашку).
ДОСТОЕВСКИЙ. Не суй туда пальцы. У тебя ума, как у навозной мухи.
ФЕДОСЬЯ. Извините, барин. Уже очень поздно. Я заснула.
ДОСТОЕВСКИЙ. Ладно, приготовь чай, прежде чем пойдешь спать.
ФЕДОСЬЯ. Да, барин. (Убегает, тут же возвращается). Мне не туда. (Снова убегает).
ДОСТОЕВСКИЙ. Она – слабоумная, но никого другого я найти не могу. Слуги бегут от меня, как крысы. Я слишком часто просыпаюсь ночью с криком. Это мистический ужас. Внезапный, необъяснимый, иррациональный ужас. Приходит ко мне ночью. Я часами не могу заснуть, а когда наконец-то засыпаю, мне снятся эти ужасающие кошмары.
АННА. Вероятно, ветры.
ДОСТОЕВСКИЙ. Это не ветры.
АННА. Иногда от тушеной капусты в животе у человека образуются ветры.
ДОСТОЕВСКИЙ. Это не капустные ветры. Это мистический ужас.
АННА. Ужас чего?
ДОСТОЕВСКИЙ. Ничего.
АННА. Это не ничего. Наверняка что-то, раз вы этого боитесь. Человеку нужно знать, как называется то, чего он боится. Тогда он сможет предпринять что-то конкретное. Если он в ужасе от пауков, то может на них наступить и раздавить.
ДОСТОЕВСКИЙ. Я не боюсь пауков.
АННА. Немножко боишься. Вчера вы заставили меня убить того паука.
ДОСТОЕВСКИЙ. Мне не понравилось, как он на меня смотрел. Но я говорю не о пауках.
АННА. Тогда о чем?
ДОСТОЕВСКИЙ. Все объяснения – ложь.
АННА. Возможно, поговорить об этом полезно.
ДОСТОЕВСКИЙ. Почему?
АННА. Потому что вы страдаете.
ДОСТОЕВСКИЙ. Разумеется, я страдаю. Я живу. Да какое вам до этого дело?
АННА. Если я начну работать у вас, я хочу понимать, что меня ждет. Человек, который засыпает за письменным столом и просыпается с криком, чего-то боится. Чего боитесь вы?
ДОСТОЕВСКИЙ. Бездны.
АННА. Какой бездны? У вас тут бездна? Мне следует смотреть под ноги?
ДОСТОЕВСКИЙ. Бездны на самом краю сознания. На самом краю того, что человек знает, или думает, что знает, начинается огромная, иррациональная тьма, так похожая на пустоту между звездами, дожидающаяся, пока ты в нее свалишься.
АННА. Не следовало вам есть ту сосиску.
ДОСТОЕВСКИЙ. Не в сосиске дело.
АННА. Особенно после штруделя. Никогда не смешивайте тушеную капусту и сосиску со штруделем.
ДОСТОЕВСКИЙ. Дело не в капусте и штруделе. Я веду речь о природе сознания, о самопознании, которое включает все попытки человека осмыслить его.
АННА. Что произошло, когда вы съели сосиску в последний раз?
ДОСТОЕВСКИЙ. Может, хватит говорить о сосисках? Неужели вы не видите, что я на дне ада. Меня собирались расстрелять.
АННА. Кто собирался вас расстрелять?
ДОСТОЕВСКИЙ. Неважно. Это было давно.
АННА. Значит, сейчас вы в безопасности.
ДОСТОЕВСКИЙ. Я не в безопасности. Никто не может чувствовать себя в безопасности. Вся безопасность – иллюзия.
АННА. Может, вам лучше поспать. Поработаете утром.
ДОСТОЕВСКИЙ. Я не хочу спать. Что если я никогда не проснусь? Или если люди подумают, что я мертв и похоронят меня живым? Я могу проснуться в гробу, в двух метрах под землей. Если я не проснусь, не позволяйте хоронить меня. Оставьте в покое на неделю.
АННА. Грандиозно! Здесь и так запах, как от ног дьявола. Чего не хватает, так это трупа недельной свежести на кухонном столе. Может, лучше похоронить вас с горном. Если проснетесь, дунете в него. Или предложить скорбящим бить вас лопатой по голове, чтобы убедиться в вашей смерти. Выстроится очередь.
ДОСТОЕВСКИЙ. Это не смешно. Что может быть хуже, чем оказаться в гробу живым?
АННА. Работать у писателя?
ДОСТОЕВСКИЙ. Наверное, я кажусь вам безумным. Что мне сделать, чтобы вы поняли? Я просыпаюсь, а вокруг люди, и все смотрят на меня. Стаскивают меня по ступеням, бросают в карету и запирают в темнице на восемь месяцев. Некоторые впадают в отчаяние. Хранят гвоздь, чтобы повеситься на нем. Поначалу я думал, что стану одним из них. Но через какое-то время неизъяснимое спокойствие снизошло на меня. И из этого спокойствия великий огонь вспыхнул у меня в голове, как безумный лабиринт грез. (Тихая карусельная музыка, потом голоса людей из теней над ним, что-то шепчущие, иногда законченные фразы). Рассказы, стихотворения, романы, пьесы, эссе, все они роились в моей голове.
ДВОЙНИК (человек с картофельным мешком на голове). Проблема либералов в том, что они сентиментальны.
ГРУШЕНЬКА. Наступит день, когда он меня убьет.
СТАРИК КАРАМАЗОВ. СТОЛОВЫЕ ЛОЖКИ! СТОЛОВЫЕ ЛОЖКИ!
ДОСТОЕВСКИЙ. Персонажи тараторят, ландшафты, видения городских улиц, людей на них, как рыб в пруду, так много всего, что я, наверное, не успею все записать… Бог творения заполняет мою голову, чтобы передать мне все до того, как его разрушающий аспект сможет меня убить.
ДВОЙНИК. Когда мы возьмем власть, сентиментальности не будет.
ПОЛИНА. Спать с мужчиной, которого презираешь, иногда так сладко.
ЧЕРТ (пересекает сцену, держа в руках луну, похожую на очень большую булку). Если Бог умер, все дозволено. (Откусывает от луны и уходит).
СТАРИК КАРАМАЗОВ. СТОЛОВЫЕ ЛОЖКИ! СТОЛОВЫЕ ЛОЖКИ! СТОЛОВЫЕ ЛОЖКИ!
ДОСТОЕВСКИЙ. Потом тебе говорят, что завтра ты умрешь. Ты ждешь всю ночь, в состоянии невыносимого ужаса, твой разум не знает покоя, ты молишься о чуде, надеешься, что это сон, пока не слышишь, как пробуждаются птицы. (ФЕДОСЬЯ, ГРУШЕНЬКА и остальные имитируют щебетание птиц, все громче). И ты хочешь заставить их замолчать, потому что птицы приносят зарю. Они поют и поют, их все больше, шум становится невыносимым. Потом кто-то открывает дверь в твою камеру и ведет тебя длинным, сырым коридором во двор. Тебе зачитывают приговор: смертная казнь расстрелянием.
ДВОЙНИК. Каждый творческий человек – преступник, каждое произведение искусства – его преступление.
ДОСТОЕВСКИЙ. Мы прижаты спинами к столбам, рыдаем и что-то бормочем, на пороге уничтожения, в невообразимом ужасе. Перед нами ряд мужчин с ружьями, и через мгновения они начнут стрелять. Пули разорвут твою плоть. Ты представляешь себе боль, кровь. Ты задаешься вопросом, сколько тебе потребуется времени, чтобы умереть. Один из них подойдет, чтобы добить тебя выстрелом в голову? Будешь ты лежать в луже крови, моля о пощаде или просто глядя на него. Он посмотрит тебе в глаза, когда приставит ружье к твоей голове и вышибет тебе мозги?
АННА. Так они вышибли вам мозги? Это многое объясняет.
ДОСТОЕВСКИЙ. Нет. В самый последний момент, как в романе, прискакал посыльный, который привез указ царя о помиловании. Для одного из нас указ этот опоздал. Он сошел с ума.
ГОГОЛЬ (бегает взад-вперед). ДВЕРНЫЕ РУЧКИ! ДВЕРНЫЕ РУЧКИ! ДВЕРНЫЕ РУЧКИ!
ДОСТОЕВСКИЙ. Так что меня вместо того света отправили в Сибирь.
АННА. То есть вам спасли жизнь. Вы должны радоваться.
ДОСТОЕВСКИЙ. Но как я могу быть уверен, что мне спасли жизнь?
АННА. Но вы же здесь, со мной.
ДОСТОЕВСКИЙ. Но, допустим, в тот самый момент, когда они подняли ружья, чтобы выстрелить, вселенная расщепилась на две, и теперь две возможных реальности: одна, в которой моя жизнь спасена, и вторая, в которой меня застрелили. Как два черновых варианта романа. Я – тот, кто остался жив, представляющий себе, что меня застрелили? Или я тот, кого застрелили, представляющий себе, что я жив? Или, каким-то образом, я и тот, и другой?
АННА. Я практически уверена, что есть только один, потому что, будь вас двое, кто-нибудь уже застрелил бы другого.
ДОСТОЕВСКИЙ. Вообще-то, у меня такое ощущение, что моих «я» много, и я не могу отследить всех. Моя голова так забита людьми, болтающими и тараторящими, что я не слышу свои мысли.
ГРУШЕНЬКА. Кстати, о мокром снеге.
МАРИЯ. Почему человек ползет в курятник?
ПОЛИНА. Я была призраком, пишущим мемуары дьявола.
СТАРИК КАРАМАЗОВ. Жениться – все равно, что быть пожранным медведями.
ДОСТОЕВСКИЙ. Может, каждый на самом деле несколько человек, борющихся за контроль, как Бог и дьявол борются на земле за наши души. Ты просыпаешься, и можешь быть кем угодно. Я открываю глаза, лежу, не шевелясь и какие-то мгновения не уверен, то ли я действительно проснулся, то ли по-прежнему во сне, который, как пьеса. Или это пьеса? Комната выглядит странной, словно кто-то переставлял мебель, пока я спал, а потом возвращал на прежние места, но не так, чтобы точно.
АННА. Это не я. Я только что пришла. И все больше склоняюсь к мысли, что, вероятно, скоро уйду.
ДОСТОЕВСКИЙ. В событиях заключен смысл. Ты занимаешься своими делами. Слепо что-то делаешь. Но бывают моменты, когда я прозреваю, и все словно наполняется смыслом.
АННА. Может, вам взять отпуск.
ДОСТОЕВСКИЙ. Отпуск убьет меня. Писательство – как способность дышать. Я не могу перестать писать. Умру, если перестану.
АННА. Писательство не убережет вас от смерти.
ДОСТОЕВСКИЙ. Писательство позволяет увековечить иллюзию, будто я все еще жив. Мысли о писательстве поддерживали во мне жизнь в Сибири. Вы, скорее всего, не можете себе представить, каково это, быть на четыре года похороненным заживо в Омске, занимаясь тяжелым физическим трудом с преступниками. Меня словно заколотили в гроб. Полы прогнили. Мы воняли, как свиньи, и вели себя, как свиньи. Блохи. Вши. Тараканы. Отвратительные щи. Каторжник уронил топор в ледяную воду. Ему приказали нырнуть и достать топор. Мы обвязали его веревкой, и он нырнул. Начальник был пьян и приказал нам отпустить веревку.
СТАРИК КАРАМАЗОВ. ОТПУСТИТЕ ВЕРЕВКУ! ОТПУСТИТЕ ВЕРЕВКУ! СТОЛОВЫЕ ЛОЖКИ! СТОЛОВЫЕ ЛОЖКИ!
ДОСТОЕВСКИЙ. Мы не отпустили, нас избили, я чуть не умер. После этого меня прозвали Трупом. Но меня не отпускало великое чувство близости с другими каторжниками. Особенно с убийцами.
4
Дом мертвых
(Сибирь. ДОСТОЕВСКИЙ сидит на авансцене, между ФЕТОМ, одетым в лохмотья каторжником, и ПОЛЬКИМ ДВОРЯНИНОМ, другим каторжником, одетым чуть лучше. ФЕДОСЬЯ принесла им деревянные миски с жидкими щами. Они едят).
ФЕТ. Удивительно, что ты будешь есть, если достаточно голоден. А еще с кем ты будешь есть. Вот этот человек – поляк. Он здесь, потому что хотел взорвать русских. Ты – русский, но не выглядишь, как наш. Ты шпион?
ДОСТОЕВСКИЙ. Я – политический заключенный.









