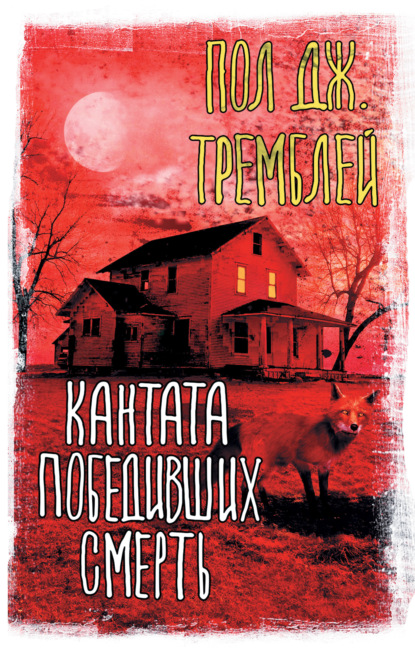Полная версия
Ночные страхи

Лесли Поулз Хартли
Ночные страхи
© The Estate of L.P. Hartley, 2001
© Перевод. Т. Покидаева, Д. Шепелев, 2020
© Издание на русском языке AST Publishers, 2022
Печатается с разрешения наследников автора и The Society of Authors.
Из предисловия к «Третьей книге о призраках», изданной под редакцией леди Синтии Асквит, 1955[1]
Л. П. Хартли
…Рассказы о призраках и привидениях – жанр отнюдь не простой. Это не наивысшая форма литературного творчества, но зато самая требовательная из всех форм и, возможно, единственная, не имеющая промежуточных вех между успехом и полным провалом. Такие истории либо сразу выходят на славу, либо не удаются вообще.
Рассказы о привидениях также требуют определенного антуража и настроения. Само размышление об этих историях дается мне не без труда: здесь и сейчас, под сияющим солнцем итальянского утра. Зримый материальный мир проявляет себя слишком ярко. Автору, сочиняющему истории о незримом и нематериальном, надо вносить коррективы в свое видение мира. Великолепные пейзажи Италии, здешние люди, открытые и прямодушные, искренне восхищают пришельца с севера, бодрят его и укрепляют дух, предоставляя ему извне некий аналог духовного витамина, каковым витамином в родной стране он может себя обеспечивать лишь изнутри – при условии, что может вообще. Даже самые пылкие приверженцы мистики в литературе признают, что вкус к данному жанру отдает некоторой ненормальностью и сохраняется, вероятно, как пережиток пубертатного периода – как дефицит ярких переживаний, болезнь, которой подвержены те из нас, чье воображение не реагирует на повседневный, обыденный опыт и нуждается в дополнительных острых ощущениях.
В детективных историях эти острые ощущения создаются при помощи ресурсов возможного; даже самые невероятные сюжетные перипетии всегда должны объясняться с точки зрения логики и здравого смысла. Но в рассказах о привидениях – историях, где не действуют законы природы, – события необъяснимы с такой точки зрения. Мистическая история, поддающаяся рациональному объяснению, – это такая же аномалия, как детектив, не поддающийся рациональному объяснению. Первая восстает против материалистических представлений о мироздании, а последний проистекает как раз из таких представлений.
Задача автора мистики тяжелее в том плане, что ему надо не только создать целый мир, где не действует наш здравый смысл, но и придумать законы для этого мира. Одного хаоса мало. Даже призраки и привидения должны соблюдать некие нормы и правила. В прошлом их действия подчинялись традиционным стандартам: например, привидениям было положено завывать и греметь цепями. Как правило, каждое привидение было привязано к определенному месту, за пределы которого не выходило. С тех пор их права и свободы изрядно расширились: они вольны перемещаться куда угодно и проявлять себя самыми разными способами. Подобно женщинам и другим угнетенным слоям населения, призраки и привидения добились эмансипации, их признали дееспособными, и теперь им доступно не только многое из того, что недоступно простому смертному, но и многое из того, что раньше было доступно лишь смертным. Нематериальные сущности получили возможность пользоваться благами нашей материалистической цивилизации.
Облегчила ли эта свобода работу писателям в жанре рассказов о призраках? С одной стороны, да, потому что теперь мы имеем небывалое разнообразие тем и сюжетов. С другой стороны, нет, поскольку с традиционным, скажем так, устоявшимся привидением управляться значительно проще, чем с привидением, чьи пределы возможностей неизвестны. Если оно только воет и гремит цепями, мы знаем, чего от него ожидать и как с ним работать. Если оно проявляет себя исключительно в форме запаха или потока холодного воздуха, мы тоже знаем, как с ним работать. Даже с такими простыми эффектами, если умеючи их применить, можно добиться большой выразительности. Но если призрак настолько похож на обычного человека, что никто даже не замечает особой разницы, тогда в чем заключается разница? Где проходит граница между призраком и человеком?
Призрак Банко может явиться на пир, сесть за стол и испортить веселье живым, но Шекспир не дает ему ни есть, ни пить. Я не могу привести пример с ходу, но совершенно не удивлюсь, если мне встретится современное привидение, вполне способное и есть, и пить. Демократия установилась и в мире духов. Всем всего поровну! Почему бы призракам не вкушать пищу, как вкушаем ее мы с вами? Нельзя отнимать у них это право! Мы выступаем за справедливость! И все-таки необходимо поставить предел продвижению призрачных сущностей в мире материи, иначе призраки станут совершенно неотличимы от нас, а такого быть не должно. В какой-то момент мы должны осознать, что перед нами именно призрак – это будет момент потрясения, неожиданности и ужаса, и по спине у читателя пробежит холодок.
Собственно, это и есть кульминация рассказа о привидениях. Та самая точка, которая определяет успех или провал всей истории; и чем больше выбор сверхъестественных проявлений, тем труднее найти наиболее убедительный вариант: ведь если призраку можно и то, и другое, и третье, то почему же нельзя и четвертое? Вправе ли автор лишать его этой малой свободы? Мы скажем, что автор творит произвол, что он пристрастен и деспотичен; он оскорбляет не только читательское чувство справедливости, но и эстетическое чувство тоже. В прежние времена, когда у призраков и привидений не было никаких прав и свобод, равно как и доступа к благам материального мира, авторам было гораздо проще. Найти убедительный ответ на вопрос: «Если призрак не может ни того, ни другого, ни третьего, то с чего бы он вдруг смог четвертое?» – действительно проще, чем на вопрос, заданный выше.
Я ни в коем случае не призываю отобрать у призрачных сущностей эти права и свободы. Может, они и добавили сложностей сочинителям мистических историй, но чем тяжелее борьба, тем ценнее победа, если история хороша. Все зависит от воображения автора: как он будет выкручиваться, сможет ли убедить своего читателя, что призрак способен, к примеру, общаться с живыми по телефону, но не способен общаться по рации. Иными словами, сможет ли автор составить свод правил для призраков и привидений, причем таких правил, которые мы согласимся – иони согласятся – признать.
Гость из Австралии[2]
«Кто придет и его заберет?»
Мартовский день начинался многообещающе, но под вечер погода испортилась. Пошел дождь, поднялся туман, и непонятно, чего было больше – тумана или дождя. Словоохотливый кондуктор в автобусе сообщал пассажирам, ехавшим в нижнем закрытом салоне, что вечер сегодня туманный, а тем, кто сидел на открытой палубе наверху, – что вечерок нынче изрядно промозглый. Однако в автобусе, как внутри, так и снаружи, царило вполне жизнерадостное настроение: ведь пассажиров, привыкших к неудобствам из-за капризов погоды, не напугаешь каким-то дождем и туманом. Впрочем, нынешнее ненастье все-таки стоило упоминания – даже признанные мастера светской беседы запросто говорят о погоде, не боясь показаться банальными. И уж что взять с кондуктора, который, как и большинство представителей своего славного племени, был мастак поговорить.
Автобус ехал по центру Лондона, завершая последний на сегодня рейс. Нижний салон был заполнен лишь наполовину. Наверху, как подсказывало кондуктору шестое чувство, еще оставался один пассажир, то ли самый выносливый, то ли просто слишком ленивый, чтобы прятаться от дождя. Автобус быстро катился по Стрэнду, и вот с верхней палубы донеслись шаркающие шаги, и обитые металлом ступени лестницы тяжело заскрипели под ногами спускавшегося пассажира.
– Есть еще кто-нибудь наверху? – спросил кондуктор, завидев кончик зонта и подол макинтоша.
– Вроде бы никого, – отозвался мужчина.
– Не то чтобы я вам не верю, – учтиво заметил кондуктор, подавая ему руку, – но, наверное, все-таки стоит сходить проверить.
С ним такое бывало: он иногда сомневался в собственной наблюдательности. Обычно это случалось, когда его одолевала усталость под конец долгого дня, но он старался не поддаваться сомнениям, считая их признаком слабости. Если начнешь потакать своим слабостям, сам же перестанешь себя уважать. «Совсем ты, старый, рехнулся», – сказал он себе и помог пассажиру спуститься с лестницы, с радостью ухватившись за эту возможность отвлечься и не терзаться сомнениями, точно ли наверху больше никого нет. Но беспричинная тревога не давала ему покоя, и, недовольно ворча и проклиная собственную дурость, он все-таки поднялся наверх.
К его удивлению – даже, можно сказать, изумлению, – его опасения оправдались. Совершив восхождение, он узрел пассажира на правом переднем сиденье, и тот, хотя его шляпа была плотно натянута на уши, воротник поднят, а между ними виднелся белый помятый шарф, явно услышал, как подходит кондуктор: он смотрел прямо перед собой, но вытянул в проход левую руку с зажатой между указательным и средним пальцем монетой.
– Веселый выдался вечерок, верно? – спросил кондуктор, чтобы хоть как-то начать разговор.
Пассажир не ответил, но монета (это был пенс) скользнула чуть глубже в щель между бледными веснушчатыми пальцами.
– Я говорю, что погода сегодня на редкость противная, – раздраженно пробурчал кондуктор, раздосадованный молчанием незнакомца.
Ответа по-прежнему не было.
– Куда едем? – спросил кондуктор тоном, предполагавшим, что, куда бы ни ехал молчун, это наверняка будет не самое приличное место.
– Кэррик-стрит.
– Куда? – переспросил кондуктор. Он прекрасно расслышал ответ, но в произношении незнакомца была какая-то странность, позволявшая сделать вид, будто он ничего не понял, а значит, имел основания переспросить и тем самым, возможно, унизить неразговорчивого пассажира.
– Кэррик-стрит.
– Так и сказали бы сразу, что Кэррик-стрит, – пробурчал кондуктор, компостируя билет.
Пассажир чуть помедлил и повторил:
– Кэррик-стрит.
– Да-да, я знаю. Не надо мне повторять по сто раз, – вспылил кондуктор, безуспешно пытаясь забрать у пассажира монетку. Он не смог подцепить ее сверху, она проскользнула слишком глубоко между сжатыми пальцами, и пришлось вытягивать ее снизу.
Монетка была холодной даже там, где соприкасалась с кожей.
– Знаете? – вдруг спросил незнакомец. – Да что вы знаете?
Кондуктор попытался отдать пассажиру билет, но тот даже не шелохнулся.
– Знаю, что вы шибко умный, – буркнул кондуктор. – Слушайте, уважаемый, куда мне засунуть билет? Вам в петлицу?
– В щель, – ответил пассажир.
– Какую, к дьяволу, щель? – изумился кондуктор. – Вы же не почтовый ящик!
– Между пальцами. Где был пенс.
Кондуктор сам не знал почему, но ему не хотелось прикасаться к руке странного пассажира. Его чем-то смущала эта рука – закостенелая и неподвижная, то ли замерзшая, то ли и вовсе парализованная. А поскольку дело происходило на верхней палубе, у кондуктора тоже озябли руки. Он честно пытался пропихнуть билет в щель между застывшими пальцами, но тот только мялся и складывался пополам. Кондуктор, который был человеком не злым по натуре, наклонился пониже и, держа билет двумя руками, сверху и снизу, все-таки вставил его в костлявую «прорезь».
– Ну как-то вот так, кайзер Вилли[3].
Возможно, пассажира обидел этот шутливый намек на его физический недостаток, возможно, он просто не хотел общаться, поэтому сказал:
– Больше не надо со мной разговаривать.
– Разговаривать с вами! – воскликнул кондуктор, окончательно выходя из себя. – Тоже мне удовольствие, разговаривать с соломенным чучелом! – Возмущенно бормоча себе под нос, он спустился в недра автобуса.
На углу Кэррик-стрит в автобус вошла небольшая толпа. Все ломились вперед, всем хотелось быть первыми, но особенно отличились три женщины, пытавшиеся протиснуться в дверь одновременно. Кондуктору приходилось надрывать горло, чтобы перекричать гвалт:
– Тише, тише, не надо толкаться! Вы не на распродаже. Осторожнее, женщина, чуть старика с ног не сбили!
Вскоре суета улеглась, и кондуктор, взявшись за шнур звонка, вспомнил о пассажире на верхней палубе. Тот говорил, что ему выходить на Кэррик-стрит, но что-то не торопился спускаться. Хоть кондуктору и не хотелось вновь заводить разговор с этим необщительным грубияном, все же природное добродушие взяло верх, он поднялся по ступенькам, вытянул шею и крикнул:
– Кэррик-стрит! Кэррик-стрит!
На большее его не хватило. Но его благой порыв пропал втуне: призыв остался без ответа, никто не пришел.
– Что ж, если хочет сидеть наверху, пусть сидит, – пробормотал кондуктор, все еще обиженный. – Я за ним не пойду и на себе его не потащу, калека он там или нет.
Автобус отъехал от остановки. «Видимо, я не заметил, – подумал кондуктор, – как он проскользнул мимо меня, пока эта братия ломилась в автобус».
В тот же вечер, часов на пять раньше, такси свернуло на Кэррик-стрит и остановилось у входа в маленькую гостиницу. На улице было пусто. Могло показаться, что это тупик, на самом же деле дальний конец Кэррик-стрит пронзал узенький переулок, соединявший ее с Сохо.
– Это все, сэр? – спросил таксист, притащив из машины очередной чемодан.
– Сколько всего получилось?
– Всего девять, сэр.
– Скажите, любезный, вы бы смогли уместить все свое земное имущество в девять баулов?
– Запросто, сэр. Мне хватило бы и двух.
– Что ж, посмотрите, точно ли я ничего не забыл.
Таксист пошарил среди подушек на заднем сиденье.
– Вроде бы ничего, сэр.
– Что вы делаете с вещами, забытыми пассажирами? – спросил незнакомец.
– Отдаю в Скотленд-Ярд, – не задумываясь, ответил таксист.
– В Скотленд-Ярд? – повторил за ним незнакомец. – Зажгите спичку, я сам посмотрю.
Но он тоже ничего не нашел и, успокоенный, вошел в гостиницу следом за своим багажом.
Его появление было встречено хором приветствий и поздравлений. Хозяин гостиницы, его жена, многочисленные министры без портфелей, что обретаются в каждом отеле, коридорные и лифтер – все столпились вокруг него.
– Ах, мистер Румбольд, сколько лет, сколько зим! Мы думали, вы нас забыли! И вот что удивительно: в тот самый вечер, когда мы получили вашу телеграмму из Австралии, мы как раз вас вспоминали! Мой муж сказал: «Насчет мистера Румбольда можно не беспокоиться. Уж он-то своего не упустит. Когда-нибудь он вернется сюда богатым человеком». Не в том смысле, что раньше вы были бедным. Муж имел в виду, что вы станете миллионером.
– Он был прав, – медленно проговорил мистер Румбольд, смакуя слова. – Я теперь миллионер.
– Ну вот, что я тебе говорил? – воскликнул хозяин гостиницы, явно довольный, что его пророчество сбылось. – Но вы, я смотрю, не возгордились и приехали к нам в «Россалз».
– Мне больше некуда ехать, – сухо отозвался миллионер. – А если бы и было, я все равно бы туда не поехал. Здесь я как дома.
Он обвел взглядом знакомую обстановку, и его глаза потеплели. Светло-серые, почти прозрачные, эти глаза казались еще светлее на загорелом лице. Щеки были чуть впалыми, в сетке глубоких морщин, нос – прямым и коротким, с будто обрубленным кончиком. Тонкие, редкие усы цвета соломы мешали понять его возраст. Возможно, ему было где-то под пятьдесят, если судить по морщинистой коже на шее, но двигался он неожиданно по-молодому, легко и уверенно.
– Я пока не пойду к себе в номер, – ответил он на вопрос хозяйки. – Попросите Клатсэма… Он еще здесь работает? Хорошо… Попросите его, пусть распакует мои вещи. Все, что мне нужно на ночь, он найдет в зеленом чемодане. Портфель я беру с собой. И велите подать мне в гостиную херес с горьким бальзамом.
По прямой до гостиной было бы недалеко. Но по извилистым, плохо освещенным коридорам, петлявшим по зданию, зиявшим темными входами, нырявшим в пролеты кухонных лестниц, – по этим запутанным катакомбам, столь дорогим сердцу всех постояльцев отеля «Россалз», – путь получался неблизким. Если бы кто-то стоял в тени этих альковов или на верхней площадке подвальной лестницы, он бы заметил, что мистер Румбольд шествовал по коридорам, явно очень довольный собой: его плечи чуть сгорбились, уступая усталости; руки легонько раскачивались, словно хозяину не было до них дела; подбородок, всегда выпиравший вперед, выпятился до предела и казался расслабленным и беззащитным, а вовсе не вызывающе дерзким. Невидимый наблюдатель наверняка позавидовал бы мистеру Румбольду и, может быть, даже проникся бы недобрыми чувствами к этому человеку с его праздничным настроением и безмятежным принятием настоящего и будущего.
Официант, чьего лица мистер Румбольд не помнил, принес ему аперитив, который он медленно выпил, беспардонно упершись ногами в край нижней каминной полки, – вполне простительное послабление, поскольку в гостиной он был один. Только представьте, как он удивился, когда сквозь дрему, навеянную тихим треском поленьев в камине, пробился голос, исходивший откуда-то из стены у него над головой. Это был хорошо поставленный голос, быть может, даже чересчур хорошо, слегка хрипловатый, но с чистой дикцией и четко выверенными интонациями. Даже осматривая комнату, чтобы убедиться, что никто не вошел, мистер Румбольд не мог не прислушиваться к тому, что говорил этот голос. Казалось, он говорил только с ним, однако явные пророческие интонации подразумевали вещание на более широкую аудиторию. Это были интонации человека, который знает, что, хоть он говорит по обязанности, мистер Румбольд как слушатель непременно почерпнет из сказанного им что-нибудь для себя, а заодно и получит огромное удовольствие – другими словами, совместит приятное с полезным.
– …Детский праздник, – объявил голос ровным, нейтральным тоном, мастерски сбалансированным между симпатией и неприязнью, между воодушевлением и скукой. – Шесть маленьких девочек и шесть маленьких (голос чуть возвысился, выражая сдержанное удивление) мальчиков. Наша радиостанция пригласила их на чай, и им не терпится рассказать вам, как здесь весело. (На последнем слове голос сделался совершенно бесцветным.) Честно сказать, чай уже допит, и дети остались довольны. Да, дети? (В ответ на наводящий вопрос ведущего раздалось тихое робкое «да».) Жаль, вы не слышали нашей застольной беседы, хотя говорили мы мало. Все были заняты угощением. – На мгновение голос сделался по-детски тонким. – Но мы вам расскажем, чем нас угощали. Давай, Перси, скажи нам, что ты съел за чаем.
Писклявый мальчишеский голосок принялся перечислять всевозможные лакомства, и Румбольд сразу подумал о трех сестричках, живших в колодце с патокой. У этого Перси уже наверняка разболелся живот, или вот-вот разболится. Другие дети добавили к списку еще несколько пунктов.
– Вот видите, – сказал ведущий, – мы тут неплохо проводим время. Сейчас у нас будут хлопушки, а затем (голос на долю секунды замялся и как бы отмежевался от собственных слов) подвижные игры. – Последовала долгая пауза, которую прервал приглушенный девичий голосок:
– Не плачь, Филип, ничего с тобой не будет.
Раздался треск и хлопки. «Как будто там не хлопушки, а целый костер», – подумал Румбольд. Сквозь залпы пробились детские голоса.
– Что у тебя, Алек? Покажи, что у тебя.
– У меня пушка.
– Отдай ее мне.
– Не отдам.
– Ну, тогда дай на время.
– Зачем?
– Хочу застрелить Джимми.
Мистер Румбольд вздрогнул. Его что-то встревожило. То ли ему померещилось, то ли он и вправду расслышал сквозь гул голосов едва различимый щелчок? Вновь вступил голос ведущего.
– А теперь переходим к подвижным играм. – Словно чтобы компенсировать прежнее равнодушие, сдержанный голос окрасился легким намеком на предвкушение. – Начнем со старого доброго хоровода «Вокруг розового куста».
Детишки явно робели и стеснялись петь. Их отваги хватило лишь на пару строчек, после чего все сбились и умолкли. Но при содействии дикторского баритона, хоть и приглушенного, но мощного, дети преодолели застенчивость и вскоре уже пели сами. Их звонкие, чуть дрожащие голоса звучали прелестно. Мистер Румбольд едва не прослезился от умиления. Следующими на очереди были «Апельсины и лимоны», игра посложнее. Поначалу она не заладилась, но потом, как говорится, процесс пошел. Легко было представить, как детишек разводят по местам, будто для фигуры в старинной кадрили. Кому-то из них, несомненно, не хотелось играть: дети капризны, в них силен дух противоречия. Также стоит учесть, что, хотя многим нравится драматический накал «Апельсинов и лимонов», некоторых он пугает. Неохотой последних и объяснялись паузы и заминки, раздражавшие мистера Румбольда, который в детстве очень любил эту игру. Когда под ритмичный топот маленьких ножек зазвучал гулкий напев, мистер Румбольд откинулся на спинку кресла и закрыл глаза в тихом экстазе. Он напряженно вслушивался в слова, готовясь к финальному аччелерандо – предшественнику неминуемой катастрофы.
Однако пролог все никак не кончался, словно дети специально тянули время, желая продлить беззаботную радостную прогулку, которую грубо прервет большой колокол Боу в своем бесцеремонном невежестве. Колокола Олд-Бейли настойчиво требовали ответа у должника. Колокола Шордича отвечали с подобающей случаю дерзостью. Колокола Степни вызванивали свой вопрос, не скрывая иронии, но прежде, чем большой колокол Боу успел сказать свое веское слово, в настроении мистера Румбольда произошла странная и внезапная перемена. Разве нельзя, чтобы игра продолжалась к всеобщему удовольствию? Разве нельзя обойтись без рокового исхода? Пусть возмездие не грянет, пусть звенящие колокола никогда не пробьют час расплаты. Но игра шла своим чередом, невзирая на пожелания мистера Румбольда.
За все надо платить.
Вот свеча – освещает дорогу домой,Вот топор палача – голова с плеч долой!Хрясь – хрясь – хрясь!Кто-то из детей вскрикнул, и наступила тишина.
Мистер Румбольд изрядно расстроился, и для него стало большим облегчением, когда после нескольких вялых раундов «Апельсинов и лимонов» голос ведущего объявил:
– Наша следующая игра – «Майские орехи».
Что ж, в «Майских орехах» хотя бы нет ничего зловещего. Милая лесная сценка с одной восхитительной ботанической неточностью, объединяющей в себе все прелести зимы, весны и осени. Наша воля сильнее обстоятельств – вот что подразумевается в этом несочетаемом сочетании орехов и мая! Мы отрицаем причину и следствие! Мы приветствуем случай! Потому что причина и следствие всегда против нас, о чем свидетельствует злосчастная судьба должника Олд-Бейли, но случай всегда на нашей стороне, он учит нас, как получить все и сразу: и рыбку съесть, и косточкой не подавиться! У закона длинные руки, а у случая еще длиннее! Мистер Румбольд хотел бы пожать ему руку.
Тем временем его собственная рука дирижировала хором детских голосов, льющихся из приемника, нога притоптывала в такт мелодии. Дети воодушевились, запели заметно бодрее. Игра пошла как по маслу, ее ритм и задор вторглись в комнату, где сидел мистер Румбольд. Волны звука заполнили все пространство, как плотный дым. Рассудок мутился, опьяненный их сладостью, и воспламенялся, овеянный их потрясающей легкостью. Мистер Румбольд слушал, как завороженный. Его слух, обострившийся из-за временного бездействия всех остальных средств восприятия, начал распознавать новые звуки: например, имена игроков, отправленных в лес за орехами, и имена их противников, которые будут пытаться забрать их в свою команду. Исход борьбы каждый раз оставался неясным для слушателей. Сумела ли Нэнси Прайс увести Перси Кинхэма к своим? Может быть. Удалось ли Алеку Уортону одолеть Мэйси Дрю? Кому-то победа давалась легко, и все решалось за считаные секунды под дружный смех болельщиков. Устояла ли Вайолет Кинхэм против Хораса Голда? Это было отчаянное состязание, оба участника сосредоточенно и натужно пыхтели. Мистер Румбольд очень живо себе представил, как эти двое тянут друг друга туда-сюда над отметкой, обозначенной белым носовым платком, оба с красными лицами, сморщенными от натуги. Вайолет или Хорас, кто-то из них проиграл. Может быть, Вайолет и крупнее Хораса, зато Хорас – мальчик, их силы были равны, и оба упрямились, не желая сдаваться. Но чья-то воля сломалась, тело обмякло, признав поражение, и это мгновение капитуляции было подобно маленькой смерти. Да, даже в этой игре есть своя темная, неприятная сторона. Вайолет или Хорас, сейчас кто-то из них страдал – возможно, плакал от унижения, что его увели в плен.
Игра началась заново. Теперь детские голоса звенели азартом: намечалась встреча двух бывалых противников. Это будет битва гигантов. Песня гремела, как боевой клич.
Кто нарвет орехов,Кто нарвет орехов,Утречком сегодня,В холод и мороз?За орехами отправили Виктора Румбольда, Виктора Румбольда, Виктора Румбольда. И, судя по злорадным голосам детей, они жаждали его крови.