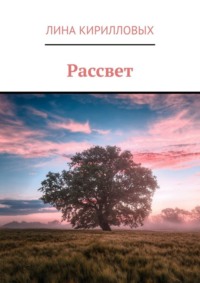Полная версия
Идущие. Книга I
Оно ждало его, узнало, кажется, даже обрадовалось, потому что сразу метнулось навстречу.
– Привет. Как ты тут поживаешь?
Нарочито бодрый тон Ян отбросил уже давно. Он понимал, что без бодрости у него получается очень устало, но рядиться имело бы смысл лишь перед человеком. А это…
– Фрукт заморский. Скучаешь тут, поди. Хотя что это я – у тебя ведь столько забот…
Оно существовало здесь не просто так – держало двери. Тоже выполняло свою функцию. Еще оно выдёргивало. Но вторая его функция по сравнению с теми же дверями была настолько необъяснимой и космической, что понять её никто так и не смог – ни основатель Организации, ни, после него, Ян. Хотя поначалу разглядывал, пытался даже вывести какие-то закономерности, принципы, правила, но быстро бросил это занятие, потому что правила не выводились, закономерностей не было, а был управляемый тем, что живёт на нулевом этаже, дикий для человека хаос… Ещё оно чувствовало и понимало, но при всём том не имело ничего человеческого, кроме имени, данного профессором, и формы, также предложенной им. Оно приучилось – согласилось, пошло на уступку, снисхождение – принимать осмысляемую глазами Яна форму и в его присутствии. Всегда, когда он уходил, ещё только делая шаг обратно к порогу комнаты, оно уже расплывалось, словно бело-синяя, капнутая на бумагу клякса.
Перед сплошной стеной из экранируемого стекла, делящей полукруглую светлую комнатку напополам, стояло одинокое белое кресло. Иногда Ян в него садился, чаще стоял, до стекла дотрагивался редко, но сегодня вот что-то захотелось – он прижал ладонь к прохладной гладкости, а оно отобразило его жест. До чего маленькая ладошка…
– Я тут подумал: какая экономия, что ты ничего не ешь и не просишь зарплату. Тебе ведь надо было бы платить раз в десять больше, чем, например, Рику. Я, наверное, жадина. Да?
Ян шутил. Оно молчало.
– Там у нас праздники скоро. Рождество, Новый Год, ёлки и подарки. Принести тебе гирлянду, может, украсить твое белое гнездо, а то и ёлочку поставить… Тебе что подарить? Если есть пожелания, скажи прямо, у меня всегда было туго с соображением на этот счет. Не хочешь, да? Я вот тоже. Просто потому, что мне ничего не надо.
Оно молчало, и молчание теперь звучало… солидарным, что ли, понимающим. Отклик, возможно, напрочь выдуманный, но, ощутив его, или вообразив, что ощутил, Ян уже мог сменить бесполое оно на она.
– Когда придёт время, сюда спустится Рик, и вот тогда-то он увидит, что я не один такой бука, который не любит отмечать праздники. Ты ведь знаешь, кто такой Рик, да? Ты помнишь. Ты и его когда-то выдернула.
Сделала мне подарок на век праздников вперёд, не докончил Ян. Лучшего друга. А я тебе ничего подарить не могу, более того, бесцеремонно тобой пользуюсь… Ничего, кроме свободы. Ты хотела бы свободу? А свобода что такое – знаешь?
Но он не спросил, остерёгся – вместо этого отошёл и сел в кресло. В прошлый свой приход забыл здесь носовой платок – вспомнил, увидев его на подлокотнике, взял, убрал в нагрудный карман. Забытые вещи почему-то не принимались за грязь, не исчезали. А вот стоило как-то пройтись по коридору ботинками, выпачканными в осенней грязи, – и на обратном пути не было уже ни единого отпечатка.
– Мне правда очень жаль, что ты не можешь мне ответить.
Ян сидел и смотрел, как оно… она колышется с той стороны – не пятном, не кляксой, а будто развевается платье. Всегда волнующийся перед спуском на нулевой этаж, на нём самом Ян постепенно погружался в странное спокойствие.
Здесь он мог говорить – и всегда говорил свободно, говорил обо всякой ерунде, просто, чтобы выговорится, говорил кому-то, совсем не похожему на человека, Идущего, и потому это не было стыдным признанием во временами накатывающем ощущении того, что однажды взял себе ношу немного не по силам. Здесь жил самый удобный и внемлющий собеседник, который никогда не перебивал и не насмехался. Но к нему было очень непросто прийти, потому что он был не человеческой природы, и древний, языческий ещё инстинкт, то ли опаска, то ли благоговение, внутренне морозил, тормозил. Профессору, должно быть, было легче – он ведь учил, как справляться с инстинктами, оттого, несомненно, прекрасно умел сам. За эти двадцать лет то, что живёт на нулевом этаже, никак не показало, что скучает по самому первому своему знакомому в этом мире, хотя профессор был и пленителем. Он создал нулевой и стеклянную клетку. Ян же просто пользовался.
– А забавно было бы, если бы ты вдруг выучилась. Каким было бы твоё первое слово: ругань, проклятие, плач, благодарность? Забавно… Или же нет. Не знаю. Но я бы сразу спросил тебя о прорехе.
Ян поделился тем, какая нынче погода, доставшимся ему конфетным предсказанием, общим праздничным настроем, витающим в коридорах и кабинетах, похвалился меткостью, с какой залепил Рику нынче снежком в затылок, пожаловался на лучшего повара, которого он когда-либо знал и который ушёл на вольные хлеба, унеся с собой свои восхитительные рецепты: мясной пирог с травами, абсолютно неземную выпечку (всё тот же пирог) и умение делать сытные блюда лёгкими (опять он же). Минут пять просто посидел расслабленно, потом вздохнул и встал. Свыше получаса здесь находиться не следовало – из-за стерильного, выхолощенного, почти лишённого влаги воздуха стягивало горло, начинал точить кашель. Оно – она – поняло, что собеседник уходит. Шатнулось туда, сюда, остановилось, притихло.
– Не горюй, – попытался успокоить Ян. – Я же ещё приду.
На прощание он погладил стекло, но с той стороны не отреагировали – облик уже начал расплываться в кляксу. Да разве кто-то здесь горюет – кто-то здесь рад, что его оставляют в покое и не вынуждают своим присутствием видоизменяться, подстраиваться… «Пока», – сказал Ян. Фрукт заморский, чудо, чудовище…
Он ушёл, не оглядываясь. Имя, данное профессором, он никогда не называл даже в мыслях.
IV
– Ребёнок, – сказал Курт. – Оставь животину в покое. От того, что ты так его тискаешь, сожранный дождик наружу не вылезет.
– Я его успокаиваю. Ты его скоро понесёшь к ветеринару, а он всё понимает и волнуется, только молчит.
– Это потому, что кот – бессловесная тварь.
– Не-а. Может мяукать.
– Сейчас он явно ничего не может, потому что раздавлен тяжестью осознания собственного идиотизма. Или просто объелся… Но как же быстро стал спокойным и тихим, глядите-ка. Отпусти его, изверг. Хватит формировать из пациента лепешку.
– Между прочим, он – мой! Я его нашла!
– Найти нашла, а обращаться не умеешь. Жрёт он у тебя, что ни попадя. Горе-мамаша.
Лучик обиженно отвернулась. Рыжая перехватила взгляд Курта и пожала плечами, а Капитан вообще никак не отреагировал – привык. Младшенькая их порой действительно вела себя по-детски – и странно, что совсем другой, не по годам взрослой, она пришла в Организацию. Пять лет и пять месяцев назад, вспомнил Курт. В его с ней вторую в жизни встречу.
Да, тогда они встретились во второй раз, а познакомились, можно считать, в первый, и в глазах напротив – фиолетовых, фиалковых, колокольчиковых, что сразу же рождали мысли о тёплых цветочных лесистых пригорках и находились примерно на уровне солнечного сплетения Курта, не мелькнуло ни искры узнавания. Ему пришлось не просто склонить голову, а вообще почти переломиться в вынужденном, тянущем мышцы поклоне, и тогда он опять ощутил, снова почувствовал это – свой рост, своё сильное и послушное тело, напряжение мускулов, стучащее сердце, и это стало первым после двух недель полузабытья шагом к принятию себя и согласию с тем, что после всего случившегося он продолжает думать, жить, дышать. «Какой высокий, – сказала тогда эта девочка. Кольца тёмных синяков на её запястьях, не прикрытых рукавами белого больничного халата, ещё не сошли, только чуть поблекли, пожелтели. – Можно вас попросить, пожалуйста – там, видите, яблоня, а на ней… Всё, что можно, уже стрясли, а эти крепко держатся. Мы с девчонками весь день пытались снять, даже стремянку выпросили, но не достали – ни мы, ни медбрат, который решил нам помочь, ни тот смешной парень, который метёт здесь дорожки. Поможете? Там яблок на всех хватит». Яблоня была очень старой, царапала небо верхушкой, и даже с его ростом Курт не смог дотянуться до самых нижних из увенчанных плодами веток с земли и потому полез на дерево. Там, в густой листве, где можно было скрыть лицо и скрыться целиком, он немного поплакал – слёзы были горькие, скупые, но хорошо, что хоть такие, потому что слёзы стали шагом номер два, а потом был третий – он ободрал локоть о шероховатую кору и ощутил слабую боль и жжение. Это была рана не солдатская, а родом из детства, где тоже росли яблони, и воспоминание пришло в тонах лета, открылось мимоходом в тёплых сладостных тонах и красках и вдруг принесло успокоение, мир. И был четвёртый – восхитительный аромат яблок, которые Курт рвал и складывал в карманы своего халата, и пятый – заноза в ладони, когда он спускался, и шестой – встретившая его улыбка радости. «Дайте-ка руку, у вас кровь, посмотрю… вам не больно?» Он отнекивался, но девушка всё равно принесла откуда-то зелёнку и, закатав рукава своего и чужого халата, намазала Курту поцарапанный локоть и ладонь. «Сестричка-медичка, внештатный работник», – поддразнил её какой-то проходящий мимо молодой доктор. «Как вас зовут?» – спросил Курт, потому что и правда не знал. Она пожала плечами: «Придумают». И он придумал тут же – «Лучик», и играющие в её светлых, прямых, как стрела, волосах блики задорно ему подмигнули, подтвердив, что прозвание – в точку. Оставалось лишь его озвучить, но он тогда постеснялся.
– … лохмы, – сказала Четвёртая. Курт вздрогнул и прислушался к разговору.
Когда Лучик расчёсывается, солнце тускнеет. Оно и так было сегодня неярким, блеклым, чуть прорывающимся через млечные снежные тучи, но в ответ на платиновый блеск, струящийся сквозь зубья гребешка, совсем истаяло и потеряло цвет. Но Четвёртая, судя по всему, сейчас говорила не о солнце, потому что размахивала откуда-то появившейся в её руках линейкой, а Капитан исподтишка посмеивался и мешал ложечкой чай.
– Восемьдесят сантиметров, Луч! Это же новая плазма на стену.
– Думаю, за рыжие волосы больше дадут. На две плазмы хватит. И на конфетки…
– Это сколько же мне их растить – лет шесть, семь? Невыгодно.
– Ой, рыжая, скажи просто, что тебе лень.
– Распутывать и расчёсывать – да. Никаких нервов не хватит.
– А тебе бы подошли длинные, – сказал Капитан. – Было бы очень красиво.
– Да двери зажуй эту чёртову паклю… Одно неудобство. Как только вы двое носите подобное бремя? От длинных волос же шея болит.
– Не надо никаких дверей, – Курт нашел повод пошутить и влез в обсуждение. – Давай их пожуёт кто-нибудь родной и близкий.
– Вареник, по-моему, уже нажевался.
– Я не его имел в виду.
– Себя, что ли?
– Хотя нет – они у тебя все провоняли табаком. Ты очень много куришь, рыжая. Рак лёгких, слышала о подобном?
– Человеческие болезни меня не пугают.
– А какие пугают – нечеловеческие?
– Да. Например, давно подхваченный тобой вирус чудовищной болтовни.
А эта подошла к ним, тогда сидящим на скамейке и хрустящим яблоками, и Лучик – ещё не Лучик, а одна из многих безымянных – сказала ему: «Угрюмая рыжая, которая здесь всегда читает книгу. Сейчас будет нас гнать». Но рыжая буркнула только: «Подвиньтесь», села с краю и действительно раскрыла книгу, углубившись в текст, и на яблоко, которое Курт предложил ей, никак не отреагировала. Книжка была потрёпанная, толстая и на вид очень старая, старинная, гораздо старше шелестящей листьями у них над головой кряжистой большой яблони и их всех троих, вместе взятых, рыжеволосая была на вид очень замкнутая и колючая, лицо у неё было острое, треугольное, пальцы, которыми она сжимала вытертую, выполненную, похоже, из кожи обложку, были бледные и изящные, а халат был ей велик. На соседей по скамейке она не смотрела, читала. «Всё читает и читает, по-моему, несколько раз уже перечитывает, – поделилась с Куртом Лучик. – Рыжая, почему она тебе так нравится?» «Отвали, сопля», – ответствовала та. Курт заметил, что это невежливо. Рыжая фыркнула и сказала, что мнением всяких посторонних жердей не интересуется, при этом словно бы опровержением своей невежливости обращаясь к нему на «вы», что звучало как явная издёвка. Курт не хотел ссориться и потому стал искать, на что бы перевести разговор, но на глаза ему попадалась одна только книга, и он мельком заглянул в неё, и тут же удивился: книга была на незнакомом ему языке.
«Вот же, какие закорючки и палочки, – с уважением произнёс он. – И вы всё это понимаете?»
«Естественно, – мрачно откликнулась рыжая. – Но я не вижу здесь причин для удивления, потому что понимать должны и вы».
«Почему это?»
«По кочану, – огрызнулась рыжая. – Раз здесь сидите, значит, один из нас».
Курт снова решил проигнорировать грубость.
«А кто вы?»
Вместо ответа рыжая сунула книгу ему под нос, не выпуская, впрочем, при этом из рук. «Читайте», – холодно сказала она.
Некоторое время Курт глядел, часто помаргивая, как человек, уставший от ношения очков, мял в пальцах яблочный огрызок и, несмотря на то, что якобы был должен понять, не понимал ничего. Чернильные – рукописные, он увидел – загогулины казались ему такой же терра инкогнита, как какие-нибудь глиняные таблички. Ему вдруг захотелось шутить.
«Не умею я такое читать, – сказал он. – Для этого, наверное, надо иметь другой цвет волос».
«В смысле?» – подозрительно спросила рыжая.
«Ну, как у вас, такого цвета… В средние века ведь бытовало мнение, что рыжеволосые все – колдуны».
«Чушь собачья», – решительно ответила рыжая, и тут же с открытой страницей, на которую Курт всё так же прилежно пялился, внезапно начало что-то происходить. Нет, буквы не менялись и не переползали с места на место и даже не мутировали в родной для Курта язык – просто будто бы сбрасывали некий покров, вылезали из панциря, как вскрываемая ножом солдатская консервная банка без этикетки, этакий неизвестный, пока не откроешь, сюрприз, – мясо там или фасоль прячется, так-то чёрт его разберёшь, потому что то ли на заводе так криво этикетку приклеили, что она, пока консервы везли, оторвалась, то ли кто-то зачем-то содрал – и обнажали понятное и знакомое нутро. Курт ошеломлённо покачал головой.
«Прочитай, – попросила Лучик, – то, на что упал глаз. Есть такое гадание на строчках книг, знаешь?»
Курт не знал, но послушно прочёл первое, за что зацепился взглядом.
«В город ведёт одна-единственная дорога. Где-то у самых его границ она пропадает в траве, и так получается, что из города не ведёт ни одной».
Рыжеволосая заложила страницу закладкой.
«Прямо как про нашу прореху, – непонятно сказала она. – Другое дело, что внутри никто не был и не знает, есть ли там какие-нибудь дороги. Погадали? Молодцы. Всё, хватит глаза таращить».
«Что за прореха? – тупо произнёс Курт. – И как это я…?»
«Магия, – без улыбки ответила рыжая. – Вы, видимо, тоже рыжеволосый, только крашеный. Но на самом деле – просто способность. Вы теперь все существующие языки понимаете. И говорите на них. Как сейчас».
«Мне казалось, что я говорю на своём языке, – осторожно заметил Курт. – Казалось, что это вы…»
Он запнулся и обмер. Лучик ведь никак не могла знать его родной язык. Он это видел – тогда. Но отчего-то он сходу понял всё, что она говорила ему про яблоню и дальше.
«Ключевое слово здесь – „казалось“, – рыжая закрыла книгу. – Мне тоже поначалу много что казалось. А вот ты, мелкая, по-твоему, на каком языке разговариваешь?»
Но Лучик не успела ей ответить, потому что Курта вдруг понесло – будто прорвался кран. Он, две недели молчавший, еле-еле способный на то, что вытащить из себя «да», «нет», «не знаю» и «не помню», уже не просто шагнул, помчался – гримасничая, жестикулируя, хлопая себя по коленкам, чуть ли не подскакивая.
«Да вы хоть представляете, какие тут открываются перспективы? Это же поле непаханое, земля благодатная, это и книги переводить можно, и наживую переводчиком работать, и в университете выучиться, а то и в нескольких, и потом преподавать, и по миру путешествовать, и самому книги писать, и жить безбедно, и… и… Окно открывшихся возможностей, даже не окно – окнище, даже не окнище – ворота, огромный пролом в стене, потому что, уж не знаю, как он, этот фокус, работает, но вот только это всё равно, что эволюционный скачок. Прорыв в науке! Тут непременно кто-то должен этим вплотную заниматься, не одна же тут только больница, и яблони, и скамейки, и книжки, мне тот человек, как его – Прайм, говорил, что это вроде большого института, учёные здесь всякие, исследователи, и, мол, ещё какие-то двери, так что должны быть специалисты и по такому вот феномену… И, значит, мы на разных языках сейчас болтаем и не ощущаем этого, так, что ли, вот это чудеса…»
Рыжая смотрела на него долго и потрясённо. Она даже забыла про издевательскую вежливость.
«Ты – феноменальное трепло. Что ты тут делаешь? Иди в политику. Или в актёры».
Она угадала одну давнишнюю, детскую ещё его мечту о театре и подмостках, и его снова кинуло туда, откуда он был выдернут, поэтому он потемнел лицом, нахохлился и затих. «А ты будто пещерное чудище, – огорчённо сказала Лучик. – Что ни слово, то рык. Ты ведь девушка, как можно…» Она защищала его, значит, действительно ничего не помнила. Рыжеволосая, опасно сузив серые глаза, собралась ответить, – что-то наверняка опять грубое – но, повернув лицо, только скривилась.
«Ещё один», – сказала она.
Курт посмотрел туда, куда смотрела рыжая, и увидел подходящего к ним человека.
Капитан наконец вернулся из коридора – трель наручного коммуникатора, прервавшая их болтовню, и последовавший за ней разговор надолго его не задержали, но настроение, похоже, подпортили порядочно. Лицо, покрытое штрихами шрамов, стало замкнутым и хмурым. Знакомая ситуация – только после общения с одним человеком в Организации Капитан так мрачнеет и злится. Это если во время общения тот человек – наделённый должностным авторитетом – Капитана отчитывает. И как только остается после такого в живых?
– Прайм ругался, – сказал Курт. – Но на тебя-то за что?
– Он не ругался, Курт, он просто надоел, – Капитан сел на пол и сгрёб в охапку подушку побольше. – Параноик дёрганый.
– А что случилось?
Капитан смял подушку в неровный ком. Возможно, представляя при этом на её месте чью-то шею.
– Помнишь, мы с тобой спорили о возможной теории сцепки? Ну, то, что наш пузырь совсем не корневой, а только один из тех, что в цепочках, а сам центр где-то совсем в другом месте – старая теория, ещё профессор о ней писал… Вот, я с Праймом ещё осенью затеял разговор о том, чтобы почитать материалы. Искал я их, искал, а они вдруг в базе под зелёным кодом, хотя никакие не секретные. Ну, я и попросил доступ, даже не через личный код, через праймовский, чтобы он сам увидел, что я не лезу, куда нельзя, а он отреагировал так, будто я взломщик. И вот.
– И что?
– И то. Отказал, конечно. И нет бы как я – плюнуть и забыть, так он теперь параноит периодически и устраивает мне допрос с пристрастием: а не шарюсь ли я, где не надо, и не помогает ли мне в том кое-кто, одолжив свой зелёный код. Сейчас опять бурчал – мол, следы мутной «зелени» в разделе архива. Я сказал ему, чтобы взял наконец-то отпуск и прополоскал свою недалёкую голову в море. Мы поссорились.
– Правильно ведь сказал, солёная водичка полезна, – заметила Четвёртая. – А чью «зелень» он на тебя решил повесить?
– Яна, – Капитан внимательно посмотрел на неё. – Ты не знаешь, отчего?
– Оттого, что дядя пользуется «золотом», а не «зеленью». Зелёный код у него так, резерв.
– Для чего, интересно, нашему директору с его абсолютными полномочиями «королевского» нужна жалкая, с ограничителями зелёнка…
– Ничего себе жалкая! – сказал Курт. – Ты, минуточку, это жалкую так добивался, что Прайм рассвирепел…
– Или она нужна для кого-то? – продолжил Капитан, не слыша его. – Такое может ведь быть, рыжая?
Четвёртая некоторое время смотрела мимо него в стенку, потом пожала плечами и, кажется, утратила к теме интерес.
– Без понятия. Дядя мне не говорил. Да и не всё ли равно? Чай пейте, остынет.
Капитан подождал, что она скажет ещё что-нибудь, вздохнул и снова смял подушку. Но уже без прежней злости – запала и ярости в бытовых ссорах у него надолго никогда не хватало.
– Просто он, наверное, и правда заработался, – Лучик вдруг вступилась за заместителя. – Он ведь даже по воскресеньям… Бедный. Мне его жалко. Зря ты сказал про отпуск в таком уничижающем контексте.
– А меня тебе не жалко? – проворчал Капитан. – Все эти необоснованные претензии, вот что уничижающее, да ещё какой-то странный код, я так понял, этот код давно Прайму не дает покоя. У Яна бы спросил, в самом деле – может, это он так развлекается. Начальнички…
– Вот и предложил бы спросить у Яна, а то и сам сходил бы, спросил, вместо того, чтобы говорить человеку неприятные вещи. Он же тебя очень ценит.
– Ха!
– Ценит и уважает, и вообще, по-моему, хочет, чтобы ты когда-нибудь занял его место…
– Вот в этом-то и беда. Я же тоже стану тогда таким же нервным. И сейчас-то уже дёрганый, а что будет…
– Будет у тебя зелёный код, – резонно ответила Луч. – И читай тогда, что хочешь.
– Утешила.
Капитан прекратил издеваться над подушкой и, склонив голову, утопил в ней подбородок. Он уже не выглядел хмурым, просто усталым. С запорошенной снегом, находящейся далеко внизу улицы слабо, прерывисто долетел низкий вой сирены.
– Давайте лучше рассказ, – примирительно сказала рыжая. – Мне продолжать?
Курт кивнул и посмотрел на Капитана. Тот сидел, прикрыв глаза.
…Молодой мужчина – лет тридцать с небольшим – остановился перед скамейкой, с доброжелательным любопытством глядя на сидящих. Он выглядел весьма эксцентрично – полностью седые волосы и множество шрамов на загорелом лице, и держался очень прямо, отчего казался выше ростом, чем есть. На нём не было больничного халата, только клетчатая рубашка, бриджи и кроссовки, а ещё, по всей видимости, рыжая была с ним знакома. Она проворчала: «Привет» и покосилась на своих соседей. Ссориться и грубить при седоволосом она явно не хотела.
А Курт хмурился и недоумевал, потому что вновь пришедший напоминал ему что-то, напоминал о чём-то, и это было сродни тому, как начинается зубная боль. Что-то общее в нём – и вовсе не в шрамах, потому что такие травмы можно получить и от несчастного случая, и не в цвете волос, потому что есть люди, которые начинают седеть, ещё не достигнув совершеннолетия – вдруг чуть было не вздёрнуло Курта на ноги. Выправка этого человека, осанка, стать, конечно! С колоссальным и страшным усилием, с самым большим, наверное, трудом в своей жизни Курт подавил в себе солдатский рефлекс вытянуться перед вышестоящим во фрунт.
«Он – командир высокого чина», – подумалось отчаянно, чуть ли не с испугом.
Высокочинный командир мирно опустился прямо на брусчатку и подогнул под себя ноги. Короткие седые волосы его взъерошил порыв ветра.
«Сегодня на обед – сырные шницели в сухарях, запечённый картофель и грибной суп-пюре, – поделился он. – И свежие овощи. Всё, как ты любишь, рыжая».
«Суп я не люблю», – буркнула та.
«Можешь отдать мне, – предложил человек. – Или кому-нибудь из твоих приятелей, с кем ты так замечательно тут беседуешь. Шел и любовался на тебя – красота. Наконец-то очеловечиваешься».
«Они мне не приятели, – возразила рыжая. – Просто заняли мою скамейку».
«Скамейки общие», – миролюбиво сказал человек. И, не дожидаясь гневного ответа, представился для двух других: «Капитан. Так меня здесь прозвали, поэтому зовите и вы. Вам тоже потом подберут прозвища, да вы, должно быть, в курсе. Меня поставили вас курировать. Вас всех троих вместе. Видишь, рыжик, я всё правильно сказал про приятелей, у тебя теперь просто нет причин с ними не дружить…»
Рыжая молча подняла книгу, которую сжимала обеими руками. Она держала её так, будто хотела ударить седоволосого Капитана, даже сделала движение-замах, но остановилась, передумала.
«Книгу жалко, – пробормотала будто бы сама себе. – Да и всё равно ты меня не заставишь».
«Конечно, – согласился Капитан. – Я и не думал заставлять. Время придёт, всё само образуется. Сегодня такая погода чудесная, правда?»
Он запрокинул руки за голову и потянулся, улыбнувшись текущему сквозь ветви свету и теплу. Курт тоже улыбнулся, глядя на него. Может, и командир, но точно не тот, что гонит солдат под шквальный огонь пулемётов.
«Эй, долговязый, – Капитан заметил улыбку. – Ты, я вижу, лазил на эту несчастную яблоню – уж больно ободранный вид. Яблоки-то стоили того?»