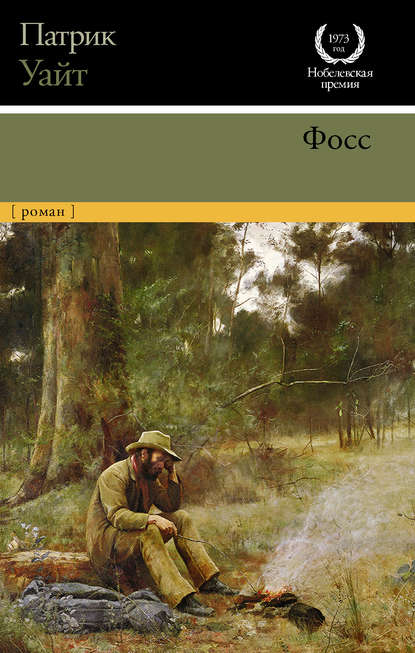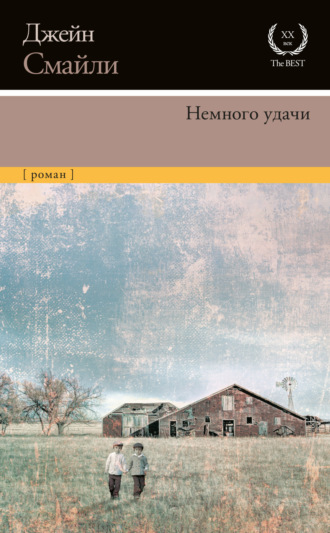
Полная версия
Немного удачи
И вот он опирается о мамино плечо и смотрит на папу, пока мама поднимается. Фрэнк все еще не мог двигаться в комбинезоне, а еще ему стало жарко. Руки торчали в обе стороны, а голова – вверх, вместо того чтобы лежать у мамы на плече, как ему нравилось. Папа посмотрел вниз и сказал:
– Ступеньки крутые. Можешь взяться за перила?
А мама ответила:
– Все хорошо, крыльцо расчищено.
Папино лицо сияло, а потом они оказались в ярком, шумном месте, и его забрали у мамы, а та сказала:
– Ну и ночка!
Тут была женщина, которая всегда говорила Фрэнку:
– А вот и мой милый! Ну-ка, улыбнись бабуле! Молодец! Улыбка точно как у моего отца, пусть даже зубов почти нет.
А кто-то другой сказал:
– У твоего отца зубов не намного больше, чем у этого ребенка, Мэри!
И все засмеялись, а его поцеловали в щеку, и бабушка усадила его себе на колени и начала постепенно разворачивать.
И вот он сидит на коленях у бабушки, она обнимает его, а он извивается, подскакивает и кричит, потому что весь этот свет и улыбки так его взволновали, что он уже не в силах держать себя в руках.
– Целый годик! – сказала бабушка. – Прямо не верится!
– Ровно год назад, – заявил папа, – я взглянул на доктора Геррита и сразу понял, что он пьян!
– Ох, Уолтер… – сказала мама.
– А что, так и было! Но знаешь, он как конь, который привык год за годом вспахивать одно и то же поле, просто знал, что надо делать, и все прошло хорошо.
– Это удача, Уолтер, – сказала бабушка. – Что бы мы делали без удачи?
Обладательница одного из незнакомых Фрэнку лиц сказала:
– Боже мой, Мэри, какой красивый малыш! Только посмотри на эти большие голубые глаза! А волосы какие! У блондинов такое нечасто увидишь. Дочке моей племянницы Лидии уже три, а у нее на голове все еще редкий пушок.
Бабушка наклонилась, чтобы поцеловать его, но промолчала. Фрэнк зашагал в сторону чьих-то ног в штанах, но ноги отступили. Он последовал за ними. Вокруг шелестели юбки. Когда он со стуком сел, руки подхватили его под мышки и поставили на ноги. Он направился к низенькому столику.
Сняв пальто, мама отнесла пирог на кухню. Она села на диван, где Фрэнку было ее хорошо видно, и сказала:
– По правде говоря, он появился в Новый год, а не в Сочельник. Родился не раньше трех часов ночи. – Фрэнк обогнул стол, прекрасно понимая, что приближается к ней. Ориентировался он отлично. – Доктор Геррит рассказывал мне, что малыш вышел и тут же попытался вернуться обратно. Наверное, ему было слишком холодно. Мой маленький! – Она коснулась пальцем его щеки.
Кто-то сказал:
– Как по мне, так любой зимний ребенок – это чудо. Моя сестра…
Но мама подняла Фрэнка, когда тот подошел к ней, обняла и осыпала поцелуями. Другой голос заметил:
– От весенней лихорадки появляются зимние детки.
А бабушка сказала:
– Неужели? Мне о таком никто не говорил.
И все опять засмеялись.
Это был великолепный праздник. Лица то наклонялись к нему, то отдалялись. Наверное, он никогда не видел столько улыбок. Улыбки – это хорошо. По-своему, на самом фундаментальном уровне, он понимал концепцию всеобщей любви. Фрэнк был здесь единственным ребенком. Других детей он никогда и не видел.
Теперь на диване разместились суровые люди с хриплыми голосами, как у папы. Один из них сказал:
– У Карла Лутца две коровы свалились в этот его овраг. Дыра в заборе, и две шортгорнские телочки пробрались туда, а никто и не заметил. Наверное, рухнули с обрыва.
Папа издал звук; потом кто-то другой издал звук. Люди качали головой, а не кивали. Фрэнк повернулся. Для этого ему пришлось опереться рукой о тот маленький столик, но у него получилось. Женщины были мягче и уделяли ему больше внимания. В тот момент, исходя из привычного опыта, Фрэнк решил, что на женщин просто гораздо приятнее смотреть, чем на мужчин. Он убрал руку со стола и поковылял в сторону женщин. Одной из них несколько секунд спустя пришлось поймать Фрэнка, потому что его тело двигалось быстрее, чем ноги, скованные тяжелыми неуклюжими башмаками. Он упал в ее объятия. Раньше он ее не встречал.
– Ужин! – крикнула бабушка, тогда все юбки и брюки выпрямились и зашевелились.
Мама наклонилась и подхватила Фрэнка, усадив его на согнутый локоть. Он был рад ее видеть и обнял рукой за шею.
У бабушки не было высокого стульчика, поэтому он сидел на коленях у папы, как бы зажатый между мамой и папой. Его подбородок едва возвышался над краем стола, и ему нравилось разглядывать красочную сверкающую посуду. Он знал, что это какая-то посуда, потому что на ней лежала еда, а когда он подкидывал вверх тарелку со своего подноса, мама всегда говорила:
– Фрэнки, не делай так! Не кидай посуду. Это очень плохо.
Однако, сидя у папы на коленях, он никак не мог дотянуться до посуды. Папа прижал его своей длинной рукой и не давал подобраться к столу. Мама вложила ему в руку зеленый боб. Пока он сжимал его, она поднесла к его губам ложку с чем-то. Фрэнк замялся, но открыл рот. Пюре. Он был достаточно голоден, чтобы съесть его.
– Пускай попробует свинину, – сказала бабушка. – Я весь день ее готовила. Может, ему понравится.
Мама использовала прибор – не ложку и не вилку, – который ему никогда не давали в руки, снова и снова надавливая им на свою тарелку. Потом она положила что-то себе на ложку и предложила ему. Пахло так приятно, что он открыл рот и проглотил.
– Прямо одним махом, – сказал папа, а Фрэнк открыл рот, чтобы ему дали еще. – А что там? – спросил папа.
– Как обычно. Немного лука и семян фенхеля. Совсем чуть-чуть. Готовила целую вечность.
– По правде говоря, ему почти все нравится, – сказала мама. – Недавно откусил кусочек печенки. Скривился, но проглотил.
– В нашей семье никогда не было привередливых едоков, – заметила бабушка. – Ты сама ела спаржу, когда тебе было восемь месяцев. Никогда не видела, чтобы ребенок вот так просто взял стебелек спаржи и скушал. Шинкованную капусту ела. Вареную. Да все.
– Это все немецкие корни, – прогремел низкий голос. – Ja[4], так и есть. Я сам в детстве больше всего любил квашеную капусту. Другие жить не могли без яблочного пирога, а я просил маму положить мне еще ложечку квашеной капусты.
– Ой, да ладно, – сказала бабушка, – а что еще тогда было есть? По мне, так капуста быстро надоедала.
Все это время мама давала ему самые разные угощения на кончике ложки, и он хорошо себя вел. Он узнал яблочное пюре, сладкий картофель и корочку хлеба. Съел еще свинины и зеленый боб. В воздухе гудели голоса, и он услышал много знакомых слов, значения которых не понимал: овес, кукуруза, свиньи, волы, ячмень, урожай, амбар, молотьба, хлев, снег, замерзать, – а также слова, смысл которых он знал: мокрый снег, холод, солнце, ложка, тетя, дядя, нет, хорошо, плохо, Фрэнк, еще, есть, спасибо. Он переводил взгляд с одного лица на другое, а потом бабушка сказала:
– Торт, – и это слово разлетелось по комнате.
– Только посмотрите на этот торт!
– Превосходный торт, Мэри!
– Мой любимый торт.
Со стола убрали всю посуду, и папа посадил Фрэнка прямо посередине, все это время придерживая его, и лица начали вместе шуметь. Это был неплохой шум – «С днем рождения тебя!» А потом мама снова посадила его к себе на колени и протянула ему что-то мягкое. Фрэнк попробовал и съел, но только потому, что хорошо кушал и хорошо себя вел и был ко всему готов. Мама отнесла его в темную комнату и дала молока, и – надо же – они оба заснули на кровати. Она обнимала его рукой, а он не выпускал изо рта ее сосок, потому что, хотя он был не особенно голоден, у него оставалось все меньше и меньше возможностей наслаждаться этим удовольствием.
1921
Сначала Розанна договорилась, что ее сестра, Элоиза, переедет к ним жить – это всем пойдет на пользу, поскольку неподалеку, всего в миле от их дома, есть школа получше. А в свободное время она сможет присматривать за Фрэнком, который носится по дому на скорости одной мили в минуту. Затем Розанна и миссис Фредерик, жившая дальше по дороге, решили разводить в старом курятнике цыплят, для начала штук тридцать. Прежде чем сказать Уолтеру хоть слово, Розанна вычистила курятник. Она с детства выращивала цыплят и скучала по ним, да и Элоиза к цыплятам привыкла, а с Уолтером они оба знали, хотя и никогда не говорили об этом, что если в нынешнем году он опять останется без прибыли, то с продажи яиц у них будут хоть какие-то деньги. Она знала, что Уолтер не в восторге от кур, – с ними хлопот не оберешься, вечно путаются под ногами, повсюду следы помета, – да и яйца он не особенно любил, поскольку всю жизнь на завтрак ел жареную яичницу: это было любимое кушанье отца, вот мать постоянно и готовила яйца. Так, куры. Потом можно начать разводить уток и индюшек. А Элоиза может спать в комнате Фрэнка, поскольку третью спальню занимал Рагнар. Элоизу это вполне устраивало: лучше уж заботиться об одном ребенке, чем о трех братьях. И все такие молчаливые – иной раз Гас, Курт и Джон за весь день слова не вымолвят. Элоиза совсем другая, вон уже раз в двадцатый спрашивает:
– Так малыша Фрэнки не крестили?
Розанна гладила, а Элоиза складывала белье. Для Фрэнки наступило время дневного сна.
– Ты была на крещении, Элоиза? – сказала Розанна. – Нет, не была. Если бы его крестили, тебя бы позвали, а потом мы бы устроили праздничный завтрак, но ничего этого не было. Так чего ты все время спрашиваешь?
– Не знаю.
Розанна перевернула рубашку на гладильной доске и прижала кончик утюга к шву на воротнике. Утюг уже начал остывать, поэтому она отнесла его на плиту и взяла другой.
– Как думаешь, у нас когда-нибудь проведут электричество? – спросила Элоиза.
Розанна промолчала. Она не очень-то одобряла электричество, все эти провода, уходящие бог знает куда.
– Это что, мама отправляет тебе записочки с указанием постоянно спрашивать меня о крещении? – спросила Розанна.
Элоиза внимательно посмотрела на нее и сказала:
– Нет. – Потом добавила: – Да нет, в общем-то. – А потом еще: – Но я знаю, что она нервничает. Сынок кузины Джози проснулся как-то утром, все вроде бы нормально, а к ночи умер от холеры.
– Нет, он…
– А еще тот мальчик у нас в школе, совсем маленький, из первого класса… Лошади испугались, понесли, и колесо фургона проехало прямо по нему.
– А брат Уолтера умер, когда ему было два года, и Уолтер с этим так и не смирился, хотя сам тогда еще не появился на свет.
Розанна передала рубашку Элоизе. Та начала застегивать пуговицы. Розанна взяла из корзины для белья следующую. Ей нравилось гладить рубашки, ее это успокаивало, но и против штанов, комбинезонов, простыней и наволочек тоже ничего не имела. Если стирка была тяжким трудом, то глажка – наградой за него.
– Не думаю, что над этим стоит смеяться, – сказала Элоиза.
Розанна расправила рукав на доске.
– Я не смеюсь, но они больше говорят о Лестере, чем о Говарде, который скончался от гриппа.
– Лестер был ребенком.
– Он был старше Фрэнки.
– Об этом я и говорю, – сказала Элоиза.
Розанна прикусила губу и промолчала. То ли она сама загнала себя в угол, то ли в этом споре Элоиза одержала победу – непонятно, но с Элоизой всегда так. Даже учительница в школе как-то сказала Розанне: «Пришлось поставить ей условие: она имеет право затеять спор только двадцать раз утром и двадцать раз днем. Иначе замедляется учебный процесс».
Розанна стала гладить спинку рубашки, а Элоиза ушла на кухню проверить хлеб. Конечно, Розанна не просто так осторожничала с Фрэнки, обращалась с ним аккуратнее, чем того хотел Уолтер, а по-своему, даже аккуратнее, чем он осознавал. Если ребенка крестили по католическому обряду и тот умирал до первого причастия, он не был обречен на вечные муки в аду, но попадал в лимб, а затем, по мнению Розанны, которая не могла представить, что с детьми Божьими может произойти нечто действительно ужасное, перемещался в рай, и все с ним было хорошо целую вечность. Методисты тоже верили в первородный грех и крещение младенцев, но подвох в том – Розанна запомнила это, – что на церемонии мог присутствовать родитель или крестный, но не она, ведь она не крещена по протестантскому обряду, поэтому она не могла заставить себя согласиться на крещение. Таким образом, они с Уолтером оказались в тупике по поводу Фрэнки, даже не обсудив это дело.
Почему никто не упомянул об этом на свадьбе (на методистской свадьбе)? Ну, дело в том, что Розанна была упрямой и никогда особенно не увлекалась религией, просто она хотела выйти за Уолтера и вырваться из своей многолюдной семьи. Все остальное казалось ей неважным. О грехах начинаешь думать только после заключения брака, а если одна часть семьи (постоянно торчавшая рядом и навязывавшая свое мнение) верила в одно, а другая часть (тоже не оставлявшая в покое) верила в другое, приходилось делать вид, что все верования одинаково глупы, и жить с последствиями собственного легкомыслия.
Она протянула Элоизе вторую рубашку. Та спросила:
– Зачем ты испекла шесть буханок?
– Я обещала испечь три для мамы, потому что она на этой неделе сидит с тетей Розой и у нее нет времени печь хлеб самой.
– Тетя Роза поправится?
Розанна посмотрела на Элоизу, положила руки на бедра и сказала:
– Нет, – потому что, если уж Элоиза задает столько вопросов, иногда нужно давать честный ответ, не так ли?
– Она умрет?
– Если повезет. Она едва дышит и уже год не встает с постели.
– Даже в туалет?
– Я не знаю, Элоиза.
– Почему?
– Господи, Элоиза, ведешь себя, как будто тебе не пятнадцать лет, а восемь.
– Ах.
– Тете Розе шестьдесят восемь. У нее была тяжелая жизнь, муж ее бросил, чтобы играть в бейсбол в Де-Мойне или что-то такое, и она так и не оправилась после этого. Вот все, что я знаю. Мама тебе расскажет подробнее, когда мы следующий раз с ней увидимся.
– Можно взять Фрэнки на прогулку? Сейчас не так уж холодно. Мы могли бы пройтись вдоль дороги, поискать полевые цветы.
Розанна взяла стопку свернутой одежды и переложила ее в корзину. От нее пахло крахмалом и свежестью.
– Хорошо, – сказала она. – Вчера я там видела колокольчики.
Она повернулась к лестнице, услышав, как сын зовет ее: «Мама! Мама!» От одного лишь звука его голоса ей захотелось бросить бельевую корзину и бежать к нему, но она вынуждена была сохранять достоинство, поскольку Элоиза стояла прямо за спиной.
На Дне благодарения Элоиза смотрела на Фрэнка ровно в тот самый момент, когда он ошарашил всю семью, выкрикнув:
– Раз два три четыре пять шесть сем восем девть десить!
Мать прибежала из кухни, тетя Роза всплеснула руками, и даже Рольф, который с обычным для него глупым видом сгорбился над тарелкой, поднял голову и рассмеялся.
Опа[5] сказал:
– Ведь это ж надо!
А Розанна лишь глубоко вдохнула и самодовольно фыркнула. Фрэнка сразу же признали гением в семье. Мать Элоизы вспомнила какую-то тетушку, которая в четыре года уже умела читать, и что Розанна сказала отцу Бергеру: «Очень рада с вами познакомиться, сэр», – когда ей еще и двух не было, причем никто ее этому не учил. Но считать от одного до десяти, когда тебе еще и двух нет, – это что-то.
На Элоизу все это не произвело такого впечатления. Она уже девять месяцев присматривала за малышом Фрэнком и знала, что он отнюдь не идеален. Что ему удавалось лучше всего, так это не принимать «нет» в качестве ответа, однако, думала Элоиза, никто этого не знает, потому что никто, кроме нее, не говорит ему «нет». Розанна говорила: «Не думаю, дорогой» или «Может быть, попозже, Фрэнк, милый», а потом Фрэнк ныл и подлизывался, пока Розанна не давала ему то, чего он хотел, потому что он ведь такой милый, а потом Розанна всем рассказывала, какой он замечательный и покладистый малыш. Когда Элоиза говорила ему «нет» (например: «Нет, я не отдам тебе мое сахарное печенье»), Фрэнк широко открывал рот и начинал вопить. Розанна взбегала по лестнице и спрашивала:
– Почему он кричит? – но прежде чем Элоиза успевала ответить, она подхватывала Фрэнки и говорила: – Тише, детка. Тише, Фрэнки, пойдем вниз и дадим Элоизе спокойно позаниматься.
Конечно, печенье Фрэнки не получал, зато он получал кое-что получше, думала Элоиза, потому что Розанна до сих пор кормила его грудью, точно так же, как ее мать и тетя Хелен кормили грудью всех своих детей, кроме Элоизы («Она сама отказалась в девять месяцев. Никогда не пойму этого ребенка»), пока не рождался следующий.
Уолтера Фрэнк никогда ни о чем не просил. Иногда он смотрел на Уолтера и смеялся, когда Уолтер садился на пол и играл с чертиком из коробочки и барабаном. Еще он катался у Уолтера на плечах или висел вниз головой на его руке и хохотал, но Элоиза видела, что Фрэнк побаивается Уолтера. Да и кто бы не испугался? Уолтер ведь такой шумный.
Каждый день Фрэнк пытался провернуть с Элоизой то, что ему так отлично удавалось с Розанной, – поговорить. Сегодня, когда Элоиза оторвала Фрэнка от мозаики, на которую он смотрел (и жевал кусочки, вместо того чтобы складывать их вместе, – и в чем тут его гениальность?), чтобы уложить его в кроватку, он заревел и потянулся к мозаике, пытаясь спуститься.
– Пора баиньки, – сказала Элоиза.
Розанна пекла пироги с тыквой на кухне, так что никто не пришел ему на помощь.
– Мозяйка! – буркнул Фрэнк.
– После того, как поспишь, – обьяснила Элоиза.
Фрэнк перестал плакать и уставился на нее.
– Мозяйка! Одна мозяйка!
– Нет, – сказала Элоиза.
– Одна! – не унимался Фрэнк.
– Нет, – отрезала Элоиза.
И тут Фрэнк выгнул спину и закатил истерику, потому что Розанна всегда прямо-таки таяла, когда он говорил: «Одна мозяйка!» или «Попоззе!», шла у него на поводу и позволяла лечь через минутку или через десять. Дома, с братьями, было совсем не так. В свои четырнадцать, десять и семь лет они так привыкли слышать отказ, что стоило их матери раскрыть рот, чтобы ответить на какую бы то ни было просьбу, как Курт, Джон и Гас уже безмолвно произносили за нее «нет». А потом, когда ма говорила это, они начинали хохотать, а она не понимала почему.
Элоиза вела себя по-другому, полагая, что спрашивать о чем-либо бесполезно. Годы наблюдений за Розанной, которая всегда выбалтывала все свои планы, так что у ма заранее складывалось определенное мнение, или Рольфом, который просто делал то, что велел ему отец, научили Элоизу, что, если просто тихо делать свои дела, никто тебе не помешает, особенно в доме с шестью детьми, где еще иногда жили какая-нибудь тетушка или кузина, батрак или двое из Старого Света, да еще то и дело приходили Ома[6] и Опа. Куда проще изображать бурную деятельность, задавая при этом бесконечные вопросы, пока не надоешь, а потом спрятаться за корзину с кукурузой и спокойно почитать или порисовать. А если спрятать свои вещи под матрасом, никто о них не спросит. В школе то же самое. Если часто поднимать руку, сидя в первом ряду, тебя могут пересадить назад, почти за печку, и там ты закончишь уроки (всегда легкие) и продолжишь читать книжку, которую принесла в портфеле, например «Мисс Лулу Бетт» (эту книжку ее подруга Мэгги купила в магазине в Ашертоне). Они с подругами читали самые разные книги, о которых взрослые и понятия не имели, например, «Том Свифт и электрическое ружье» и очень толстый том под названием «Крошка Доррит», хотя последнюю пока не осилила ни одна из девочек. У них были экземпляры журнала «Приключения», «Выкройки», где печатали красивые модели платьев, которые Элоизе нравилось разглядывать, и четыре выпуска «МакКолл»[7]. Все девочки вели дневники – Мэгги подарила им тетради – и сшили для них матерчатые обложки. У Элоизы была обложка цвета бронзы с голубой вышивкой. Что такого особенного, думала она, в ребенке, который может произнести десять слов подряд лишь потому, что их при нем произносили много-много раз (например: «Раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь-девять-десять, кто не спрятался, я не виноват!»)? Но теперь родная мать Элоизы, которая всегда на все отвечала отказом, осыпала Фрэнка поцелуями, и все хохотали, а Опа сказал:
– Ja, может, он достаточно умен, чтобы не покупать себе ферму, как думаете?
Все смеялись, как будто это шутка.
«Я для этого достаточно умна, – подумала Элоиза. Глянув на Рольфа, который жевал свою порцию гуся, как будто его ничто в мире не тревожит, она сказала себе: – А вот Рольф – нет».
Она взяла ложку и положила себе еще немного картофельного пюре.
– Ему еще нет и двух лет, – сказала мама, обхватив его покрепче.
– Да ладно, ему понравится, – сказал папа. – Никогда не видел лошади спокойнее Джейка. Ты же на нем ездила. И я на нем ездил. Слушай, Элоиза, перелезь-ка через забор и покажи Розанне.
В большом сарае царил полумрак, то тут, то там темные стены пронзали черточки и искорки света. Фрэнк знал, что за существа содержатся в отдельных стойлах: «коровы», которые то заходили, то выходили, белые «овцы» с черными мордами (одна-две-три-четыре-пять-шесть), «петух», устроившийся на балке над ними, и самое главное существо – «лошадь» Джейк, светло-серый, почти белый, который повернул нос и глаза к Фрэнку и зафыркал. Фрэнк засмеялся.
– Я же в платье, – возразила Элоиза.
– Ты ж в кальсонах, да? Он чистый. Я его почистил перед твоим приходом.
Все они прошли вместе с Джейком по темной земле к указанному месту, потом Элоиза перебралась через забор, папа помог ей, и вскоре она уже сидела на спине у Джейка, держа его за гриву, а папа обхватил Фрэнка руками, поднял высоко в воздух, и Фрэнк начал размахивать ногами, а затем его усадили на спину Джейка перед Элоизой, и та обняла его рукой.
– Боже мой, – сказала мама. – Ну, это даже мило, несмотря ни на что.
– Я трех лет от роду ездил на пастбище на отцовских першеронах[8], – сказал Уолтер. – Вот на клейдесдалей[9] дяди Леона он меня не пускал, а першероны…
Под Фрэнком шевелилась теплая, округлая серая поверхность, а Элоиза взяла обе его руки в свои и положила их на гриву.
– Держись, Фрэнки, – сказала она, и он покрепче ухватился за лошадиные волосы.
Элоиза крепко прижимала его к себе – он чувствовал ее через свою одежду. Перед ним возвышался монументальный серый силуэт, оканчивающийся двумя кончиками, а потом серое существо зашевелилось, и они двинулись вперед. Фрэнк обожал двигаться вперед – неважно, на чем: фургоне, коляске, культиваторе. Он взмахнул руками, но Элоиза крепко держала его. Лошадь двигалась, а папина голова по-прежнему оставалась прямо у него перед глазами, но когда он повернулся посмотреть на маму, она показалась меньше. Мама стояла, положив руки на бедра. Все звери уставились на него – овцы, коровы, другая лошадь. Петух слетел с насеста, подняв крылья, и заквохтал.
– Молодец, – сказал папа.
1922
За ужином Рагнар, Элоиза и папа сидели прямо, так что Фрэнк тоже выпрямился. Рагнар, Элоиза и папа никогда не вставали из-за стола во время ужина, и Фрэнк тоже оставался на месте. Рагнар, Элоиза и папа никогда не елозили на стуле, а Фрэнк елозил. Рагнар, Элоиза и папа взяли в руки ножи и вилки и стали резать сосиски. Фрэнк прижал внешнюю сторону ложки к своему сладкому картофелю, поднял ее и снова прижал.
– Поешь, Фрэнки, – сказала Элоиза, и Фрэнк сунул кончик ложки в оранжевую горку и поднял ее. К ложке немного пристало, Фрэнк поднес это ко рту.
– Молодец, – похвалил папа.
– Ja, jeg elske søt poteter, når det er alt det er[10], – сказал Рагнар.
– Может, Рагнару и не нравятся сосиски из кролика, – сказал папа, – а вот я их люблю. Всегда любил. Тебе стоит помнить, Элоиза, что фермеру не обязательно выращивать и продавать все, что он сам ест. Вокруг нас целый мир возможностей.
– Я люблю фазана, – сказала Элоиза.
– Я тоже, – согласился папа. – Вот выйдешь на кукурузное поле после сбора урожая, а фазаны там подклевывают упавшие зерна. В детстве мы их били из рогаток, просто для развлечения. Ну, и на ужин, конечно.
Фрэнк дотронулся пальцем до кусочка сосиски, потом подобрал его и положил в рот. Она была горькая, не то что сладкий картофель. Он скривился, но взял еще кусочек.
– Он готов есть что угодно, – сказал папа. – Полезное качество для фермера. Когда я был во Франции, там ели все, что движется или растет. Меня это восхищало.
– Ты ел улиток? – спросила Элоиза.
– Если повезет, – ответил папа. – Рыбку прямо с головой, зажаренную до жесткости. Это мне нравилось меньше. Их скотина тоже ест почти все. Тыкву. Репу. Пиво. Я как-то видел, как человек поил лошадь пивом.
– Во Франции есть пиво? – спросила Элоиза.
– На севере, где мы были, есть.
– Долго ты там был?
– Меньше года. Хотелось бы остаться подольше, повидать разные места.
Где же мама? Мысли Фрэнка обратились к ней. Может, она наверху? Хотя Фрэнк уже умел карабкаться по лестнице и спускаться обратно, не падая, папа не дал ему пройти. Фрэнк давно не видел маму, хотя иногда слышал ее голос в воздухе.