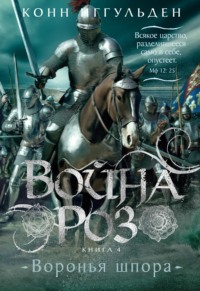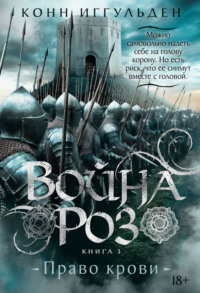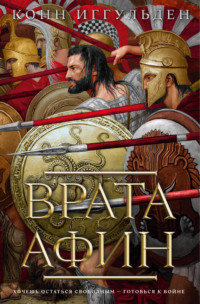Полная версия
Завоеватель
– Мой враг мертв, – пробормотал Бату, глядя на неподвижное лицо Гуюка.
От Хубилая он знал, что хан уедет из лагеря без охраны. Ждал целых три дня – лежал и наблюдал, рискуя быть обнаруженным дозорными. Его постоянно одолевали сомнения куда сильнее жажды. А вдруг Хубилай ошибся? Вдруг он впустую теряет время, вместо того чтобы спасать своих людей? Бату был очень близок к отчаянию, когда наконец показался Гуюк…
Он все стоял и смотрел на трупы. Оказывается, уже наступила короткая летняя ночь, хотя схватка долгой не показалась. На убитого орла Бату глянул с сожалением: он знал, что предка этой птицы приручил сам Чингис. Воин расправил плечи, вдохнул свежий воздух и ощутил, как боль стихает. Раны он получил несерьезные и неплохо себя чувствовал. Кровь так и бурлила, Бату дышал полной грудью, наслаждаясь жизнью. Он ничуть не жалел о решении сразиться с ханом. Бату взял с собой лук и вполне мог убить и Гуюка, и его слугу из засады, но выбрал способ достойнее. Он рассмеялся. Что будет с народом без Гуюка, Бату не знал и знать не хотел. Главное, спасены его люди. Усмехнувшись, он вытер свой меч о рубаху слуги, вложил в ножны и зашагал к коню.
Когда подъехал Мунке, воины стояли у тела хана, молчаливые и подавленные. Вставало солнце, на деревьях каркали вороны. Казалось, нижние ветви сплошь облеплены черными птицами, а сколько их опускалось на землю, хлопало крыльями и поглядывало на мертвеца… Пока Мунке спешивался, воин раздраженно пнул одного из них; впрочем, тот успел улететь.
Гуюк лежал недвижим, с отцовским мечом на груди. Мунке склонился над телом хана, спрятав чувства под маской равнодушия, которая со временем появляется у каждого воина. Он долго так стоял, и никто не решался заговорить.
– Грабители забрали бы меч, – наконец изрек Мунке глубоким, полным гнева голосом.
Он поднял меч, вытащил из ножен и увидел, что клинок начисто вытерт. Взгляд орлока скользнул по трупам и остановился на кровавых пятнах, темневших на одежде ханского слуги.
– Ты никого не видел? – вдруг спросил Мунке, повернувшись к дозорному, стоявшему ближе всех к нему. Бедняга аж содрогнулся.
– Нет, господин, никого. – Он покачал головой. – Хан не вернулся, и я отправился его искать. Потом… сообщил тебе, господин.
Мунке буравил его взглядом, и дозорный в страхе отвел глаза.
– Ты должен был проверить территорию, – тихо напомнил орлок.
– Господин мой, хан приказал вернуть дозорных в лагерь, – отозвался воин, не решаясь поднять голову.
Он заметно потел, струйка пота слезой ползла по щеке. Вздрогнул, когда Мунке вытащил меч с рукоятью в виде волчьей головы, но не отступил, а так и стоял, потупившись.
Ни один мускул не дрогнул на лице Мунке, когда он замахнулся и отрубил дозорному голову. Безвольное тело упало наземь, но орлок повернулся к нему спиной. Вот бы Хубилай был сейчас здесь! Вопреки неприязни к цзиньским пристрастиям брата, Мунке чувствовал, что тот дал бы дельный совет. Сам он был в полной растерянности. Казнь дозорного не дала выхода и малой толики его гнева и разочарования. Хан убит. Кто виноват, если не Мунке, орлок его войска? Он долго молчал, потом глубоко вдохнул, набрав в легкие побольше воздуха. Толуй, его отец, отдал жизнь за спасение Угэдэй-хана. Мунке был с отцом до конца и лучше других знал почетные обязанности своего поста. Он не мог сделать меньше, чем отец.
– Я не защитил господина, которому принес клятву, – пробормотал он. – Жизнь прожита зря.
Подошел один из военачальников и склонился рядом с Мунке над телом хана. Старый Илугей вместе с Субудаем участвовал в Большом походе на запад. Он знал Мунке много лет и, услышав слова орлока, покачал головой и проговорил:
– Твоя смерть его не вернет.
Мунке повернулся к нему, покраснев от злости.
– Я виноват! – рявкнул он.
Илугей потупился, не желая смотреть командиру в глаза. И тут увидел, что меч у Мунке в руках шевельнулся. Он расправил плечи и приблизился, показывая, что не боится.
– Мне тоже голову отрубишь? Господин мой, ты должен сдержать свой гнев. Сейчас ты не можешь расстаться с жизнью. Ты должен вести войско. Мы далеко от дома, господин мой. Если ты погибнешь, кто нас поведет? Куда нам идти? Дальше? Биться с внуком Чингисхана? Или домой? Ты должен вести нас, орлок. Хан погиб, у народа нет вождя. Народ беззащитен, а вокруг столько шакалов… Что случится теперь? Хаос? Братоубийственная война?
Мунке с трудом отогнал мысли о трупах на поляне. Гуюк не успел оставить наследника. Да, в Каракоруме его ждала жена. Мунке смутно помнил молодую женщину, но как же ее зовут? Наверное, это уже не важно. Орлок подумал о Сорхатани, своей матери, и словно услышал ее голос. Ни за Бату, ни за Байдаром войско не пойдет. Должность орлока дает отличный шанс стать ханом. Сердце пустилось галопом, и Мунке зарделся, словно стук его могли услышать. О такой судьбе он не мечтал, но тела, неподвижно лежащие у его ног, служили подтверждением новой реальности. Орлок заглянул Гуюку в лицо, бледное и безвольное.
– Я был тебе верен, – шепнул он трупу.
Вспомнились разгульные пиры, которые Гуюк закатывал в городе. Как же они его раздражали! Рядом с Гуюком Мунке всегда было неловко, и виной тому пристрастия хана. Впрочем, это уже дело прошлое. Орлок силился представить себе будущее, но не мог – и снова пожалел, что Хубилай в Каракоруме, за тысячу миль отсюда. Брат сообразил бы, что сказать людям…
– Я подумаю над твоими словами, – пообещал Мунке Илугею. – Вели завернуть тело хана в ткань и приготовить к дороге. – Он взглянул на сведенное смертной судорогой тело слуги Гуюка, отметив засохшую струйку крови, вытекшую у него изо рта. А что, неплохая мысль… Мунке заговорил снова: – Хан сражался храбро, уничтожив своего убийцу. Люди должны об этом знать.
– Труп убийцы оставить здесь? – спросил Илугей, глаза которого заблестели. Монгольские воины – известные любители приврать. Может, все именно так и случилось… но неужели умирающий вытер меч и аккуратно положил его поверженному хану на грудь?
Мунке поразмыслил и покачал головой.
– Нет, пусть его четвертуют и бросят в выгребную яму. Остальное – дело солнца и мух.
Илугей понимающе кивнул. Это ведь тщеславие сверкало в глазах Мунке? Илугей не сомневался, что орлок не откажется от права на ханский престол, и не важно, каким образом это право у него появилось. Старый тысячник презирал Гуюка и с облегчением думал о том, что народом будет править Мунке. Орлок ненавидел цзиньскую культуру, незаметно пропитавшую повседневную жизнь. Он станет править как монгол, как Чингисхан. Илугей спрятал улыбку, хотя его старое сердце пело.
– Как прикажешь, господин, – невозмутимо отозвался он.
Глава 10
Обратный путь занял месяц – почти в два раза меньше, чем дорога из Каракорума. Свободный от приказов Гуюка, Мунке поднимал воинов на заре, гнал во всю прыть и дважды думал, прежде чем объявить привал.
Когда вдали замаячили светлые городские стены, настроение воинов было трудно определить. Они везли тело хана, и многие стыдились того, что не исполнили свой долг перед Гуюком. Однако Мунке держался уверенно, уже не сомневаясь в полноте своей власти. Гуюка как хана не любили, и многие воины по примеру орлока нос не вешали.
Печальную весть отправили вперед с ямскими гонцами. В итоге Сорхатани успела подготовить город к трауру. Утром, когда подошло войско, развели огонь под жаровнями, полными кедровых щепок и агарового дерева. Над Каракорумом вился серый дым, наполняя город ароматами, в кои веки заглушавшими вонь забитых сточных канав.
Вместе с дневными стражниками, облачившимися в свои лучшие доспехи, Сорхатани ждала у городских ворот войско старшего сына. Хубилай только вернулся в Каракорум: раньше Мунке он успел лишь благодаря тому, что скакал под видом ямского гонца. «Старость не радость», – думала Сорхатани, стоя на ветру и глядя на пыль, которую поднимали десятки тысяч всадников. Один из стражей прочистил горло и зашелся кашлем. Сорхатани глянула на него, молча призывая к тишине. Мунке был еще далеко, поэтому она приблизилась к стражнику и коснулась рукой его лба. Тот пылал. Женщина нахмурилась. Краснолицый охранник не мог ответить на ее вопросы. Когда Сорхатани заговорила, он бессильно поднял руку, и она, раздосадованная, жестом отправила его прочь от ворот.
В горле запершило, и Сорхатани сглотнула, чтобы не раскашляться. Лихорадка одолела двух ее слуг, но женщине сейчас было не до этого: Мунке возвращался.
Сорхатани подумала о муже, погибшем много лет назад. Толуй отдал жизнь за спасение Угэдэй-хана и даже не мечтал, что его сын однажды взойдет на ханский престол. Но раз Гуюк погиб, других кандидатов нет. Бату обязан ей всем, не только жизнью. Хубилай не сомневался, что Бату не станет мешать ее семье. Сорхатани беззвучно поблагодарила дух мужа за то, что Толуй пожертвовал собой и сделал случившееся возможным.
Войско остановилось и рассредоточилось вокруг города. Коней разгружали и пускали пастись на траве, выросшей за месяцы похода. Сорхатани подумала, что луга Каракорума скоро снова станут пустыней. Вон Мунке с темниками и тысячниками. Интересно, расскажет ли она ему когда-нибудь о роли, которую сыграла в гибели Гуюка? Все пошло не так, как планировали они с Хубилаем. Сорхатани собиралась только спасти Бату, но гибели хана не желала. Фавориты Гуюка тряслись от ужаса с тех пор, как услышали, что их покровитель мертв. Сорхатани натерпелась от них столько мелких пакостей, что теперь открыто наслаждалась их страданиями. Она распустила стражу, которую приставил к ней Гуюк. Откровенно говоря, Сорхатани не имела на это права, но стражники сами почувствовали, что ветер переменился, и исчезли из ее покоев с удивительной быстротой.
Мунке подъехал, спешился и сдержанно обнял мать. Сорхатани заметила у него на поясе меч с волчьей головой, символ власти, но виду не подала. Мунке еще не хан, его ждет немало трудных дней, пока Гуюка не похоронили или не сожгли.
– Мама, боюсь, я привез дурные вести. – Открыто о случившемся еще не сообщали. – Гуюк-хан пал от руки своего слуги во время охоты.
– Пробил скорбный час для нашего народа, – церемонно отозвалась Сорхатани, наклонив голову. Подступающий кашель стянул грудь, и женщина спешно проглотила слюну. – Необходимо провести новый курултай. Я разошлю гонцов и следующей весной созову всех в город. Народу нужен хан, сын мой.
Мунке пристально посмотрел на мать. Глаза ее блестели. Тонкий намек, скрытый в конце фразы, вероятно, расслышал один орлок. Он чуть заметно кивнул в ответ. Военачальники уже считали Мунке ханом, ему осталось лишь объявить об этом всенародно. Он сделал глубокий вдох, глянул на почетный караул, который собрала его мать, и со спокойной уверенностью проговорил:
– Нет, только не среди этих холодных камней. Я – будущий хан, внук Чингиса, решение за мной. Я соберу народ в Авраге, где Чингисхан провел первый курултай.
На глаза Сорхатани навернулись непрошеные слезы гордости, и она молча кивнула.
– Народ отдалился от принципов, заложенных моим дедом, – объявил Мунке уже громче, чтобы слышали и военачальники, и стража. – Я верну его на путь истинный.
Он взглянул на раскрытые городские ворота, за которыми десятки тысяч человек работали на благо империи: кто вносил скромную лепту, кто – большую, соразмерно своим доходам. На лице Мунке мелькнуло презрение. Впервые после известия о гибели Гуюка Сорхатани встревожилась. Думалось, сыну понадобится ее помощь, чтобы подчинить город своей власти, а Мунке, казалось, не видел Каракорум и не интересовался им.
Когда он заговорил, опасения Сорхатани подтвердились.
– Мама, тебе стоит удалиться в свои покои. По крайней мере, на несколько дней. Я привез в Каракорум горящую ветвь и, прежде чем стать ханом, очищу город от скверны.
Сорхатани отступила на шаг, а Мунке вскочил на коня и через городские ворота поскакал к дворцу. Его свита была при оружии. Сорхатани по-иному взглянула на хмурые лица воинов, последовавших в Каракорум за своим господином. Они подняли такую пыль, что она закашлялась, из глаз снова потекли слезы.
К полудню благовония на жаровнях догорели, начался положенный траур по Гуюк-хану. Его тело поместили в дворцовый подвал, чтобы обмыть и обрядить для погребального костра.
Через полированные медные двери Мунке вошел в зал для приемов. Завидев его, придворные поклонились, коснувшись лбами деревянного пола. Гуюку это нравилось, а вот Мунке…
– Встать! – рявкнул он. – Хотите – кланяйтесь, но цзиньского лизоблюдства я не потерплю.
С гримасой отвращения Мунке сел на богато украшенный трон Гуюка. Слуги неуверенно поднялись; орлок внимательно на них посмотрел и нахмурился. В зале не было ни одного чистокровного монгола – вот чего за несколько лет добились Гуюк и его отец, правивший до него. Какой смысл покорять народы, если они покоряют ханство изнутри? Главное – чистота крови. Но эту прописную истину такие, как Гуюк и Угэдэй, усвоить не в состоянии. Присутствующие в зале управляли империей, устанавливали налоги, обогащались, а их завоеватели прозябали в нищете. От злости Мунке оскалился, еще больше всех напугав. Вот он глянул на Яо Шу, ханского советника. Долго не сводил с него глаз, вспоминая уроки, которые давал ему цзиньский монах. Яо Шу научил его основам буддизма, арабскому и китайскому… Как Мунке ни презирал ту науку, он восхищался учителем и понимал: Яо Шу незаменим. Орлок поднялся и прошел мимо слуг, хлопая старших по плечу.
– Встаньте у трона, – велел он, и те тотчас же повиновались. В итоге он отобрал шестерых и остановился возле Яо Шу. Советник не сутулился, хотя, вероятно, в зале был самым старшим. В молодости он знал Чингисхана, и уже за это Мунке не мог его не уважать. – Этих людей ты, советник, оставишь. Остальных наберешь из чистокровных монголов. Не допущу, чтобы моим городом управляли чужеземцы.
Яо Шу мертвенно побледнел, но в ответ лишь отвесил поклон.
Мунке улыбнулся. Он был в доспехах, наглядно показывая, что шелк в Каракоруме больше не носят. Возмужавшие в битвах, монголы попали в руки цзиньских придворных. Это никуда не годится. Мунке приблизился к стражнику и шепнул ему на ухо приказ. Тот убежал прочь, а писцы и придворные встревоженно уставились на орлока, который, продолжая улыбаться, смотрел на город в открытое окно.
Стражник принес палку с тонким кожаным шнуром на конце. Плеть. Мунке взял ее и расправил плечи.
– Вы разжирели в городе, которому не нужны, – заявил он, махнув плетью в воздухе. – Отныне такому не бывать. Вон из моего дома!
Придворные застыли, потрясенные его словами, и Мунке тотчас воспользовался замешательством.
– Ах вы еще и обленились при Гуюке и Угэдэе?! Когда монгол – любой из монголов – отдает приказ, нужно пошевеливаться!
Мунке хлестнул ближайшего к нему писца, перевернув плеть рукоятью вперед. Тот с криками упал на спину, а Мунке принялся от души его дубасить. Зал огласился криками – придворные спасались бегством, а орлок ухмылялся. Он хлестал, хлестал и хлестал, порой до крови. Писцы бросились вон из зала, а Мунке продолжал бить замешкавшихся по ногам, по лицам – куда попало.
Он гнал их к внутреннему двору, где на солнце блистало серебряное дерево. Иные падали, а Мунке смеялся и пинками заставлял их подниматься, кряхтя от боли. Словно пастух среди овец, он орудовал плетью, чтобы отара не разбредалась. Наконец впереди замаячили ворота. На башнях по разные стороны от них стояли стражники и изумленно взирали на происходящее. Мунке не сбавил темп, даром что взмок от пота. Он хлестал, пинал, лупил, пока не вытолкнул за ворота последнего цзиньца. Лишь тогда остановился, тяжело дыша в тени ворот.
– Вы достаточно получили от монголов, – объявил он. – Отныне либо честно зарабатывайте себе на хлеб, либо голодайте. Сунетесь ко мне в город – поплатитесь головой.
Цзиньцы взвыли от злости, и Мунке подумал, что они еще припомнят ему эту обиду. У многих в Каракоруме остались жены и дети… Только орлоку было все равно. Ему даже хотелось, чтобы придворные взбунтовались – так и подмывало схватиться за меч. Ученых и писцов Мунке не боялся. Они же цзиньцы – ни ум, ни гнев им не помогут.
Когда яростные вопли сменились бессильным ропотом, орлок посмотрел вверх на стражников.
– Закройте ворота! – скомандовал он. – Запомните их лица. Сунется кто в город, разрешаю пустить стрелу.
Видя ужас в глазах толпы, Мунке рассмеялся. Оспорить его приказы не решался никто. Он подождал, пока ворота закроются, а вид на равнины сузится в щелку и исчезнет начисто. Цзиньцы за воротами выли и рыдали, а Мунке кивнул дневным стражникам, бросил наземь окровавленную плеть и двинулся во дворец. По дороге ему попались тысячи цзиньских лиц: люди выглядывали из домов посмотреть на человека, который весной станет ханом. Мунке поморщился: ему снова напомнили, как сильно город отклонился от своего истинного предназначения. Только он не Гуюк и препятствовать своим планам не позволит. Монголы теперь – его народ.
Аромат агарового дерева был уже не таким сильным, как утром, но в городе по-прежнему воняло, как в лазарете после битвы. Мунке мрачно подумал о ранах, которые видал в своей жизни, – воспаленные и блестящие от гноя. Нужна смелость и твердая рука, чтобы очистить такую рану; зато после болезненного надреза начнется заживление. Мунке улыбнулся на ходу. Твердой рукою станет он.
К наступлению темноты Каракорум загудел. По приказу Мунке воины отрядами по десять-двадцать человек проникли в город и прочесали каждую улицу, осмотрев имущество каждой семьи. При малейших признаках сопротивления хозяев вытаскивали на улицу, прилюдно избивали и оставляли на дороге до тех пор, пока осмелевшая родня не выползала и не забирала их обратно. Иные целую ночь валялись там, где их бросили.
Ложа больных и те обыскивали – а вдруг где спрятано золото или серебро. Больных вытряхивали из постелей и заставляли стоять на холоде, пока воины не закончат. Многие кашляли и дрожали, с бессильной апатией наблюдая за бесчинствами. Больше других пострадали цзиньские семьи, но и ювелиры-мусульмане за ночь потеряли все свое добро – от сырья до готовых украшений, выставленных на продажу. По идее, все, что изъяли, следовало описывать, а на деле ценности исчезали за пазухами дээлов, которые воины носили поверх доспехов.
Рассвет не принес передышки – лишь выявил масштаб погромов. На каждой улице валялось по трупу, город оглашал плач женщин и детей.
Центром погромов стал дворец – точнее, роскошные покои придворных и фаворитов Гуюка. Их жены либо достались воинам Мунке, либо угодили за городские ворота к своим мужьям. Атрибуты высоких должностей уничтожили: и гобелены, и буддийские скульптуры. Впрочем, во дворце зачистка проходила под личным надзором Мунке. Все ценное аккуратно собирали и складывали в подвалах, прочее сжигали на огромных уличных кострах.
На второй вечер после возвращения в город орлок вызвал в зал для приемов двух военачальников, которым доверял больше других. Илугея и Нояна он считал настоящими монголами, выросшими с луками в руках. Ни тот ни другой не поддавались цзиньским веяниям. Впрочем, уже и поддавшиеся спешно брили голову и избавлялись от чужеземных вещей. Мунке недвусмысленно выразил свою волю, когда плетью выгнал из города цзиньских писцов.
Сам факт встречи с военачальниками в отсутствие иноземных чиновников, которые фиксировали бы сказанное, был решительным отказом от наследия Гуюка. Яо Шу Мунке пощадил, но не желал допускать старика на собрание, пока обсуждается главное. Прежний хан наделал уйму долгов, а ведь их нужно выплачивать. Лишь Отцу Небу известно, как Гуюк умудрился столько занять, притом что казна пустовала. Встревоженные купцы уже осаждали Мунке просьбами расплатиться по распискам. Орлок поморщился. Отобранное у цзиньцев покроет большинство долгов Гуюка, но это значит остаться без средств на многие месяцы. Честь обязывала расплатиться, к тому же Мунке нуждался в благоволении купцов и в их товаре. Оказывается, дело хана не только громить врагов.
Мунке еще не понял, правильно ли поступил, согнав всех придворных с насиженных мест. Он подозревал, что Яо Шу закидает его мелкими проблемами – хотя бы потому, что не одобряет этот шаг. Ну и пусть, воспоминания о забавах с хлыстом грели Мунке душу. Он должен был показать, что не такой, как Гуюк, и что отныне Каракорум принадлежит монголам.
– К Дорегене людей отправили? – спросил орлок Нояна.
Военачальник гордо стоял перед ним в традиционном дээле, лицо его лоснилось от свежего бараньего жира. Он явился без доспехов, а меч Мунке разрешил оставить. В отличие от Гуюка и Угэдэя, своего окружения орлок не боялся.
– Да, господин, отправили. Как выполнят задание, они сразу мне сообщат.
– А как насчет Огуль-Каймиш, жены Гуюка? – спросил Мунке, переведя взгляд на Илугея.
Прежде чем ответить, тот поджал губы.
– Эта проблема… еще не решена, господин. Я посылал воинов к ней в покои. Их не впустили, а я подумал, что тебе не захочется поднимать шум. До завтра она непременно выйдет.
Мунке не отреагировал на эти слова, и Илугей вспотел под взглядом его желтых глаз. Наконец орлок кивнул.
– Как ты, Илугей, выполняешь мои приказы, меня не касается. Доложи, когда все будет готово.
– Да, господин, – отозвался тот и вздохнул с облегчением.
Мунке отвернулся, и Илугей заговорил снова:
– Огуль-Каймиш… в городе любят, господин мой. Везде только и говорят о ее беременности. Могут начаться волнения.
Орлок зыркнул на потного старика.
– Так вытащи ее из покоев ночью. Избавься от нее, Илугей, это мой приказ.
– Да, господин. – Военачальник пожевал губу. – Огуль-Каймиш не расстается с двумя служанками. Если верить сплетням, та, что постарше, разбирается в травах и древних обрядах. Боюсь, не околдовала ли она госпожу своими заклинаниями.
– Я ничего не слышал… – Мунке осекся. – Да, Илугей. Повод хороший. Раскопай правду. Колдовство – злодеяние серьезное. Если обвиним Огуль-Каймиш в колдовстве, никто за нее не вступится.
Он отпустил военачальников и вызвал Яо Шу. Нелегка жизнь будущего хана, но Мунке избрал себе высокую цель. Он вскроет гноящуюся рану, и та очистится. Всего через несколько месяцев он будет править монгольской империей без цзиньской скверны в самом ее сердце. Прекрасная мечта! Сверкающими от счастья глазами Мунке смотрел, как ему кланяется Яо Шу.
Глава 11
Дорегене сидела в летнем дворце своего мужа. Тишину в зале нарушало лишь негромкое шипение лампы. Опрятный белый дээл, новые туфли из белого полотна, седые волосы убраны назад так, что из парных заколок не выскальзывает ни пряди. Украшений не осталось: Дорегене все раздала. В такое время о прошлом думать не хотелось, а о настоящем не получалось. Она столько плакала по Гуюку, что болели глаза, но сейчас в душе воцарилось спокойствие. Слуг тоже не осталось. Когда ей сообщили, что по дороге из Каракорума идут воины, у Дорегене сердце екнуло. В летнем дворце жили двенадцать слуг, кое-кого она знала десятилетиями. Со слезами на глазах госпожа отдала им все золото и серебро, которое сумела найти, и отпустила. Она не сомневалась: воины Мунке перебьют их, когда явятся сюда. Дорегене слышала о расправах, проводимых орлоком в городе, и даже подробности отдельных казней. Мунке избавлялся от тех, кто поддерживал Гуюка, и она не удивилась, что он послал к ней воинов; чувствовала только усталость.
Когда слуги разошлись, Дорегене устроилась в самом спокойном месте дворца и устремила взгляд на закат. Пуститься в бега не позволял возраст, даже если бы она надеялась ускользнуть от преследователей. Как странно смотреть в глаза неминуемой смерти, хотя ни страха, ни злости не было. Дорегене совсем недавно потеряла любимого сына и слишком сильно по нему горевала, чтобы жалеть себя. Она чувствовала себя обессиленной, как человек, переживший свирепый шторм: он способен лишь судорожно дышать и отлеживаться на камнях, глядя прямо перед собой.
Из ночного сумрака донеслись голоса воинов Мунке: они подъехали и спешились. Дорегене слышала тихие звуки, от стука сапог по камням до звона упряжи и доспехов. Она подняла голову, вспоминая лучшие годы. Угэдэй, ее муж, был хорошим человеком и хорошим ханом, но мстительная судьба не дала ему прожить долгую жизнь. Не погибни он… Дорегене вздохнула. Не погибни Угэдэй, она не ждала бы смерти, брошенная всеми во дворце, который знал счастливые дни. Дорегене подумала о розовых кустах, подаренных ей Угэдэем. Без присмотра они одичают. Женщина размышляла то об одном, то о другом, прислушиваясь к приближающимся шагам.
Гордился бы Угэдэй Гуюком? Дорегене сомневалась. Великим человеком ее сын не был. Лишенная будущего, она четче видела прошлое: сколько ошибок совершила, сколько неверных решений приняла. Глупо оглядываться назад и думать: если бы да кабы… Но удержаться от этого Дорегене не могла.
Когда за дверями зала заскрипели сапоги, ее мысли скомкались. Она вдруг испугалась и сложила руки замком. И тут в зал один за другим стали входить воины. Они ступали чуть слышно и держали мечи наголо, опасаясь нападения. Дорегене едва не рассмеялась, глядя на них, и медленно поднялась, чувствуя, как протестуют колени и спина.