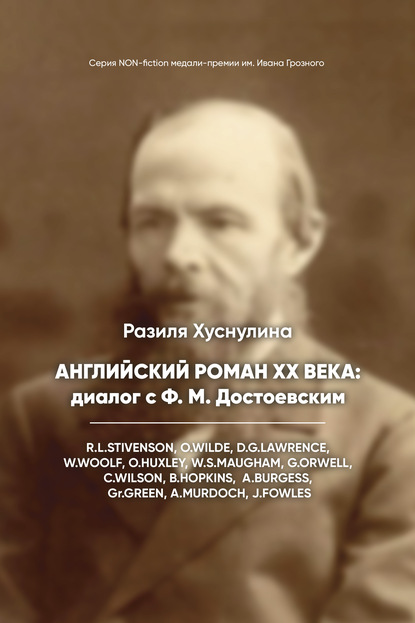Полная версия
Письма чужой жене
Я огорчаюсь. Какое-то время молчу.
– Да в интернете, конечно. Он там давно… Честно говоря, я думала, вы подготовились. Читали меня… Знаете, к кому идёте… Даже ранние мои книги и сейчас в любой библиотеке есть – от Минска до Чукотки. Так что «Белый свет» растёкся по всему белому свету, ведь тираж романа три миллиона. Его и переводили много.
Дина несколько смущена. Ловко переводит разговор на другую тему:
– Очень уютная у вас кухня. И большая.
– Ну, если десять метров большая, то да. На Преображенке, на прежней нашей квартире, было пять. В хрущёвке, в «хрущобе». Там, не вставая из-за стола, мы с плиты чайник снимали.
За нами в кухню пришли, ластятся к ногам мои любимые кошки-подружки. И чёрная Муся, и Малевич в белых абстрактных пятнышках.
– Вижу, вы животных любите. Сколько их у вас?
– Не просто люблю. Я их уважаю. Не обижаю. Это не просто кошки, это друзья. Коты. Хотя и ободрали на диване обивку. Но очень ласковые, душевные. И обожают гостей. Надеются на взаимность.
– Вы сказали «душевные». Что, у них есть душа?
– А как же. Они тоже душу имеют. В них две ипостаси. Тело и душа. А в нас три: тело, душа и Дух. Этим и отличаемся… А вы, Дина, попробуйте мёд. Алтайский. Друзья прислали из «Урожайного»…
В доме у нас всегда любили животных. И собак, и кошек. И эти не покупные, спасённые. Грешно покупать, когда столько вокруг бездомных. У нас в семье тест есть, проверка людей «на вшивость». Очень простой: «Любишь животных или нет?»
– Не все проходят?..
– К сожалению, не все.
И вдруг она спрашивает:
– А Носов Евгений Иванович прошёл?
– О да! Он очень любил животных. У него ведь тоже были собаки. Да и в прозе его, помните? И белый гусь, и петухи есть, и другие. Он пронзительно любил всё живое, всё сущее на земле… Вообще, Женя был крупная личность. А без доброты крупной личности быть не может.
– Ирина Евгеньевна, – она медлит с вопросом, – а можете хотя бы коротко рассказать о вашей первой встрече с Носовым?
– Могу конечно. Только если коротко, это уже не ответ. Да-да, нет-нет. Первая встреча – это серьёзно. К тому же с тех пор почти полвека прошло. Забылось многое. Остались только штрихи. К портрету времени.
– Вы тогда уже были писателем? И встреча с мэтром, наверное, вас потрясла? Не так ли?
– Нет. Совсем не так. Конечно, разница в возрасте у нас большая. Но тогда я была уже вполне состоявшимся автором. Даже известным. И за спиной – большая судьба. Три института, три изданные книги, замужество, дочь. Заработанная кооперативная квартира. А главное – работа и публикации. Я была тогда в эпицентре литературной жизни Москвы. Конечно, о том, что есть в Курске такой хороший писатель-«деревенщик», я знала. Но познакомились мы случайно: зимой, в Переделкино. В писательском Доме творчества.
Есть под Москвой такой заповедный островок – Переделкино. Теперь уже знаменитый. Но сильно капитализмом подпорченный. А раньше там настоящий сосновый бор рос. Станция Мичуринец, чуть поодаль – деревенька Чоботы. Гудят поезда. А я помню ещё дымы паровозов. Потом пошли тепловозы. Потом электрички. Вдали по горизонту то и дело стучат по рельсам вагоны, бегут составы.
Ещё в тридцатые годы, при Максиме Горьком, настроили среди сосен несколько десятков казённых дач. Для писателей. А в центре – Дом творчества санаторного типа, окруженный берёзами, соснами. Чтобы те, кто без дач, могли там спокойно работать, лесом дышать, прятаться от семейных забот. И путёвки для членов Союза писателей предоставлялись со скидкой… Вот там-то мы с Евгением Ивановичем и встретились.
– И получился классический треугольник? Художник, Писатель и Муза?
– Звучит романтично. Но в жизни, как всегда, всё было сложнее, серьёзней. Было – как на разрыв аорты. Помните у Окуджавы?
Я знаю, это любовь была,Посмотрите, ведь это её дела…Если хочешь, Бога сюда призови.Ничего невозможно понять в любви…– Но всё-таки вы с Носовым, люди серьёзные, даже семейные, оказались в ЗАГСе?
– Дело в том, что Евгений Иванович никогда не вступал в официальный брак. Даже вырастив двух детей. А мы с Юрой на тот момент были в разлуке. Ведь работа в кино особая. Ведь съёмки на натуре по всей стране долгие. Порой не виделись по полгода. К тому же на этот момент мы были в разводе, конечно, в фиктивном. Новому поколению этого не понять. Мы всё мечтали кроме квартиры купить для Юры светлую художественную мастерскую. Ему для работы, для живописи. А то наши «хрущёвские» комнатёнки были вечно завалены холстами, мольбертами, рамами. И мастерская была в подвале, тёмная, где всегда пахло красками, скипидаром. Но иметь две квартиры на одну семью советские законы не позволяли. Тогда это считалось даже не роскошью, а экономическим преступлением. Вот мы и развелись фиктивно. Нашли строящийся кооператив. Назанимали денег и даже внесли первый небольшой взнос за однокомнатную квартиру для Юры. На улице Фестивальной. Думали, чтобы потом, с годами, дочке её отдать.
– Это и была цель развода?
– Да, и очень серьёзная. В те времена фиктивно разводились очень многие. Это теперь, в наше время, снимай, покупай что, сколько хочешь и где хочешь. И не только художники. Тогда ведь квартир не сдавали даже. Вот и приходилось хитрить, как-то выкручиваться.
Журналистка слушала недоверчиво, ошарашенно. Потом покрутила, проверила свой аппаратик, понажимала кнопки. Резко раздались обрывки моего голоса, разных фраз. Всё хорошо работало.
– А что такое, Ирина Евгеньевна, быть нынче писателем?
Я помолчала.
– Это не нынче, Дина. Иные порой думают, раз ты грамотный – вот и писатель. А это профессия всегда была мучительная, тяжкая. Писатель един во всех лицах: ты и актёр, и режиссёр, и художник. Сказано же: «Вначале было Слово. И Слово было у Бога». Понимаете? «И Слово было Бог…» Слово – Бог. Вот что главное.
– А кого среди русских писателей вы считаете лучшими?
– Вы думаете, скажу – Носова? Или Распутина? Нет-нет. Пожалуй, скажу – Набокова. Гениально неповторимого. Кстати, и Евгений Иванович так считал. Хотя «Лолиту» мы с ним оба не принимали. По понятным причинам… Мы с ним вслух читали Набокова «Другие берега». В Переделкино, в Доме творчества. По ночам читали друг другу. Это не проза, а чудо… Мне кто-то тайно тогда привёз из Парижа. Такую голубенькую, запрещённую книжку. И она гуляла по этажам, по писательским номерам. Тогда за границей купить её было несложно, например в «Глобе», на русском. А вот провезти в СССР, через границу – почти невозможно. Отнимали… А Набоков волшебник. Стиль, язык – всё драгоценно. Тогда запретные книги у нас перепечатывали на машинке. И тайно распространяли. Я помню, сама на старенькой «Олимпии», на папиросной бумаге, под копирку печатала Ходасевича, Цветаеву, Мандельштама. В пятидесятые – шестидесятые мы даже Бунина читали тайно. Не говоря уж про пастернаковский роман «Доктор Живаго». Который, кстати, мне показался очень скучным. И «самиздат» этот передавали друг другу на ночь или на две. А за распространение можно было и срок схлопотать.
– А кого ещё читали из запрещённых?
– Ильина, Евгения Замятина, Кузьмина, Бориса Зайцева. Эти пришли к нам в Россию поздно. Помню, как уже в оттепель один наш с Юрой друг – краснодарский прозаик Витя Лихоносов – увлёкся Борисом Зайцевым. Наивный, он всё письма писал этому легендарному старику, Борису Константиновичу, в Париж, всё вызывал его на контакт. И соблазнил-таки на переписку. И возмечтал даже встретиться с ним. Накопил денег на турпутёвку по Франции в писательской группе. Но вездесущие «гэбэшные органы» обо всём пронюхали, и Виктору по какой-то причине просто не дали визу.
– А вы бывали в Париже?
– Первый раз – в шестьдесят восьмом. На легендарном празднике «Взятие Бастилии». Я, конечно, оттуда в потрясении вернулась… Там бастовали как раз студенты. То жгли что-то на баррикадах, то с полицией дрались. А в это же время на соседних улицах мирные парижане капучино пили в «Ротонде», дамы гуляли с собачками. Я там всему поражалась как школьница. Бегала от Лувра до «Чрева Парижа». Тогда и «Чрево» было ещё в центре города. Перенесли уж потом. А раньше я только в Польше была с отличниками-студентами нашего ВГИКа. В Лодзинской киношколе. И выезд этот считали за счастье… Но Париж – это другое дело. Там всё потрясение… Помню, в память контрасты врезались. Спящие под мостами нищие. Этакие весельчаки-клошары. Старушки в модных шляпках, перчатках, которые рылись в мусоре. Даже забастовка у них была какой-то весёлой… В то время, когда студенты в Сорбонне в аудиториях жгут костры из паркета, на улицах пилят для баррикад каштаны, а на соседней площади в бистро пьют вино. Роскошные дамы прогуливают левреток…
И мы прогуливались. Правда, парами или тройками. Ходить поодиночке советским не разрешали. Мы ж московская делегация! А демонстрации всё продолжались. И в пригородном «Красном поясе Парижа» всё полыхали подожжённые машины. Уже в Москве я написала эссе «Париж после бури». Его тогда напечатали в еженедельнике «За рубежом».
А ещё храню в архиве корочки официального приглашения (на французском и в переводе на русский): «Президент Франции генерал де Голль имеет честь пригласить госпожу Ирину Ракшу в Елисейский дворец на празднование Дня взятия Бастилии». Адрес, дата и… факсимиле президента… Да-да, именно так, де Голль имел честь меня приглашать. Помню, Евгений Иванович с удовольствием, даже с гордостью рассматривал эти корочки. Впрочем, зря. Такие получил буквально каждый член нашей делегации…
А де Голля я действительно видела очень близко. На Елисейских Полях на утреннем параде наши гостевые места для иностранцев были рядом с его трибуной. Роскошной, но невысокой. Под балдахином с кистями расставили два ряда позолоченных кресел, с обивкой из бордового бархата. Посередине стоял генерал де Голль – выше всех, длинный, прямой, в своей знаменитой, как котелок, фуражке… Это был последний год, даже последние месяцы, дни де Голля у власти.
– А что-нибудь импортное привезли оттуда? У нас ведь на всё был «дефицит».
– В загранпоездки нам меняли тогда на доллары всего тридцать рублей. Так что все подарки были с блошиного рынка. Даже не из «Чрева Парижа». Легендарное «Чрево» в тот год ещё не перенесли на окраину. Но я и на тридцать рублей умудрилась накупить всем подарочки – и Юре, и бабушке, и маме с дочкой, и подругам… Крем какой-то, Юре колонкóвые кисти, а главное – побольше ароматных флаконов: шампуни и мыло в ярких чудо-коробочках. На границе французы-таможенники удивлялись: неужто русские такие грязные? А дело-то было в несчастной тридцатке. А себе отыскала белый костюмчик «с искрой». В развале флёу-маркета (блошиного рынка). Жакет и юбочка за три франка. Именно в нём, белом, через несколько лет я буду праздновать нашу с Носовым свадьбу… И ещё там же, на вещевых «развалах», где всё по три франка, с восторгом «откопала» в подарок Юре замшевый, почти не ношенный пиджак. Такой бежевый пиджачок. Тогда замша была очень в моде…
Сейчас всё это даже трудно представить. Сейчас русские там с жиру бесятся. Бутылками хлещут самое дорогое шампанское. А для нас мыло, купленное в «Тоти» (это магазин для эмигрантов и бедняков), было лучшим подарком! Зато на изысканные витрины на Шанз-Элизе мы налюбовались досыта… (Фото 11.)
– А как дома приняли ваши подарки?
– С восторгом. У нас в семье было принято любые подарки, которые от души, принимать с радостью. Даже маленькие. Бабушка, например, бережно развязывала все ленточки, все бантики. Все коробочки раскрывала с восторгом. И всё нюхала, нюхала. Вспоминала, как до революции на Кузнецком мосту она, молодая, покупала такое же дивное мыло. Кажется, «Лориган» или «Роза». И оно так же чудно пахло. А мама мои «мыльные сувениры» закладывала в стопки белья в шкафу – «для аромата».
– И замшевый пиджачок мужу пришёлся впору?
– А с пиджачком другая история… Видите, вон он, пиджачок этот… На картине «Современники», где мы сидим с друзьями у нас за столом. Только он не на Юре. Он на Вите Лихоносове, писателе, который сидит за нашим столом рядом с Юрой. Витя часто у нас ночевал, когда был в Москве проездом из Красноярска в Краснодар… Мы все тогда одевались бедно, и Виктору было не в чем позировать для картины. Тем более с таким громким названием – «Современники». Да и колорит художнику нужен был охристый, тёплый… Вот Юра и предложил Вите надеть его «парижский презент» с блошиного рынка. Попозировать. Витя так на холсте и написан в нём, замшевом, для истории. А Юрочка сидит в красном свитере, который я ему раньше, к дню рожденья, связала. (Фото 12.)
– Прямо сюжет для небольшого рассказа.
– Только со счастливым концом. Потому что пиджачок этот вернулся-таки в Париж.
– То есть как это? – поражается Дина.
– Да. На этом Юрином полотне в 72‐м году. На европейской выставке «Биеннале‐72» его картины «Современники» и «Моя мама» были названы победителями в номинации «Лучшее в реализме». Раньше ведь, в советские времена, вместо авторов всё больше чиновники за наградами ездили за границу. Слава Богу, хоть выставочный каталог нам привезли. С его работами. Хоть один экземпляр подарили.
– А белый костюмчик «с искрой» тоже всех поразил?
– А у костюмчика судьба особая. Вот посмотрите, на этих фотографиях. Это я как раз в нём. А рядом Носов. Евгений Иванович. Он же ваш, тоже курянин. Вы ведь им тоже интересовались? – я подаю журналистке заранее приготовленную пачку фотографий. Они чёрно-белые. В те годы цветных ещё почти не было. – Порой смотрю, и самой не верится. Как в другой жизни. Цветы, кольца, свидетели. Потом я уж никогда не видела его, Женю, таким сияющим… (Фото 13.)
Дина жадно рассматривает фотографии. Одну за другой.
– Да и вы сияете. Видно, закружил вас водоворот любви.
– О нет, не сразу. Сначала Носов мне совсем не понравился. Случайно заметила его в столовой в переделкинском Доме творчества. Какой-то грузный дядечка под полтинник. Крупная голова, крупные черты лица, ноги худые, высокие, как у лося. И ходил прямо, выпятив грудь колесом. Такая уж у него была грудь. Если опускал голову, то подбородок упирался прямо в грудную клетку. И руки крестьянские, некрасивые, но сильные. Помню, всё время издали со своего стола поглядывал в мою сторону. А я как бы не замечала. (Фото 14.)
В Доме творчества зимой всегда много писателей. Со всей страны. Жили, творили, знакомились, искали контакты в столичных издательствах. Напечататься старались. А Переделкино от Москвы близко. И автобусы ходят, и электрички до Киевского вокзала. И потому прозаики и поэты именно в Переделкино съезжаются со всех республик. И писать, и, как теперь говорят, «тусоваться». Все знакомятся, у всех общее окружение. Свой круг. И для Жени Носова в 72‐м это навсегда стало его московским окружением.
Три раза в день мы ходили на первый этаж в ресторан питаться. Но днём на этажах царила тишина. За каждой дверью на разные голоса только пели-стучали пишущие машинки – «Эрики», «Консулы» и «Колибри». И этот стук говорил, что писатели множат «нетленку». Свои нетленные строки творят. И я тоже творила. Без устали барабанила по клавиатуре.
А этот «курский лось» начал мне мешать. Изо дня в день стал подозрительно часто встречать меня всюду. И улыбаться, и кланяться. То по вечерам в холле у телевизора, то в коридорах на красных ковровых дорожках, ну а в столовой уж и подавно! Сперва он сидел за дальним столиком у окна, а когда за нашим столом освободилось место (Чингиз Айтматов с женой уехал к себе в Киргизию), он неожиданно пересел, возник рядом, заняв его место. И теперь мы сидели втроём: я, Носов и великая коммунистка-беллетристка, прозаик Мариэтта Сергеевна Шагинян, писавшая свой очередной том «Ленинианы». Почти все вокруг перед ней заискивали, а мы, соседи по столу, стали с ней как бы накоротке. Её романов я, каюсь, тогда не читала. И видела в ней седую маленькую старушку-армянку с седыми смешными усиками и бровями. (Фото 15.)
А Евгений Иванович оказался дамским угодником. Был постоянно улыбчив, вежлив, предупредителен. Ещё бы! Рядом сидели две такие разные и такие очаровательные дамы. Как же мужчине не покрасоваться, не попавлиниться?
А мне было совсем не до флирта. Я готовила для издательства «Советская Россия» новую книгу своих рассказов. Уже четвёртую в моей биографии. А предыдущую, «Скатилось колечко», я принесла как-то к ужину и с автографом подарила Носову. Назавтра он сказал радостно: «А ведь я знаком с вашим творчеством. У нас в Курске продавалось ваше “Колечко”. Я и в периодике вас читал. Она и издана хорошо. Прекрасные иллюстрации. Вижу, ваш муж-художник ещё и график!.. Я тоже люблю рисовать… И предисловие Михаила Светлова яркое. Хорошо иметь такого покровителя в литературе». Добавил, правда: «Хотя я бы о вас написал и больше, и лучше. Во всяком случае – подробнее».
– Светлов не покровитель, – возразила я. – Он друг моего отца. К нам на алтайскую целину со своими студентами приезжал.
А наутро, к завтраку, Евгений Иванович принёс мне свой сборник рассказов «Красное вино Победы». Мы удивлённо обрадовались, что наши книжки вышли одновременно, в один и тот же прошлый, семьдесят первый год. В одном и том же издательстве. Что мы ходили с ним по тем же коридорам и кабинетам, общались с одними и теми же редакторами, но почему-то тогда не встретились. Видно, было не суждено. А вот сейчас передо мной ежедневно сияло его счастливое лицо, как говорится: «Бог дал».
Итак, за столом мы сидели рядом, тарелки и хлеб были рядом, в номерах наших, что на втором этаже, на письменных наших столах лежали наши книги, словно дары волхвов. И с рокировки этих двух книг для нас обоих началась какая-то иная жизнь.
Дина спросила:
– Значит, книги послужили сближению?
– Сближению? Нет, не книги. Как ни странно, этому послужила незабвенная Мариэтта Сергеевна, эта маленькая седенькая армянка. Неожиданно для самой себя. Ей тогда как раз исполнилось восемьдесят пять. И дело в том, что при фантастическом трудолюбии, почётных регалиях она сохраняла острую ясность ума и юмор. А вот слуха не сохранила. На все Женины реплики и вопросы, на его старание пообщаться она, даже не поднимая глаз, отвечала всегда невпопад. И мы не сразу поняли, что у неё слуховой аппарат. Частью в ухе, а частью – в кармане. Аппарат от глухоты был редкостный, дорогой. Органы КПСС специально для неё покупали этот валютный прибор за границей. Правда, он был мудрёный, с отключателем и дорогущей «таблеткой» питания. И милая седобровая Мариэтта Сергеевна, с седым пучочком на голове и седыми усами, экономила бесценную батарейку и при общении с кем-то то включала, то отключала её. В зависимости от интереса. Порой невпопад. А если собеседник становился неинтересен, погружала себя в блаженную тишь. Бывало, начнёт Евгений Иванович рассказывать что-нибудь про рыбалку, про реку Сейм, а она невпопад смеётся. Или вдруг вспоминает о тёплых встречах с Рахманиновым. Вероятно, полагая, что мы не знаем истории стародавних их отношений. Ведь она в юности была горячо влюблена в гениального композитора. А Рахманинов страшно её боялся, боялся встреч с «самой упорной этой своей поклонницей – маленькой усатой армянской девушкой с толстой косой, донимавшей его после каждого концерта»! А Мариэтта Сергеевна, под впечатлением от собственных воспоминаний, могла вдруг встать и, не дождавшись второго блюда, глядя в пространство, уйти из-за стола и вообще из столовой. Словно бы навсегда… во всяком случае до завтрашнего обеда.
Тут может возникнуть вопрос: какими интересами жили творческие люди в Доме писателей?
Жизнь в Доме творчества буквально била ключом. Для членов Союза писателей месячные путёвки продавались со скидкой. А родственники же, посещавшие Дом по воскресеньям, платили за обеды сполна. Писатели творили, ресторан, стараясь не подкачать, работал на всех парах. По утрам привозили почту. По выходным приезжали навестить близких из Москвы родные и, взяв напрокат лыжи, гуськом отправлялись в сосновый лес. Укатанная лыжня вела всё выше в сторону знаменитого переделкинского кладбища, что на взгорке. Чем знаменитого?.. Могилами классиков, порой гениев: Пастернака, Чуковского, Заболоцкого, Солоухина, Алигер, Тарковского…
И тут, сидя за чаем, Дина спросила:
– Расскажите, пожалуйста, а как Носов, глубокий провинциал, вживался в этот особый литературный мир?
(Почему он глубокий провинциал??? Так нельзя о писателе. Рубцов тоже «провинциал».)
– Ну, во‐первых, понятие «провинциал», да ещё в литературе, – относительно. Я думаю, он первач, «король». Этакий скромный король рассказа. Как и я – бегун на короткие дистанции.
Евгений Иванович обычно много курил. Свободно курить в санатории (в Доме творчества) разрешалось только в своих номерах или в нижнем холле, где в углу темнела деревянная будка междугороднего телефона. Там постоянно занималась очередь из пишущей братии. Все ежедневно жаждали позвонить семьям в Москву или Курск, Магадан или Вологду. Телефонная трубка раскалялась словно утюг! А уж сколько разных секретов, и откровений, и голосов она слышала и помнила! Голоса Чуковского и Катаева, Леонова и Пастернака, Хикмета и Федина… У многих ведь тогда на дачах телефонов попросту не было. И все прибегали сюда, в эту будку. И Пастернак, таясь от жены Зинаиды Николаевны, названивал отсюда в Москву своей возлюбленной Ольге Ивинской. И домой, и в редакции.
А теперь вот и мы, уже новое поколение, выстояв очередь, шептали в эту же ещё тёплую трубку свои мысли, секреты. Данелия и Токарева, Горин и слепой поэт Эдуард Асадов, Гена Шпаликов и Юра Рытхэу…
Порой стоял в этой очереди и Евгений Иванович. А я не стояла: мой муж был на киносъёмках, в Муроме, на натуре. А дочь Анечку забрала бабушка к себе на Таганку. За свою кроху я не беспокоилась, ведь она была у любимой бабушки. Я звонила лишь порой. В те времена мобильников не было и в помине. Ни смартфонов, ни скайпа, ни компьютеров, ни интернета…
А Носов вполне органично вписывался в общий литературный круг. Любил играть в шахматы, чаёвничал у самовара. Среди его партнёров был и великий поэт Арсений Александрович Тарковский. Тот тоже очень много курил.
– А каким вы запомнили Тарковского?
– Мужчины предпочитали дымить не в своих номерах, а снаружи, на свежем морозце, при входе в Дом – меж белых колонн на плетёных скрипучих креслах. Дышали, так сказать, свежим воздухом, сберегали здоровье. Беспризорные псы со всей округи тоже приходили сюда, надеясь на съестное. Сидели на снегу полукругом, на почтительном расстоянии, как бы соучаствуя в наших беседах.
А Тарковский Арсений Александрович был безногий. Обычно сидел у высоких входных дверей, облокотив свои костыли о жалобно скрипящее, словно живое, плетёное белое кресло. Вокруг в таких же скрипучих креслах отдыхали коллеги-писатели – соседи по столу или комнатам. А рядом с ним, всегда плечом к плечу, – заботливая востроносенькая жена Танечка (так её называли), изысканная, миниатюрная и многомудрая. Татьяна Алексеевна Озёрская, ещё не старуха, скорее дама с остатками немыслимой красоты, переводчица, которая переводила Диккенса и Лондона, Драйзера и О. Генри, и даже М. Митчелл «Унесённые ветром». Обычно Арсений Александрович, сняв одну перчатку, курил. Глядел вдаль – на белизну берёзовой аллеи, на терпеливых и смирных дворовых псов. Слушал послеобеденные вялые разговоры. И тогда мне он казался необитаемым островом – таким глухим и таким одиноким…
С Тарковскими мы с Юрой дружили семьями. Через пару лет в этом же переделкинском Доме творчества мой муж напишет маслом его великолепный портрет – проникновенно-глубокий и драматичный, в чёрно-красных тонах. Арсений Александрович в нашем номере, где стоял мольберт, будет послушно позировать, беседуя с нами и порой прихлёбывая чай. А его Таня с бутербродами и конфетами в руках, а главное – с запрёщенным в номерах кипятильничком, будет готовить в кружках заварку. Потом этот портрет Поэта будет признан лучшим. Он и поныне находится в Третьяковской галерее. (Фото 16.)
Арсений Александрович, хоть и старик, всегда производил на меня сильное впечатление. Был очень красив, сухопар, кареглаз. Лепнóе, желтовато-восковóе лицо с вздёрнутыми бровями не портили ни большие уши, ни резкость морщин. Казалось, на высоком челе его, как в «Зеркале», уже была отпечатана вся родовая судьба семьи Тарковских. И даже то, что ещё произойдёт с ними по промыслу Божиему в будущем. А то, что окружало его, как бы скользило мимо, мимо.