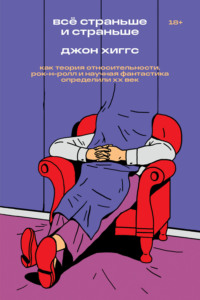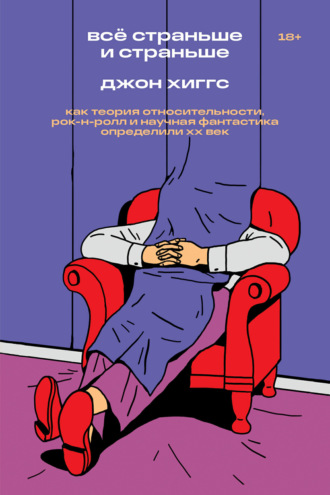
Полная версия
Всё страньше и страньше. Как теория относительности, рок-н-ролл и научная фантастика определили XX век
Если бы нам пришлось выбрать один город как место рождения XX века, первым кандидатом стал бы Цюрих – старинный городок на берегах реки Лиммат, на северных склонах швейцарских Альп. В 1900 году Цюрих процветал: улицы, обсаженные деревьями, здания, одновременно изящные и величественные. Именно тут, в цюрихском Политехникуме, двадцатиоднолетний Альберт Эйнштейн и его подруга Милева Марич стали худшими студентами своего курса.
Начало пути Эйнштейна не сулило ему блестящего будущего. Он был вольнодумцем и бунтарем, который успел отказаться как от своего иудейского вероисповедания, так и от германского гражданства. Шестью месяцами раньше, в июле 1899 года, во время неудачного физического опыта Альберту повредило взрывом правую руку, и ему пришлось на время оставить любимую скрипку. Его вольнолюбивый характер приводил к конфликтам с академическим начальством и не позволил занять ученую должность, когда он наконец получил диплом. Вряд ли кто подумал бы, что научный мир когда-нибудь заметит этого молодого бузотера и упрямца.
Биографы спорят о том, какую роль в ранних достижениях Эйнштейна сыграла Милева Марич, на которой он в 1903 году женился. Марич не относилась к тому типу женщин, который в начале XX века пользовался одобрением общества. Она стала одной из первых в Европе студенток, изучавших математику и физику. Немало толков вызывало ее славянское происхождение и ее хромота. Эйнштейн, однако, чихать хотел на глупые предрассудки своего века. В Милеве он чувствовал неистовство, увлекавшее его. Как свидетельствуют многочисленные письма Эйнштейна, Марич была его «ведьмочкой» и его «сорванцом-дикаркой»; по крайней мере, несколько лет этим двоим не нужен был никто другой.
Марич верила в Эйнштейна. Гению ученого, как дару художника, порой нужна муза. Чтобы лишь помыслить о том, что предстояло совершить Эйнштейну, нужна редкая даже для юности самоуверенность. С любовью Милевы, что поддерживала его веру в себя, и с интеллектуальной свободой, которой он не знал бы, если бы остался работать в академической среде, Альберт Эйнштейн перевернул наше понимание Вселенной.
«Так чем ты занимаешься, – писал Эйнштейн своему другу Конраду Хабихту в мае 1905 года, – мороженый ты кит, копченая ты душа? Между нами повисло такое гробовое молчание, что я уж стал подозревать, не сболтнул ли в пустом трепе какого кощунства…»
Далее в «пустом трепе» Эйнштейн между делом упомянул четыре научные статьи, над которыми работал. Любая из них могла бы составить основу блестящей научной карьеры. Почти невероятно, что Эйнштейн завершил все четыре в столь короткое время. Историки физики привыкли говорить о 1905 годе как о «чудесном годе Эйнштейна». А слово «чудесный» далеко не самое обычное в лексиконе ученых.
В своих работах 1905 года Эйнштейн возвращается к открытиям Ньютона, сделанным в 1666 году, когда из-за чумы закрылся Кембриджский университет и ученый вернулся в материнский дом в пригороде Линкольншира. Время в деревне Ньютон проводил за разработкой математического анализа, теории цвета и законов всемирного тяготения, которыми обессмертил себя как величайшего ученого в истории Великобритании. Достижения Эйнштейна впечатляют еще больше, если учесть, что он не прогуливался по яблоневому саду, а целый день проводил в офисе. Он был служащим бернского патентного бюро, поскольку не смог получить академическую работу. И свои четыре статьи он написал, как ни удивительно, в свободное время.
«Первая [из задуманных статей] – о радиации и энергии света, и она по-настоящему революционна», – писал Эйнштейн. И он не преувеличивал. В этой статье он доказывал, что свет состоит из отдельных частиц – сегодня мы называем их фотонами, – а эфира не существует. Как мы увидим далее, этой статьей Эйнштейн невольно заложил основы квантовой физики и столь странной и контринтуитивной модели Вселенной, что и самому ему пришлось большую часть жизни разбираться с последствиями.
«Вторая статья – об оценке истинных размеров атома». Это была наименее противоречивая из четырех работ: полезная физика, не переворачивающая никаких установленных истин. Она принесла Эйнштейну докторскую степень. В третьей статье Эйнштейн путем статистического анализа взвешенных частиц, движущихся в воде, непреложно доказывал существование атомов, которое широко признавалось, но до тех пор не было убедительно продемонстрировано.
Важнейшее из открытий Эйнштейна стало итогом его размышлений о кажущемся противоречии между двумя физическими законами. «Четвертая статья – пока еще сырой черновик, она об электродинамике движущихся тел, несколько меняющей теорию времени и пространства», – писал Эйнштейн. Эти размышления станут в итоге специальной теорией относительности. Вместе с более широкой общей теорией относительности, которую Эйнштейн разработает через десять лет, она опрокинет уютный стройный космос, описанный Ньютоном.
Относительность показала, что мы живем в сложном и странном мире, где время и пространство не постоянны, а могут растягиваться под влиянием массы и движения. Это ир черных дыр и искривленного пространства-времени, имеющий вроде бы мало общего с той повседневной реальностью, в которой существуем мы. Относительность нередко описывают так, что ее суть кажется непостижимой, но ее главную, основополагающую идею можно передать и понять на удивление легко.
Представьте себе самый далекий, темный и пустой участок космоса, какой только есть, – вдали от звезд, планет и любого внешнего влияния. Теперь представьте, что вы парите в этой полной пустоте, от которой вас защищает теплый и уютный скафандр. Важно, чтобы вы представили себя висящим неподвижно.
Затем представьте, как мимо вас медленно проплывает, исчезая вдали, чашка чая.
Вроде бы вполне возможная ситуация. Первый закон Ньютона гласит, что тело, на которое не действует никакая внешняя сила, остается в покое или движется по прямой с постоянной скоростью. Кажется, он идеально описывает происходящее и с вами, и с чашкой.
Но как понять, что вы находитесь в покое, спросил бы Эйнштейн. Откуда мы знаем, что не чашка стоит на месте и не вы пролетаете мимо нее? С вашей точки зрения оба сценария будут выглядеть одинаково. И ровно так же одинаково – с точки зрения чашки.
В 1630-х годах Галилею говорили: невозможно, чтобы Земля вращалась вокруг Солнца, потому что люди на Земле не чувствуют движения. Но Галилей знал, что если движешься ровно, без ускорения или замедления, и нет никаких визуальных или акустических показателей движения, то понять, что ты движешься, невозможно. Никто не может быть уверен, что «неподвижен», утверждал Галилей, поскольку разница между движением и покоем незаметна без тех или иных внешних ориентиров, с которыми можно сравнить свое положение.
Это может показаться каким-то софизмом. Разумеется, можете подумать вы, объект или движется, или неподвижен, даже если рядом нет ничего. Для кого утверждение «Я стою на месте» может выглядеть абсурдом или бессмыслицей?
В школе нас учат определять положение объектов с помощью системы координат, показывающей удаление предмета от некой фиксированной точки по высоте, длине и глубине. Эти измерения называются осями x, y и z, а фиксированную точку обычно помечают буквой O, от слова origin (начало). Это тоже омфал, от которого отмеряются все расстояния. Эта модель именуется декартовой системой координат. В ней вы легко поймете, движутся ли астронавт и чашка чая, просто отследив, меняются ли со временем значения их координат.
Но если бы вы показали такой чертеж Эйнштейну, он взял бы ластик и первым делом стер «О», а потом уж заодно и все три оси.
Этим он убрал бы не «пространство», а только систему ориентиров, которой мы пользовались, чтобы это пространство измерить. И он сделал бы так потому, что в реальном мире этой системы координат нет. Декартовы оси – такое же творение человеческого ума, как и разбегающиеся от Гринвича линии долготы, и мы проецируем эти модели на мироздание, чтобы как-то его описать. Эти сущности мнимы. Более того, они произвольны. Центр такой системы координат можно расположить где угодно.
Инстинктивно мы чувствуем, что движение астронавта или чашки должно замечаться на каком-то определенном «фоне». Но если это так, что может выполнять его функцию?
В нашей повседневной жизни твердая почва под ногами служит нам ориентиром, к которому мы неосознанно привязываем всё. Существование такой понятной и незыблемой отправной точки мешает нам представить ситуацию, когда ничего подобного нет. Но насколько незыблема земля? Теория тектонических плит, получившая признание в 1960-х, научила нас, что континенты медленно дрейфуют. Так что, если мы ищем неподвижную точку, под ногами ее не найти.
Может быть, сориентируемся по точке в центре нашей планеты? Она тоже не статична, потому что Земля летит вокруг Солнца со скоростью более 100 000 километров в час. Тогда, может, зацепимся за Солнце? Оно мчит со скоростью 220 километров в секунду вокруг центра нашей Галактики. Галактика, в свою очередь, несется на 552 километрах в секунду относительно остальной Вселенной.
Ну а что же собственно Вселенная? В последней отчаянной и уже радикальной попытке найти точку неподвижности не объявить ли нам омфалом центр Вселенной? Ответ тот же: нет. Центра Вселенной, как мы увидим далее, вовсе не существует, а пока мы отвергнем эту идею из-за ее полнейшей неосуществимости.
Но как тогда положительно утверждать что-либо о положении астронавта (нас) и чашки? Пусть «неподвижной точки», которую можно взять за ориентир, не существует, но у нас ведь еще есть координатные модели, и мы можем прикладывать их где хотим. Например, если мы нарисуем сетку с центром в нас самих, то сможем сказать, что чашка движется относительно нас. А если поместим в центр координат чашку, получится, что это мы движемся относительно чашки. Но мы не можем утверждать, что одна из моделей правильная или в чем-то лучше другой. Сказать, что чашка проплывает мимо нас, значило бы лишь обнаружить свое врожденное предубеждение к чайным чашкам.
В книге Эйнштейна «Относительность» 1917 года есть хороший пример, поясняющий, почему ни одна система координат не важнее любой другой. В оригинальном немецком издании автор упоминает в качестве точки отсчета берлинскую Потсдамскую площадь. В английском переводе ее заменили на Трафальгарскую. К тому моменту, когда книга превратилась в общественное достояние и в интернете появилась ее цифровая копия, площадь превратилась в нью-йоркскую Таймс-сквер, потому что редактор именно ее считал «самым известным и узнаваемым местом для англоязычного читателя наших дней». Иначе говоря, о точке отчета важно знать то, что она устанавливается произвольно. В общем-то, она может быть где угодно.
Посему первый шаг к пониманию относительности таков: нужно принять, что любые утверждения о расположении объекта имеют смысл лишь тогда, когда оно определяется вместе с системой координат. Систему мы можем выбрать любую, но не можем говорить, что она правильнее остальных.
С этим пониманием мы вернемся в Цюрих 1914 года.
Эйнштейн садится в поезд в Цюрихе и отправляется в Берлин. Он покидает жену Милеву и двух детей, уезжая в новую жизнь, к собственной кузине, с которой позже сочетается браком. Представим себе, что поезд движется по прямой с постоянной скоростью 100 км/ч и что в какой-то момент этой поездки Эйнштейн поднимается на ноги, вытягивает вперед руку и бросает на пол сосиску.
Отсюда возникает два вопроса: как далеко упадет сосиска и почему он бросил свою жену? Сам Эйнштейн счел бы более увлекательным первый вопрос, так что на нем мы и остановимся.
Предположим, он поднял сосиску на высоту 1,5 метра над полом вагона. Она падает, как можно ожидать, к его обшарпанным ботинкам, строго под вытянутой рукой. Можно заключить, что сосиска пролетела точно полтора метра. Как мы только что видели, подобные утверждения имеют смысл, только когда мы договорились о системе координат. Здесь мы выберем систему координат Эйнштейна – интерьер вагона, и относительно нее сосиска пролетает полтора метра.
Можем ли мы избрать другую систему координат? Представим, что между рельсов сидит мышь и поезд как раз проносится над ее головой, когда Эйнштейн роняет свою сосиску. Какое расстояние пролетит сосиска, если мы примем за точку отсчета эту мышь?
Сосиска по-прежнему падает из руки Эйнштейна и приземляется у его ног. Но для мыши и Эйнштейн, и сосиска еще и проезжают мимо. За время от момента, когда Эйнштейн ее бросил, до момента, когда она коснулась пола, сосиска проехала какое-то расстояние по рельсам. Точка, где располагаются ноги Эйнштейна в момент, когда сосиска касается пола, находится дальше по дороге, чем точка, где располагалась его рука в момент, когда он бросил сосиску. Сосиска по-прежнему летит на полтора метра вниз, с точки зрения мыши, но, кроме того, она пролетает какое-то расстояние в направлении движения поезда. Если нам вздумается измерить расстояние, которое сосиска пролетает между рукой и полом с точки зрения мыши, траектория полета будет не вертикалью, а наклонной линией, а значит, сосиска пролетит больше полутора метров.
Этот вывод с непривычки ошеломляет. Расстояние, преодоленное сосиской, меняется в зависимости от системы координат. С точки зрения мыши сосиска летит дальше, чем с точки зрения Эйнштейна. А выбрать «более правильную» систему координат, как мы убедились, невозможно. И если так, что определенного способны мы сказать о расстоянии? Нам остается только отметить, что сосиска пролетает некоторое расстояние, зависящее от системы координат, и это расстояние может оказаться разным, если мы продолжим измерять его в новых координатных моделях.
И это лишь начало наших трудностей. Как долго продолжается падение сосиски? Мы можем предположить, что сосиска, которая летит больше полутора метров, будет падать дольше, чем та, которая пролетает ровно полтора. И это приводит нас к тревожному выводу о том, что падение сосиски для Эйнштейна происходит быстрее, чем для железнодорожной мыши.
Мы живем, постоянно имея под ногами твердую почву в качестве фиксированного начала координат, и потому думаем, будто где-то постоянно тикает некое незыблемое универсальное время. Представьте себе уличную толпу, текущую через Вестминстерский мост в Лондоне, здание Парламента и циферблат Биг-Бена над ними. Башенные часы парят над морем пиджаков, и жизни, протекающие внизу, никак не влияют на безукоризненно мерный ход стрелок. Вот приблизительно так мы и представляем себе феномен времени. Оно выше нас, и на него никак нельзя воздействовать. Однако Эйнштейн увидел, что время устроено иначе. Как и пространство, оно бывает разным в зависимости от обстоятельств.
Что ж, похоже, это все ставит нас в щекотливое положение. Измерение времени и пространства зависит от используемой системы координат, при этом не существует «правильной» или «абсолютной» системы, которую мы могли бы закрепить. Наблюдаемое зависит, кроме прочего, и от наблюдателя. Ситуация складывается безвыходная: все измерения относительны, никакие нельзя считать окончательными или «истинными».
Чтобы выйти из этого тупика, Эйнштейн обратился к математике.
Согласно общепринятой физической теории, свет (и все иные виды электромагнитного излучения) распространяется в вакууме с постоянной скоростью. Эта скорость, равная примерно 300 000 000 метров в секунду, обозначается в математике как постоянная величина c, а у не-математиков известна как «скорость света». Но как такое возможно, если любые меры относительны и зависят от точки отсчета?
Яркий пример – закон сложения скоростей. Рассмотрим сцену из бондианы, где в агента 007 стреляет подручный главного злодея. За жизнь Бонда волноваться не стоит, поскольку эти подручные заведомо никудышные стрелки. Давайте лучше прикинем, с какой скоростью летит пуля над головой супершпиона. Допустим, для примера, что из ствола пуля вылетает со скоростью 1500 км/ч. И если в момент выстрела злодей мчится в сторону Бонда на снегоходе, а снегоход идет со скоростью 120 км/ч, тогда скорость пули будет суммой этих значений, то есть 1620 км/ч. Если Бонд при этом удирает от злодея на лыжах со скоростью 30 км/ч, это тоже придется учесть, и тогда относительно Бонда пуля будет двигаться со скоростью 1590 км/ч.
Вернемся к пассажиру Эйнштейну, который успел сменить сосиску на карманный фонарик и светит им в конец вагона-ресторана. С точки зрения Эйнштейна, фотоны, испускаемые фонариком, движутся со скоростью света (строго говоря, чтобы они ее достигли, в вагоне должен быть вакуум, но подобными тонкостями мы пренебрежем, чтобы ученый не задохнулся). Но для статичного наблюдателя, находящегося не в поезде, такого, как наша знакомая мышь или, например, барсук под ближайшим деревом, фотоны будут двигаться со скоростью света плюс скорость поезда, что, очевидно, даст уже другую скорость света. Что ж, мы, кажется, пришли к фундаментальному противоречию между законами физики: законом сложения скоростей и правилом о том, что электромагнитное излучение распространяется с постоянной скоростью.
Что-то здесь не стыкуется. В попытках разрешить противоречие мы можем усомниться в истинности закона сложения скоростей или оспорить неизменность скорости света. Эйнштейн рассмотрел оба закона, увидел, что они оба верны, и пришел к потрясающему выводу. Камень преткновения не в том, что скорость света равна 300 000 000 метров в секунду, а в «метрах» и «секундах». Эйнштейн понял, что, если объект движется с высокой скоростью, расстояния становятся короче, а время течет медленнее.
Это смелое озарение Эйнштейн подтвердил математическими выкладками. Главным инструментом, который он применил, был метод, известный как преобразование Лоренца, – он позволил Эйнштейну переводить друг в друга измерения, полученные в разных системах координат. Математически выведя за скобки эти разные системы, Эйнштейн смог объективно рассуждать о времени и пространстве и продемонстрировать, как именно на них влияет движение.
Дополнительно ситуацию усложняет то, что не только движение способно сжимать время и пространство. Подобной властью обладает гравитация, как установит Эйнштейн в своей общей теории относительности десятью годами позже. Жилец первого этажа стареет медленнее соседа со второго, поскольку сила тяготения на какую-то долю сильнее у поверхности Земли. Разница, конечно же, ничтожна. Меньше миллионной доли секунды на восемьдесят лет жизни. И тем не менее этот эффект есть, и он измерен в реальном мире. Предположим, у вас есть два одинаковых безупречно точных хронометра; если один из них поместить в самолет, а другой оставить в аэропорту, то хронометр, который летел над землей, немного отстанет от того, что остался на земле. Спутники, данные с которых получает навигатор в вашей машине, только потому могут точно показывать положение объектов, что, определяя его, учитывают действие земной гравитации и скорость собственного движения. Именно математика Эйнштейна, а не наше обыденное представление о трехмерном пространстве точно описывает Вселенную, в которой мы живем.
Как не-математикам понять эйнштейновский математический мир, который он назвал пространством-временем? Мы находимся в плену координатных систем, которыми пользуемся для постижения обычного мира, и не можем вырваться в Эйнштейновы математические высоты, где противоречия между системами отсчета испаряются. Нам остается только обратить взгляд вниз, представить более ограниченную перспективу, доступную нашему пониманию, и использовать ее как аналогию для моделирования пространства-времени.
Представим двухмерный мир – плоский, в котором есть длина и ширина, но нет высоты. Викторианский мыслитель Эдвин Эбботт Эбботт описал такой мир в удивительном романе «Флатландия». Даже если вы не знакомы с этой книгой, плоский мир вы представите легко, взяв в руки лист бумаги и вообразив, что он обитаем.
Если бы этот лист бумаги был миром, где обитают маленькие плоские существа, придуманные Эбботтом, то они не могли бы знать о том, что вы держите их мир в руках. Им недоступно восприятие трехмерного пространства, у них нет понятий верха и низа. И если вы сложите лист пополам, они не заметят, потому что не способны видеть измерение, в котором это действие осуществилось. Для них мир остался незыблемо плоским.
Теперь представим, что вы свернули лист в трубку. Наши плоские друзья вновь не заметят никаких перемен. Но они удивятся, обнаружив, что, если двигаться в одну сторону достаточно долго, не достигнешь края мира, а окажешься в том же месте, откуда вышел. Если их плоский мир примет форму трубки или шара, оболочки мяча, как смогут маленькие существа объяснить эти удивительные путешествия, которым нет конца? Человечество далеко не сразу уяснило, что живет на сферической планете, и это при том, что у него были мячи и понимание, что такое сфера, а у этих плоскатиков даже нет образа шара, который мог бы натолкнуть на верную мысль. Им придется ждать, пока среди них родится плоский аналог Эйнштейна, который при помощи таинственных математических построений докажет, что их плоский мир существует во вселенной с бо́льшим числом измерений, где какая-то трехмерная свинья с какими-то непонятными целями скручивает этот плоский мир в трубку. Остальным плоским созданиям эти рассуждения покажутся диковатыми, но со временем они увидят, что их измерения, эксперименты и регулярные долгие прогулки подтверждают теорию плоского Эйнштейна. Тут им придется примириться с тем, что лишнее измерение все-таки существует, каким бы смехотворным это ни казалось и как бы немыслимо ни было его представить.
Мы находимся в том же положении, что и наши плоские друзья. У нас есть измерения и данные, которые объясняет только математика пространства-времени, и при этом пространство-время остается для большинства из нас непостижимым. Игривость, с которой ученые описывают наиболее странные аспекты относительности – вместо того чтобы объяснять их в отношении к миру, каким мы его знаем, – тоже не служит к пользе дела. Многие из вас, возможно, слышали такой пример: если бы вы падали в черную дыру, удаленному наблюдателю ваше падение казалось бы бесконечным, а вам самим – моментальным. Физики любят такие шарады. Недоумение – это их допинг, но не каждый из нас найдет в нем пользу.
С точки зрения человека, пространство-время – весьма странное место, где время оказывается просто еще одним измерением и привычные понятия «прошлого» и «будущего» не имеют смысла. Но красота пространства-времени в том, что, когда мы его понимаем, оно выводит нас из тупика, а не ведет в него. Любые аномальные явления, например орбита Меркурия или свет, огибающий массивные звезды, получают непротиворечивую разгадку. История с чайной чашкой, которая не то пролетает мимо вас, не то просто висит в глубинах космоса, становится прозрачной и логичной. Ничто не находится в покое иначе как умозрительным допущением.
Общая теория относительности сделала Эйнштейна мировой знаменитостью. Он сразу понравился публике – спасибо газетным фотографиям с растрепанными волосами, мятой одеждой и добрыми смешливыми глазами. Образ «забавного маленького человека» из континентальной Европы, уму которого открывается недоступное другим, оказался симпатичным архетипом, и ему нашла применение Агата Кристи, придумав в 1920 году Эркюля Пуаро. А то, что Эйнштейн был немецким евреем, лишь добавляло интереса.
Отношение к Эйнштейну и относительности показывает, что мир больше заинтересовался не идеями, а личностью. Многие авторы с видимым удовольствием и почти с радостью отмечали, что не смогли разобраться в теории Эйнштейна, и вскоре повсюду возобладало мнение, что обычным людям понять относительность не под силу. Газеты тех лет утверждали, что во всем мире только двенадцать человек понимают, о чем писал Эйнштейн. В 1921 году Эйнштейн посетил Вашингтон, и сенат США счел необходимым обсудить его теорию, причем многие сенаторы утверждали, что ее невозможно понять. Президент США Гардинг с радостью признавал, что не смог в ней разобраться. В плавании через Атлантику Эйнштейна сопровождал Хаим Вейцман, будущий первый президент Израиля. «Во время всего плавания Эйнштейн объяснял мне свою теорию, – вспоминал он. – И к моменту прибытия я окончательно убедился, что он действительно ее понимает»[11].
Для Марсьяля Бурдена теория относительности появилась слишком поздно. Он хотел взорвать Гринвичскую обсерваторию, служившую символическим омфалом Британской империи, и весь британский порядок, захвативший планету. Но омфалы, как показал нам Альберт Эйнштейн, абсолютно произвольны. Дождись Бурден общей теории относительности, возможно, он осознал бы, что закладывать бомбу необязательно. Нужно всего лишь увидеть, что омфал – это не более чем вымысел.
Глава 2. Модернизм. Шок новизны
В марте 1917 года американский художник-модернист Джордж Биддл нанял сорокадвухлетнюю филадельфийскую немку позировать для его картины. Она пришла к нему в студию, и Биддл сказал, что хотел бы увидеть ее голой. Натурщица распахнула свой пурпурный плащ. Под ним не было ничего кроме бюстгальтера, сделанного из двух консервных банок и зеленого шнурка, и висящей на шее крохотной клетки с заморенной канарейкой. Кроме того, на руку женщины были нанизаны кольца для штор, недавно похищенные в универмаге, а голову покрывала шляпка, украшенная морковками, свеклой и другими овощами.