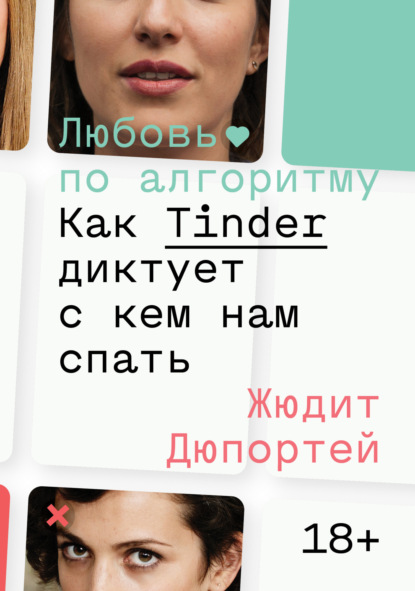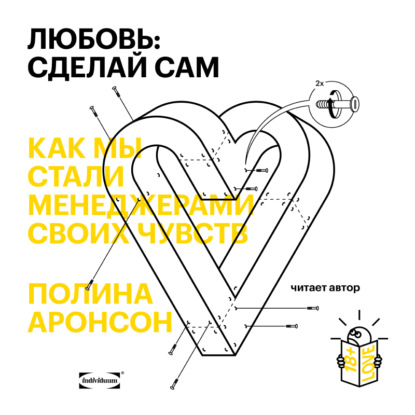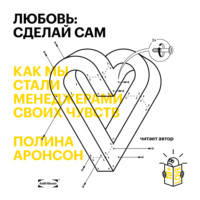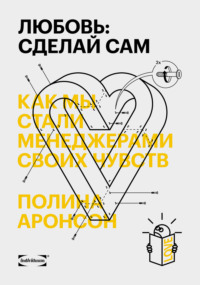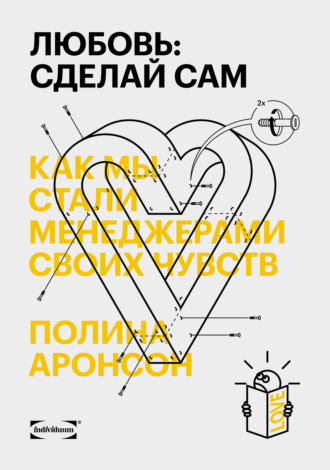
Полная версия
Любовь: сделай сам. Как мы стали менеджерами своих чувств

Полина Аронсон
Любовь: сделай сам. Как мы стали менеджерами своих чувств


© Полина Аронсон, 2020
© ООО «Индивидуум Принт», 2020
* * *Вопреки всем трудностям моей истории, вопреки неудобствам, сомнениям, разочарованиям, вопреки побуждениям со всем покончить, я не перестаю внутренне утверждать любовь как ценность. Я выслушиваю все аргументы, используемые самыми разными системами, дабы разоблачить, ограничить, зачеркнуть, короче – принизить любовь, но продолжаю упорствовать: «Отлично знаю, но всё же…» Недооценку любви я связываю с обскурантистской моралью, с несуразным реализмом, против которых водружаю реальность ценности: противопоставляю всему, что в любви «неприглядно», утверждение того, что в ней непреходяще…
Ролан Барт. «Фрагменты речи влюбленного»Как странно то, что затеваю я:Подобие любви создать из жажды..БГ. «Орел, Телец и Лев»Предисловие[1]
Еще никогда мы не были свободнее.Еще никогда мы не были бессильнее.Зигмунт БауманВсе, что нужно знать о том, как устроены отношения, я поняла одним июльским днем, стоя на платформе берлинской подземки (станция Naturkundemuseum, линия U6). Со стены слева (направление Alt-Tegel) на меня смотрела реклама приложения Fiverr – платформы, соединяющей фрилансеров с потенциальными заказчиками. На плакате Fiverr были изображены две женщины, стоящие спиной друг к другу и вперившие вопросительный и вдохновенный взгляд куда-то в будущее – каждая в свою сторону. «Ей нужна SMM-стратегия и SEO» – утверждала подпись в районе подбородка одной. «Она разработает идеальное решение в течение суток», – гласила надпись возле другой. На стене справа (направление Alt-Mariendorf), строго напротив плаката Fiverr, радостно хохотала реклама Tinder. Девушка, тонущая в мыльных пузырях и блестках, сообщала: «Single does what single wants» – одинок и делаю что хочу.
Два этих плаката – рассказ о жизни немалой части сегодняшнего городского населения в Берлине, Москве или Тель-Авиве, доведенный при этом до гротеска. С 9.00 до 18.00 мы сидим в коворкинге и пишем код (или статьи про любовь, пресс-релизы для фестивалей и сценарии к детским праздникам) или, если повезло чуть больше и удалось к тому же устроиться на работу по контракту, то мы пингуем в слаке сотрудников на аутсорсе. Кофе мы делаем сами, но обед нам приносит «Яндекс. Еда». А вечером, закрыв окна всех рабочих мессенджеров, мы отправляемся на убере на свидания, организованные алгоритмами Tinder, Grindr или Bumble. И наше рабочее, и наше свободное время (включая время, проведенное в постели с кем-то) подчинены одной и той же логике: быть в нужное время в нужном месте с нужным продуктом. И кто не успел, тот опоздал.
Эта книга о том, почему любовь в XXI веке, казалось бы, такая свободная по сравнению с другими эпохами, на самом деле подчинена жестким правилам, законам и нормам. Мы поговорим о том, как изменился сам язык наших чувств (от «любви» – к «отношениям»), как идея личностного роста стала важнее идеи романтического переживания и как сфера чувственного сделалась полем деятельности разных экспертов – от психотерапевтов до разработчиков алгоритмов дейтинговых приложений. Эта книга – не пособие по самопомощи, вы не найдете в ней советов и рекомендаций, как стать счастливее в любви. Наоборот, многое в ее содержании может даже вас огорчить – но это неизбежно. Социология, по меткому выражению Пьера Бурдье, – это «боевое искусство». Ее задача – не подсластить жизнь, а напомнить читателю, что «моральный смысл нашего существования состоит не в погоне за счастьем, а в приумножении знания и в стремлении к справедливости», – пишут Эдгар Кабанас и Ева Иллуз[2].
Материал, на основе которого написана эта книга, можно разделить на три части.
Первая – это исследования социологов эмоций, философов и психологов, анализирующих эмоциональные культуры в западных обществах. В том числе Уильяма Редди[3], Евы Иллуз[4], Лори Эссиг[5], Эрика Кляйненберга[6] и других.
Часть вторая – это работы российских ученых, которые заняты трансформацией эмоций и интимности в обществах постсоциалистических: Анны Темкиной и Елены Здравомысловой[7], Марины Травковой[8], Мишель Ривкин-Фиш[9], Анны Шадриной[10], Катерины Лишковой[11]… В этой книге я ссылаюсь не только на публикации этих авторов, но и на интервью, которые я провела с ними для этой книги.
И, наконец, третья часть – это материал, собранный и проанализированный мной и моими коллегами Владиславом Земенковым и Юлей Лернер. Сюда относятся блоги и дискуссии в соцсетях, публикации поп-психологов, а также ряд социологических интервью, посвященных интимным отношениям и эмоциям – так называемым романтическим биографиям, которые мы собрали в марте 2020 года в одном из российских городов-миллионников.
* * *«Всё на свете – про секс, и только секс – про власть», – утверждает расхожая мудрость, и с ней сложно не согласиться. К ней можно добавить не менее затертое высказывание феминистки Кэрол Ханиш о том, что «личное – это всегда политическое». При этом для интимной причастности к той или иной политико-экономической формации совершенно необязательно подпирать подломившуюся ножку кровати «Капиталом» Маркса. Достаточно того, что каждый из нас проживает свою жизнь (трудовую, творческую, семейную, сексуальную), ориентируясь при этом на ту или иную рациональность: то есть на представления о том, что работает, а что – нет; что одобряемо, а что – не очень; что приносит успех, а что ведет к поражению. И эту рациональность невозможно оставить за порогом спальни.
Рациональность, на которую мы ориентируемся сегодня (и которая нашла такое удачное воплощение в рекламе Tinder и Fiverr), – это так называемая экономика события (gig economy), движущая сила неолиберализма. На этом месте следует сделать отступление и определиться с понятиями: под термином «неолиберализм» скрывается такое множество явлений, что использовать его, не дав конкретной дефиниции, – значит подвергнуть опасности точность и правдивость самого высказывания. В этой книге понятие «неолиберализм» используется в том смысле, в котором его определили социологи Эдгар Кабанас и Ева Иллуз:
Неолиберализм следует рассматривать как нечто гораздо большее и фундаментальное, чем теория политико-экономических практик. ‹…› Напротив, неолиберализм необходимо понимать как новую стадию капитализма, для которой характерны ничем не сдерживаемое распространение экономической логики на все культурные слои; растущий запрос на научно-технические критерии для управления социальной и политической сферой; возвращение акцента на утилитарные принципы выбора, эффективности и максимизации выгоды; экспоненциальный рост рисков в сфере занятости, экономическая нестабильность, высокая рыночная конкуренция, децентрализация организационных процессов; увеличивающаяся коммодификация символической и нематериальной сферы, включая идентичности, чувства и стили жизни; и, наконец, консолидация терапевтического этоса, который ставит во главу угла эмоциональное здоровье и самореализацию в рамках социального прогресса и институционального устройства. Но самое главное: неолиберализм следует понимать как индивидуалистическую социальную философию, которая сосредоточена главным образом на отдельной личности и чье понимание человеческой природы основано ‹…› на представлении о том, что «мы все являемся независимыми, автономными акторами, пересекающимися на рынке, теми, кто строит общество в процессе создания своей собственной судьбы»[12]. В этом отношении неолиберализм нужно понимать ‹…› в перспективе его этических и моральных императивов, согласно которым все индивиды являются (и должны быть) свободными, стратегически мыслящими, ответственными и автономными субъектами, способными управлять своим эмоциональным состоянием по своей воле, реализовывать свои интересы и преследовать то, что считается главной целью их существования: достижение личного счастья[13].
Любовь с точки зрения неолиберальной рациональности – это тоже проект, который можно и нужно непрерывно оптимизировать – с тем чтобы она приносила максимум удовольствия. Название этой книги родилось из разговора с тридцатилетним Павлом, одним из участников наших интервью. «Любовь – это проект DIY: Do It Yourself, – говорит он. – Это целый фронт, на котором нужно потрудиться. И она становится только круче от того, что она хендмейд. Если все это можно было бы визуализировать, то, наверно, так: я вижу витрину магазина DIY, где лежит красное сердечко в виде конструктора. Сделай свою любовь сам!»
У императива «Сделай сам» есть громадный освободительный потенциал – и именно за это мы ценим эпоху, в которую мы живем. Быть свободными от давления родительского авторитета, религиозных догм, мнения княгини Марьи Алексевны – это большое счастье. Феминизм, движение за гражданские права, улучшение социальной политики в развитых странах позволили, наконец, многим людям жить так, как им хочется, и собирать свою судьбу, как «конструктор», а не существовать по готовой схеме. Сделай сам: выбирай кого хочешь да и делай с ним/ней все, что дозволено Уголовным кодексом и не выходит за рамки взаимного согласия. Но все не так просто.
Неолиберальная рациональность выводит из возможности свободы необходимость производительности. «Самодельная» любовь должна не просто полностью соответствовать нашим ожиданиям, но и приносить тот самый максимум удовлетворения.
«Как получить от любви по максимуму?» – именно этот вопрос следует из принципа «Сделай сам». В поисках ответа на него пишутся тысячи пособий по самопомощи. На нем строятся сюжеты реалити-шоу. Именно он приводит нас на кушетку к психоаналитику или в кабинет семейного консультанта. О нем мы размышляем бессонными ночами. Мы ждем, что любовь можно заставить «работать», – если мы сами, конечно, будем непрерывно работать над ней. То, что любовь и есть работа, мы уже усвоили – и вот, закатав рукава, мы учим «языки любви», выполняем «правила успешных людей» и не забываем «обнимать партнера как минимум один раз в день».
Стремление получать от любви по максимуму – одна из важнейших черт конца XX – начала XXI века. Дело в том, что развитых странах любовь во многом заменила собой другие значимые опыты и переживания, а брак постепенно начал перенимать на себя функции важных социальных структур и форм взаимодействия: расширенной семьи, дружбы с песочницы, коллегиальных сетей, соседских тусовок и религиозных сообществ. Еще в 1995 году немецкие социологи Ульрих Бек и Элизабет Бек-Герншейм – состоящие, между прочим, в браке – писали:
Любовь превозносят потому, что она стала убежищем в холодном мире наших богатых, обезличенных, нестабильных обществ, лишенных традиций и подверженных самым разным рискам. ‹…› Нагруженная самыми разнородными ожиданиями и полная самых разнообразных разочарований, любовь стала центром, вокруг которого сегодня вращается жизнь, освобожденная от традиций[14].
Но, вопреки ожиданиям, «выжать из любви по максимуму» получается плохо – и это связано с самой постановкой задачи. Начнем с того, что идея что-то «выжать» основана на интенциональности: предполагается, что мы действуем осознанно, с целью, очевидной и понятной нам самим. Стремление добиться «максимума» следует чисто экономической логике не только непрекращающегося, но одновременно измеримого роста. Но обе этих идеи противоречат нашему представлению о любви как о чем-то случайном и непредсказуемом, вызывающем прилив с трудом объяснимых чувств. Поэтому неудивительно, что всякий раз, когда мы пытаемся что-то «получить», это что-то выскальзывает у нас из рук, не говоря уж о том, чтобы выжать из него по «максимуму». А когда что-то «выжать» все же удается, то это что-то не ощущается как «любовь».
Когда все ставки сделаны на эмоциональное удовлетворение, цена отношений и связанные с ними риски становятся невероятно высоки. При этом стабильность отношений уже никак не гарантирована социальными институтами. Действительно, даже либеральная эпоха 1990-х больше не может сегодня служить нормативным образцом для отношений. Это видно на примере «Секса в большом городе» – сериала, на котором выросло как минимум два постсоветских поколения. «Секс в большом городе» – это продукт капитализма производительного, а не событийного. Если первый основан на идее продолжительного контракта, то второй – на идее сменяющих друг друга проектов. Водруженные на лабутены и оттюнингованные мелированием Кэрри Брэдшоу и ее подруги – это образцовый пролетариат любви: они работают над отношениями до кровавого пота – с тем же рвением и с тем же представлением о линейности прогресса, с которым они трудились в адвокатских конторах и галереях современного искусства. Но мечта Кэрри об одном, постоянном Mr. Right сегодня выглядит наивным атавизмом. Героини сегодняшних сериалов («Дрянь», 2016–2019; «Любовь», 2016; «Мастер не на все руки», 2015) – это, по меткому выражению социолога Анны Шадриной[15], уже не сексуальный пролетариат, а прекариат: возможные потери всегда превышают вероятную прибыль, прогресса нет, но есть спорадический и крайне неустойчивый успех.
Неудивительно, что любовь, секс и отношения в глазах миллениалов все больше связаны именно с рисками, а не с удовольствием. Движение #MeToo поставило важный, но часто трудно разрешимый вопрос о границах насилия и согласия; экономика лайков в Tinder и инстаграме создает новые формы неравенства (где узкая прослойка хорошеньких или хорошо работающих над своим обликом доминирует над массой середнячков); императив отличать секс от привязанности создает страх перед возникновением этой привязанности и, соответственно, зависимости от партнера. Сегодня чисто физиологический риск «залететь» сменился эмоциональным риском «залипнуть» – так же, как опасность непосредственной бедности сменилась угрозой кредитной зависимости.
«Если мы готовы согласиться с тем, что культ неограниченной свободы нередко приводит к разрушительным последствиям в экономике, вызывая, например, значительные социальные неравенства, то мы обязаны как минимум задать себе вопрос, к чему приводит этот культ в сфере эмоционального и сексуального. Критический анализ свободы выбора, состоявшейся в одной сфере человеческой жизни, должен быть предпринят и во всех остальных», – пишет Ева Иллуз[16]. Эта книга – один из вариантов ответа на поставленный так вопрос.
Часть 1
Как «любовь» стала «отношениями»
Глава 1
Высокие ставки эмоционального капитализма[17]
Если б мне платили каждый раз,Каждый раз, когда я думаю о тебе,Я бы бомжевала возле трасс,Я бы стала самой бедной из людей.Монеточка. «Каждый раз»В 1994 году я уехала из России на год в США по программе школьного обмена. Мне было 14 лет, я выиграла престижный грант, и мои родители очень надеялись, что, став отличницей в штате Огайо, я проскользну потом как-нибудь в Гарвард или Йель. Я же, в отличие от них, могла думать только об одном: как раздобыть американского бойфренда.
В ящике письменного стола я хранила ценный артефакт американской жизни, полученный от подруги, уехавшей в Нью-Йорк годом раньше: статью о противозачаточных таблетках, выдранную из подросткового журнала Seventeen. Я читала и перечитывала ее, сидя в постели и чувствуя, как у меня пересыхает горло. Уткнувшись в глянцевые странички, я мечтала о новых прекрасных берегах. Там, в стране далекой, я тоже стану красивой и загадочной, мальчики будут смотреть мне вслед – и, наконец, в один прекрасный день мне тоже непременно понадобится такая Таблетка.
Несколько месяцев спустя, в мой первый же день в Walnut Hills High School города Цинциннати, я отправилась в библиотеку и взяла подшивку Seventeen за весь год. Я была решительно настроена выяснить все о том, что американские мальчики и девочки делали, когда начинали нравиться друг другу, что нужно было говорить и как себя вести, чтобы достичь стадии приема Таблеток. Вооружившись маркером и ручкой, я искала незнакомые слова и выражения и выписывала их на отдельные карточки – в точности как меня научили в средней школе № 525 с углубленным изучением английского языка.
Вскоре я поняла, что жизненный цикл отношений в стиле Seventeen состоял из последовательности отдельных фаз. Сначала тебе кто-то начинал «нравиться» (you developed a crush), как правило – мальчик годом или двумя старше. Дальше необходимо было провести мониторинг общественного мнения и выяснить, «козел» (moron) он или «симпатичный» (cutie). Если опрос подтверждал последнее, то Seventeen давал добро на то, чтобы «потусить с ним пару раз» (hook up) и «пригласить его на свидание» (ask him out). В процессе общения, впрочем, расслабляться Seventeen не советовал: для начала следовало узнать, являлся ли выбранный объект «годным материалом для отношений» (relationship material). Читательнице предлагалось пройтись по списку: уважает ли он ее потребности? Чувствует ли она себя уверенной, «отстаивая свои права» (asserting your rights), – в частности, пресекая или, наоборот, инициируя «телесный контакт» (body contact)? Какую оценку от 0 до 10 она поставила бы качеству их коммуникации? Если результаты не впечатляли, Seventeen предлагал не заморачиваться, бросить его и продолжить поиски более подходящего «материала», с которым можно было начинать «обниматься на диване» (making out on the couch) и, наконец, перейти в категорию потребительниц Таблеток.
Сидя в американской школьной библиотеке, я смотрела на стопку карточек и видела, как на моих глазах росла пропасть – пропасть между идеалами любви, на которых меня воспитывали, и открывшейся мне американской экзотикой. В мире, где я выросла, мальчики и девочки «влюблялись» друг в друга и начинали «встречаться», остальное было спрятано под покровом тайны. Великий подростковый фильм для моего поколения – «Вам и не снилось» – прекрасно воплотил эту поэтическую безъязыкость любовного переживания: главный герой цитирует таблицу умножения, признаваясь героине в чувствах. Один из главных разговоров о любви в русской литературе – сцена признания Левина Кити – выглядит так: «к, в, м, о: э, н, м, б, з, л, э, н, и, т? – т, я, н, м, и, о». О чем тут еще было говорить? Влипая в любовные истории, наши князья и графини теряли дар красноречия; они совершали безумные поступки, не успев задуматься об их последствиях, и, если в результате их не настигала заслуженная смерть, все, что им оставалось, – это молча пялиться по сторонам и чесать в затылке.
* * *Хотя на тот момент у меня еще не было PhD по социологии, работа, которую я проделала тогда с подшивкой Seventeen, была не чем иным, как небольшим исследованием в области социологии эмоций. Анализируя язык глянцевых журналов, телешоу и селф-хелп-литературы, а также проводя интервью с мужчинами и женщинами в разных странах, такие исследователи, как Ева Иллуз[18], Арли Хохшильд[19], Лора Кипнис[20], Фрэнк Фуреди[21] и многие другие, показывают, что наши представления о любви сформированы мощными политическими, экономическими и социальными силами. Вместе эти силы создают феномен, который можно назвать «эмоциональным режимом» – то есть системой эмоционального поведения, определяющей то, как мы говорим о своих чувствах, понимаем «нормальное» и «ненормальное» и делаем выводы о том, кто достоин любви, а кто – нет.
Представление о том, что у эмоций может быть «режим», в гуманитарные и социальные науки ввел американский историк и антрополог Уильям Редди в своей работе «The Navigation of Feeling»[22]. Эмоции, по мнению Редди, не существуют сами по себе – в процессе социализации люди учатся их понимать и выражать при помощи разных перформативных средств. То, как мы говорим о чувствах или показываем их невербально, и то, как мы их проживаем, связано между собой неразрывно. Эти перформативные акты Редди называет «эмотивами». Используя эмотивы, человек одновременно и постигает, и изменяет сам себя. Однако набор эмотивов, доступный нам в каждый момент времени, ограничен: он является продуктом того или иного эмоционального режима. Эмоциональный режим – это и есть ансамбль предписанных эмотивов вместе с ритуалами и другими символическими практиками, с ними связанными[23].
В тот день в американской школьной библиотеке я на своей шкуре пережила столкновение двух принципиально различных эмоциональных режимов. Читательница Seventeen была обучена принимать решения о том, с кем вступать или не вступать в интимную связь. Она рационализировала свои эмоции в терминах «потребностей» и «прав» и не соглашалась на то, что ее не устраивало. Она выросла в режиме выбора. Классическая русская литература, в момент моего взросления остававшаяся основным источником представлений о любви, напротив предлагала считать любовь природным катаклизмом, которому нужно подчиниться, даже если это разрушительно для удобства, здоровья и самой жизни. Другими словами, я воспитывалась в режиме судьбы.
Два этих режима основаны на противоположных принципах, и оба – каждый по-своему – превращают любовь в муку. Тем не менее в большинстве развитых вестернизированных капиталистических обществ (включая городское население современной России) сегодня доминирует режим выбора. Императив выбора растет из этических принципов неолиберальных демократических обществ, которые рассматривают свободу как абсолютное благо. Именно поэтому режим выбора характерен для эпохи, которую Ева Иллуз – а вслед за ней и другие авторы – называет «эмоциональным капитализмом». Его основные черты заключаются в проникновении логики экономической эффективности, логики получения выгоды во все остальные сферы человеческого взаимодействия, включая самые интимные его формы. Одновременно с этим эмоции становятся предметом торговли, способом получения прибыли (как известно, покупая кроссовки, вы покупаете чувство, а не просто пару обуви). Выбор и есть фундаментальная практика, позволяющая субъекту реализовывать свое стремление к заслуженному счастью. Однако формула «больше выбора = больше счастья» логична лишь на первый взгляд, а более пристальное ее рассмотрение позволяет увидеть новые формы тирании, стоящие за ней. «Идея выбора того, кем мы хотим быть, императивная идея „быть собой“ начали работать против нас, превращая нас не в свободных людей, а во все более тревожных и жадных. ‹…› Ложная идеология выбора может обременять человека иллюзией того, что он – полновластный господин своего благосостояния», – отмечает философ Рената Салецл[24]. Но как это возможно и что может означать тирания выбора для эмоциональной жизни человека?
* * *Для того чтобы понять триумф выбора в сфере эмоционального, необходимо рассматривать его как продолжение индивидуалистической традиции Просвещения. В экономике потребитель сделался важнее производителя. В вопросах религии верующий занял место Церкви. А в романтических отношениях объект любви постепенно вытеснял ее субъекта – пока в песнях, фильмах, рассказах и стихах не осталось почти ничего, кроме «я» самого любящего.
В XIV веке, любуясь золотыми локонами Лауры, Петрарка назвал свою возлюбленную «божественной» и воспевал само ее существование как наилучшее доказательство существования Всевышнего. Через каких-то шестьсот лет другой мужчина, очарованный копной других золотых локонов, – томас-манновский Густав фон Ашенбах – пришел к ровно противоположному выводу. Он сам, а не красавец Тадзио, был источником и смыслом любви:
И тут, лукавый ухаживатель, он высказал острую мысль: любящий-де ближе к божеству, чем любимый, ибо из этих двоих только в нем живет бог, – претонкую мысль, самую насмешливую из всех когда-либо приходивших на ум человеку, мысль, от которой взялось начало всего лукавства, всего тайного сладострастия, любовной тоски[25].
Это наблюдение из «Смерти в Венеции» символизирует фундаментальную трансформацию в понимании природы любви, которая случилась в конце XIX – начале XX веков. Любящий вытеснил Любимого из центра внимания. Божественный, недоступный и непостижимый. Другой больше не является предметом наших любовных историй. Вместо этого нас интересует наше собственное «я» со всеми его детскими травмами, эротическими фантазиями и идиосинкразиями. Изучить и защитить это хрупкое «я», научив его правильно управлять своими привязанностями, – это и есть главный проект режима выбора. Своего расцвета этот проект достигает в популяризованной версии психотерапевтического знания: жанре селф-хелпа, коучинга и тематических блогов.
При этом следует понимать: самым главным условием для выбора является вовсе не наличие множества опций, а существование просвещенного автономного субъекта, хорошо понимающего свои потребности и действующего исключительно себе во благо. В отличие от любовников других эпох, впадавших в безумие и детскую растерянность, новый романтический герой обращается со своими чувствами методично и рационально. Он посещает психоаналитика, читает литературу по самосовершенствованию и ходит на парную терапию. Более того, он может изучать «языки любви», быть ознакомленным с принципами нейролингвистического программирования или уметь оценить свои чувства по шкале от нуля до десяти. Американский философ Филип Рифф назвал этот тип личности «психологическим человеком» и описывает его так: «Антигероический, расчетливый, тщательно ведущий счет тому, чем он доволен, а чем – нет, рассматривающий отношения, не приносящие выгоды, как грехи, которых надо избегать»[26]. Психологический человек – это технократ, убежденный в том, что применение правильных средств в правильное время может распутать темную природу наших эмоций.