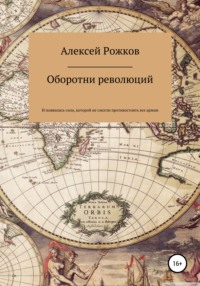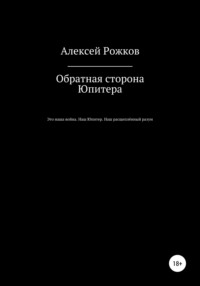Полная версия
Упыри
Наверное, не было со мной никогда больше ничего чище, чем та ночь в гостинице при монастыре. Простая грубая деревянная кровать показалась мне мягче всех перин на свете, мягче лебединого пуха, мягче тысячи матрасов и теплее миллиона одеял, хотя спал я под обычной простынкой.
До самой своей смерти я буду вспоминать тот вечер, который даровал мне Господь в старинной келье при монастыре в центре Саранска. Именно тогда я понял притчи Нового Завета, о том, как накормил Спаситель пятью хлебами и двумя рыбами пять тысяч человек, ведь и у них и не было ничего вкуснее той еды, которую они вкусили, и не было мягче перины, чем земля на которой они сидели, ибо весь мир вокруг нас – лишь иллюзия, и только по нашей вере отмерено будем нам.
Как верно подметил Федор Михайлович Достоевский в незабвенных «Бесах», не может русский человек без веры. Ведь если не верит он, то и не является он русским в полной мере, ибо вера – это самая главная часть нашей нации и русский народ – народ «Богоносец». Вот если бы мне сказали все учёные и философы, астрономы и математики – как можно верить в наш век науки и открытий, когда человек почти докопался до самой сути природы и проник во многие её тайны, летал в космос, покорил атмосферу? То я бы словами героя «Бесов», Ивана Шатова, ответил им:
– Если бы математически доказали мне, что истина вне Христа, то я бы согласился лучше остаться со Христом, нежели с истиной.
Проснулся я с первыми лучами солнца, бодрый и свежий, как будто спал целую неделю. Почувствовав утреннюю бодрость и подъем, наполненность духа и тела силой и теплом, я был готов к любым новым свершениям и мирским делам. Наскоро собрался, умылся под холодной ключевой монастырской водой, аккуратно собрал бельё и прошёл к матушке, которая уже сидела на своём прежнем месте, неся свой ежедневный богоугодный труд.
– Доброе утро! Спасибо, матушка, в жизни так вкусно не ел и так сладко не спал! – поблагодарил я её.
– Храни тебя Господь, касатик.
– А как же, матушка, расплатиться мне за ночлег? Ведь человек я служивый, командированный.
– А что ж тут сложного, дело то богоугодное, тысяча рублей с тебя, не обессудь, служивый.
– А сможете вы мне, матушка, бумажку какую выписать на эту тыщу? Мне ж надо в бухгалтерии потом за командировку отчитаться.
– Вот с этим у нас сложнее, мил человек. Нету у нас этой самой, как ты говоришь, «хбубхалтерии». Хотя, погоди, была у меня тут одна бумажонка, может она тебе поможет.
Старушка долго рылась в своём комоде и достала какую-то пыльную бумагу, сдула с неё вековой прах и протянула мне
– Вот касатик, не обессудь, другого ничего нет. Но знаешь, кажется мне, что эта бумажка тебе поможет.
Потом она взяла обычный тетрадный листок в клеточку, сложила его пополам, подставила кальку и начала на нём что-то писать, ровно выводя буквы сухонькой морщинистой рукой.
– А как звать то тебя, мил человек? – спросила она, подняв глаза и поправив очки.
– Александром кличут, – ответил я.
Матушка дописала что-то, поставила монастырскую печать, оторвала половину листка, вторую оставив себе, протянула мне половину листка и сказала:
– Ну иди с миром, брат Александр, храни тебя Господь!
Я не стал больше ничего выяснять, вышел на улицу и уже за стенами Храма рассмотрел, что она мне дала. На простом тетрадном листке в клеточку, оборванном пополам, было написано убористым старушечьим подчерком: «Получена от раба Божия Александра одна тысяча рублей в счёт его проживания в гостинице при монастыре» и дальше шла дата по старому летоисчислению и стилю. А старой бумагой, которая была извлечена ей из комода, оказалась справка с крестом в середине, в которой говорилось, что «Святая русская православная церковь кассовых аппаратов не имеет и чеков не выдаёт», в подтверждение чего на ней стояла размашистая подпись митрополита Саранского и Мордовского Зиновия.
После, по возвращению из командировки, весьма сомневаясь в силе своих бумаг, зная строгость нашего главбуха к разного рода отчётности, я краснея предъявил эти «документы» и извиняясь сказал, что более ничем более подтвердить своё проживание при церкви не могу. Та долго рассматривала эти два листка, пыталась возмущаться, но после того, как я ей сказал: «Вы что, против Господа нашего Бога?», как-то сразу поникла, скукожилась и покорно приняла их к учёту, полностью компенсировав мне все затраты.
*****
Вторую ночь в Саранске я трудился к своему сожалению в отдалении от той старинной церквушки, и попасть в неё на ночлег никак физически не мог. Работать мы закончили поздно, мест в гостиницах так и не появилось, и снова вопрос ночлега ближе к девяти вечера стал передо мной особенно остро. Все мои сослуживцы из числа аборигенов быстро расползлись по домам, благо вечер выдался как всегда в Мордовии мерзкий и дождливый, а мы итак задержались сверх всякой нормы. Я уже нацелился было ночевать тут же, на нашем объекте, на двух доисторических стульях, но один из местных, Петр Беляев, высокий худой человек в огромных массивных очках, самый грамотный из всех работяг, правда явно пьющий, предложил пристроить меня на ночлег к своему приятелю.
– У него конечно не Копенгаген, но лишняя раскладушка всегда найдётся, – отрекомендовал он моё новое пристанище.
Я подумал, что раскладушка – это, наверное, лучше, чем два стула, которые того и гляди норовят развалиться самым беспощадным образом, и мы с ним под одни зонтом, хлюпая промокшими насквозь ботинками, направились куда-то в суровые саранские трущобы из жёлтых домов барачного типа, мимо алкашей, глядящих мутными глазами из-под подъездных навесов и тёмных личностей, шныряющих по подворотням в поисках добычи.
Как сейчас я вспоминаю того доброго, высокого человека, его большие натруженные руки, полуслепые глаза в роговых очках, очень умного, но вынужденного влачить жалкое существование на окраине Саранска. Я всматривался в сутулящуюся фигуру рядом и мне становилось очень тяжело на душе от предчувствия его печальной судьбы. В воздухе отчётливого носился какой-то странный запах, запах беды, аромат несчастья… Уже тогда я понимал, что с ним что-то произойдёт. Что-то очень плохое, что навсегда перечеркнёт его жизнь. Я даже пытался предупредить его, да он не слушал, а только улыбался и протирая запотевшее очки и говорил:
– Да не верю я во всё это… Как на Руси говорят? Когда кажется – креститься надо.
Он пропустил мои слова тогда мимо ушей, а буквально через несколько месяцев после той нашей первой встречи, он подвыпивший шёл из гаража и по привычке переходя ночью дорогу к своему дому, попал под колёса какого-то лихача, который даже не остановился, навсегда сделав моего тогдашнего знакомого инвалидом.
Спустя полгода, после того как произошли эти трагические события, я по служебной надобности снова приехал к в Саранск и нашёл своего приятеля в весьма печальном состоянии. Он был лежачим, абсолютно беспомощным, исхудал как скелет и не имел никакой надежды на выздоровление. Мы перевозили его тогда из одной больницы в другую на рабочем уазике, тащили его на носилках, а он только улыбался, смотрел своими полуслепыми глазами и извинялся перед нами за то, что доставил столько хлопот. Я и ещё несколько товарищей по работе, транспортировали его из центральной больницы города Саранск, старого обшарпанного жёлтого, как и все в Саранске, здания послевоенной постройки, которое строили пленные немцы. Мы молча тащили его по страшным некрашеным коридорам с облупившейся побелкой, по порванному под ногами линолеуму.
У той больницы тоже была своя история, дело в том, что спроектирована она и все её корпуса были таким образом, что должны были составлять звезду, видимую с птичьего полёта с советских самолётов, гордо пролетающих над славным Саранском. Но пленные фашисты распорядились по-своему. Они сделали свой последний предсмертный «подарок» – каким-то образом изменили проект и технологию, и после окончания и торжественной приёмки госпиталя, когда государственная столичная комиссия вылетела обратно в Москву, члены комиссии из иллюминаторов к своему ужасу увидели, что больница в высоты представляет собой идеально ровную, геометрически вываренную, как и всё в Германии, свастику. После этого случая, конечно без суда и следствия, был расстрелян ряд высокопоставленных особ, в том числе секретарь местного горкома, главврач и даже главный архитектор города, а также все члены госкомиссии в полном составе, а кроме того кучу народа сослали в лагеря, благо они были здесь же, неподалёку.
Как могли свастику закамуфлировали, даже снесли несколько корпусов, и теперь с высоты глядя на больницу можно увидеть почти ровный крест, это единственное что смогли добиться строители, ведь совсем сносить госпиталь в те суровые послевоенные годы, когда поток инвалидов и больных хлынул со всех концов, городов и весей, не было никакой возможности.
*****
Мы, промокшие и замершие под проливным мордовским дождём, наконец добрались до неизвестной хрущобы и тяжело дыша поднялись на самый последний этаж. Помните эти последние этажи в хрущёвских домах? На них обязательно стояла лестница к квадратному люку в потолке, закрытому на замок, ключ от которого хранился у Андреича из последней, двадцатой квартиры, который потом выкрал, приехавший к ему на неделю внучок-хулиган Вовка из Наро-Фоминска. Мы с ним полезли на заполненный керамзитом и голубиным помётом чердак, где нашли среди птичьих перьев и мусора тёплое голубиное яичко. А потом, во дворе прямо за домом, чтобы никто не видел, раздавили это яйцо, а в нём оказался зародыш голубя, почти сформировавшийся, с клювом, крылышками, рахитичной полупрозрачной головкой, такой гадкий утёнок, но он всё равно был бы живой и стал бы голубем, если бы не мы. И мне захотелось плакать от своего подлого поступка. Тогда я первый раз в жизни узнал, что такое смерть невинного, и мне до сих пор стыдно за тот свой детский, но низкий грех.
Пётр, так звали того мордовского бедолагу, постучал в обитую деревянными штапиками, пролаченную по моде тех лет, с черными точками от выжигания, дверь квартиры. Открыл нам добродушный Митёк. По другом я его назвать не могу. Ну он реально был похож на представителя этого питерского направления художественного андеграунда, такой же добродушный, бородатый и в тельняшке на пузе.
– Заходите, гости дорогие! – радостно приветствовал он, хотя мы с ним даже не созванивались, как будто знал, что ровно сейчас и должны к нему нагрянуть гости ночным визитом.
Митёк щедро и добродушно заставил нас раздеться до трусов, развесил намокшие вещи над батареей и принялся отпаивать чаем с мордовской водкой, которая, впрочем, так и называлась, судя по этикетке, водка «Мордовская». Потекла мирная беседа интеллигентных людей об искусстве, вере, любви, детях и предназначении в жизни. Как оказалось, наш хозяин художник-иконописец, расписывающий церкви, мордовский Андрей Рублёв. Он показывал нам свои прекрасные искренние работы, рассказывал о своём непростом труде, который выполнял по зову сердца, по предназначению души, за какие-то пожертвования и прихожанские копейки. Митёк поведал, как они с бригадой восстанавливают храмы, как возрождается вера на Руси. От его рассказов мне опять, как и в предыдущую ночь, становилось тепло и уютно на этой крохотной кухоньке в компании добрых мирных людей, моих новь обретённых друзей.
Было уже поздно, Петя извинился и ушёл домой к семье, чтобы доспать несколько часов перед работой завтра, мой добрый хозяин настойчиво пытался уложить меня в свою кровать, а сам лечь на раскладушке, но я наотрез отказался и после его упорного сопротивления всё-таки занял прокрустово ложе. Было удивительно мягко и беззаботно. Я лежал в ночной тишине под стук дождя в окно и думал, как это здорово, что не переведутся никогда на Руси, в самых неожиданных местах, такие хорошие и добрые люди, готовые отдать последнее ближнему. Что они могут встречаться только здесь, в Российской глубинке, в этих унылых обшарпанных домах. Как сказано в Евангелие: «…они не от богатства своего отдают, а от бедности своей…», тем ценнее становится дар их.
Уже второй раз за эту поездку я почувствовал, как вкусна простая пища бедных людей и как мягко их скромное ложе. Как будто это не раскладушка в маленькой хрущёвке на пятом этаже, а огромная двуспальная кровать в царском дворце. Под эти благостные мысли и мерную барабанную дробь капель в окно, я уснул, и опять всю ночь летал как птица по голубому безоблачному небу над землёй, а внизу простирались бескрайние плодородные поля и такие маленькие крохотные деревья, дома, люди…Именно за такие встречи и за такие сны будем благодарить мы господа Бога и именно в них и есть смысл нашей жизни.
*****
И все казалось должно бы было завершиться благополучно, но… Всегда возникают эти самые «но» … Вся наша жизнь есть борьба света и козней лукавого. Понятно, что после такой благодати, так просто эта история закончится никак не могла. Купив билет на обратный путь в историческом сердце Саранска, на самом что ни на есть центральном железнодорожном вокзале, я, уже ничему не удивляющийся, спокойно прошёл к своему вагону. В этот раз, учитывая прошлые ошибки, разумеется, слегка заблаговременно. Более того, я пришёл задолго до отправления и длительное время бесцельно шатался под настороженными взглядами вокзальных милиционеров по привокзальной площади, курил, ужинал пирожками с картошкой, купленными тут же, у перронных товарок. И вроде ничего не предвещало беды. Паспорт был проверен, а до отправления состава оставалось целых двадцать минут.
Я спокойно прошёл билетный контроль, похихикал с проводницей на какую-то тему и преспокойно прошёл к своему месту, готовый упасть в небытие и проснуться в точке назначения. И тут, как гром среди ясного неба. Всё моё купе было полно, не было куда и яблоку упасть. На самом моём месте, отчётливо напечатанном на розовом билете, на моей любимой нижней полочке, расположился лютый мордовский фермер с внешностью доисторического мастодонта. Он уже переоделся в домашнее, разложил на столе традиционные варёные мордовские яички, копчёную мордовскую курицу, палку мордовской колбасы и пузырь самогона и сдавать свои позиции, судя по недюжинному росту и агрессивному выражению лица, явно не собирался.
Про таких в паспортах в советские годы так прямо и писали в графе национальность – «мордвин». Вот правильные были порядки в Союзе, всё своими именами называли, боролись, так сказать, за сохранение национальной культуры, независимость и традиции исчезающих народов. Это потом, только в Российской Федерации на волне натальной и гендерной без- дискриминации, всех сделали гражданами РФ, а по сути, как были они мордвинами, так ими и остались. Кстати, почему у нас в России все фермеры такие богатыри, даже мордовские? Видимо, чтобы сделать нашу и без того напряжённую жизнь сложнее. Увидев на своём законном месте совершенно постороннего субъекта, пусть даже и внушительно наружности, я, преисполненный благородного негодования, естественно начал с наезда:
– Почему на моём месте лежит, пардон за мой французский, вот такое вот деревенское мурло, прости Господи?
Мы совали друг другу в лица одинаковые билеты с одинаковыми местами, и дело чуть было не дошло до хватания за грудки, но, слегка успокоившись, всё-таки решили с традиционными русскими вопросами, а именно «Кто виноват?» и «Что делать?» обратиться к третейской судье – проводнице.
Та долго разгадывала наши билеты, не понимая в чём собственно дело. И на том, и на другом билете было напечатано совершенно одинаковое место, одинаковое время, только фамилии разные. Ну что за чертовщина, были бы живы Гоголь с Булгаковым, была бы эта поездка увековечена в истории прозы и переросла в какие-нибудь нетленные «вечера на Хуторе близ Саранска» или «Мастер и проводница». История резко попахивала мистикой и чертовщиной, а лукавый держался за животики от смеха. Ничего не понимающая проводница эскалировала проблему по старшинству, и только начальница поезда, толстая дородная баба, прожжённая и опытная, видавшая на своём веку столько, сколько обычному человеку и не снилось, изучив суть вопроса молниеносно приняла соломоново решение.
Только она смогла разглядеть, что всё было в моем билете правильно. Абсолютно всё: и номер поезда, и время, и фамилия, и станция. Всё. Только год был не тот. Мне продали билет на будущий год, а не на текущий, назад в будущее, проверяйте билеты на отходя от кассы. Будто сам Воланд посмеялся надо мной из окна поезда номер 666, который уходил уже через шесть минут. И что бы вы думали, какой выход у меня был? Да ровно никакого. По всем канонам железнодорожного царства, виновником всей этой истории, несмотря даже на тот факт, что продажа билетов ранее чем за месяц запрещена, начальницей поезда был назначен, разумеется, я. А мне уж и удивляться не приходилось.
Ну и что мне оставалось делать? Ещё одной ночи скитаний в Саранске с переполненными гостиницами я бы не пережил. Те более что благодать Господня, она тоже границы имеет. И делать было нечего, кроме как бежать за новым билетом на поезд. После всех наших разбирательств и оценки ситуации, времени на покупку билета у меня оставалось ровно пять минут. Да-да, именно 5 минут, как в той песне Николая Трубача, я её потом долго напевал про себя:
«… На перроне, у вагона,
только 5 минут…»
Но сдаваться было не в правилах вашего покорного слуги, и я опять, как и по дороге в Саранск собрал волю в кулак, как и свои сумку, плащ, шарф и остатки сил, и повторил чудо с замедлением петли времени.
В те годы ещё не придумали сотовых телефонов, но если бы они были, позвони мне кто-то в тот момент, я бы, как герой Данилы Багрова в бессмертном «Брате 2», на вопрос в трубке: «Что делаешь?» обязательно крикнул бы: «Бегу!». И я опять бежал. Красный, потный, сметающий всё на своём пути. А оставалось-то не много, не мало, а всего 4 минуты. Пробегаю мимо привокзальных ППС-ников. Видя их лица, которые явно хотят меня остановить, кричу им:
– Потом, всё потом!»
Они плюют и отворачиваются. Остаётся три минуты, я у кассы. А в мордовской кассе как назло аншлаг. У маленького окошка в стене бесновалась кричаще-бушующая толпа тётушек с узлами в косынках, деревенских седобородых дедов в штанах, заправленных в сапоги, мам с ноющими детьми, солдат и подозрительных личностей в кепках. Короче вообще полный Армагеддон.
Я кричу им всем:
– Граждане дорогие, смилостивитесь, пропустите бедолагу без очереди, поезд уходит, жена рожает, всё упало, всё пропало!
По очереди раздаётся недовольный гул, а до отправления уже остаётся всего две с половиной минуты. Добрая бабушка внушительных размеров, стоящая у окна, входит в моё положение и цыкает на народ:
– Ну что разверещались? Не видите, человек спешит! А вам куда торопиться-то? На погост ещё успеете! – и отходит от белого окошка, освобождая мне место.
Бабка эта была явно в авторитете, потому что от её зычного командного голоса очередь сразу притихла.
Я пулей подлетаю к кассе, излагаю вечно недовольной билетёрше свою срочную потребность и кидаю в окно заранее в бреющем полете приготовленные деньги и паспорт. Та молча, медленно, я бы даже сказал цинично, начинает выписывать билет, забивать фамилию из документов, что-то неторопливо спрашивать и переспрашивать. Я нервничаю, пытаюсь её ускорить, а она только зло подглядывает на меня исподлобья маленькими, сверлящими как дрель глазками. И вот, драгоценный билет выписан, билетёрша кладёт его на паспорт и протягивает стопкой мне. Я хватаю драгоценную ношу и тащу её из окна в свою сторону. Остаётся одна, последняя минута до отхода поезда. И тут… Билетёрша как будто вспомнив что-то вцепилась в билет и паспорт мёртвой хваткой, ни дать, ни взять бульдог. Я тяну их к себе, она к себе. Время замедляется в бесконечной битве взглядов и перетягивании билета. Я тащу стопку документов к себе, тётка упорно перетягивает их обратно в кассу, впившись как пиявка сильными пальцами.
– Подождите, гражданин, возьмите сдачу! – голосом палача, занёсшего топор над жертвой говорит она.
До отхода поезда остаётся 45 секунд…
И начинает отсчитывать сдачу. Медленно, методично, издевательски. Я кричу:
– Да оставьте Вы эту сдачу себе, Господи, поезд же уходит!
– Успокойтесь, гражданин, мне ваши деньги не нужны! – она со взглядом маньяка, ненавидящим, беспощадным, как паук на муху, попавшую в паутину, высыпает на билет с паспортом кучу никому не нужной мелочи.
Я буквально вырываю документы и рассыпающуюся на ходу мелочь из её рук. Время остановилось. Остаётся ровно тридцать секунд… Я как спринтер после сигнального выстрела на старте, с места подрываюсь и бегу. Мимо гудящей и проклинающей меня очереди, мимо бабок с баулами, мордовских торговок пирожками, мимо недовольных милиционеров. Поезд уже трогается. Проводники выставили зелёные флажки. И только самый последний вагон, как будто специально для опоздавших бедолаг, что-то тянет и не закрывает подножку, на которую я и вскакиваю на последней секунде перед отправлением. Сую билет в нос ошалелой проводнице, пробираюсь через весь поезд, мимо кричащих детей, чемоданов, дембелей, как в фильмах про войну или революцию, в свой, уже плацкартный вагон, и падаю там, как был, одетый и с зажатыми в вытянутой руке билетом и паспортом. Закрываю глаза и лечу в небытие, на поезде без номера в город без названия.
Глава 3.
Странный пассажир.
– Вот-вот, граждане, и я вам про тоже! А вы знаете, что на свете есть самое основное зло и от чего оно происходит? От богатств, от злата-серебра, да от власти всяческой! – раздался с другой стороны, сзади от нас, скрипящий, каркающий голос.
Мы с моим приятелем, Родионом, недоумевая переглянулись и повернулись на его звук. Да что такое. Вагонные персонажи тянулись к нам, как мухи на мёд. Правда мухи летят не на мёд, но какая разница. Я уже ничему не удивлялся и просто молча принимал тот факт, что мы оказались во временной петле пространственно-временного континуума призрачного римского метро, в которую мы попали как кур во щи, и по которому ехали, словно по замкнутому кругу, как по спирали, уже не первый час. Метро играло с нами, как кошка с мышью.
По ходу здесь как в компьютерной игре – пока не пройдёшь всех и не дойдёшь до босса выбраться из лабиринта невозможно. Слева от нас сидел итальянский бомж, во всей своей, так сказать, красе. В этом пассажире всё было аутентично, как и положено в межнациональной гильдии бездомных – небритость, беззубость, лохмотья, неизменный пакет с нехитрым скарбом – пустыми бутылками, банками, тряпками и прочей ветошью… Только стоп! Во, что с ним не так! Бомж, который по всем метафизическим законам должен благоухать немытым гниющим телом на весь вагон, яко авгиева конюшня, совершенно никак не пах. Вот ни на молекулу. Мы с Родионом опять переглянулись и удивлённо посмотрели на нового «собеседника».
– Что, странно, да? Запах не чувствуете? А это первый признак вируса.
– Какого такого вируса? – наморщив брови спросил Родион.
– А ничего, скоро узнаете! Скоро все узнают! – пророчествовал бомж, – Скоро упадёт тень егбипетская на град сей и не останется на нём камня на камне! И не будет места от стонов и скрежета зубов грешников. Потому что грядёт Он!
– Хватит каркать дед, без тебя тошно. Ты, собственно, кта?
–Я-то? Да я, мил человек, директор.
– Директор? Ишь ты! И что же ты директируешь? Мусорки или свалки? А, я понял, ты глава Роспотребмусорнадзора и систематически совершаешь санитарные наезды на помойки?
– А ты не смотри на то, какой я сейчас. Было время, когда моё имя гремело на всю Орловскую волость!
– Прямо-таки и на всю? – спросили мы, поперхнувшись смехом.
Итальянский непахнущий бомж-директор Орловской волости – это ещё одна неожиданность сегодняшней бесконечной ночи. Я толкнул Родиона в коленку и шепнул ему на ухо, чтобы не слышали появляющиеся со всех сторон персонажи:
– Слушай, а тебе не кажется, что наше ночное путешествие очень напоминает, ну так, чисто слегка, диссотиативное множественное расстройство личности? Вся эта затянувшаяся поездка, Дракулы и бомжи-директора?
– Очень даже разумное предположение, оно многое объясняет… – загадочно улыбнувшись шепнул мне в ответ Родион.
– Да, всю! Всю как ни есть, Орловщину-матушку. Везде гремело славное имя Даздраперма Персостратовича Кукуцаполя!
– Кого-кого? Эк как его расказявило то! Это что ж за зверь такой, невиданный?
– Ничего и не зверь, – как будто обидевшись промямлил бомж, – это фамилия, имя и отчество мои. Даздраперм Персостратович Кукуцаполь, прошу любить и жаловать. Родители мои, большого ума и необузданной фантазии были люди, очень советскую власть уважали, вот и выдумали, будь они не ладны… Даздраперм – да здравствует первое мая, Персострат – первый советский стратостат, батюшка мой благоговейный, а фамилию мы взяли – Кукуцаполь, что сокращённо значит «кукуруза – царица полей». Красиво ведь, не правда ли, господа.