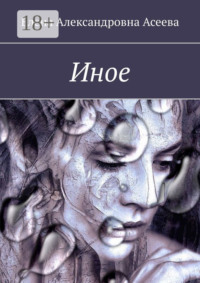Полная версия
Сказ про сестрицу Алёнку и братца Орея
– Понадоба когой-то пожамкать, – наконец озвучил собственные изменения дух и тотчас выплеснул изо рта длинный красный язык, каковой концом, будто змеюка, обвил обе ноги Копши. Еще сиг и язык также резко вернулся вспять, утянув за собой в открытый рот духа, Копшу, вырывая из объятий Алёнки, и скрывая его в той не малой дыре. Кадук громко икнул, и, сомкнув рот, наблюдаемо качнул брюхом, точно чегой-то туда кинув, да много тише молвил:
– Дык вотде будя лучии. А то оченно я голодарь, малешенько туто-ва людей и духов хаживает, зачастую души почивших.
А в небосводе нынче зримо затянутом серыми тучами, густыми и сыплющими вниз мельчайший и довольно-таки морозный ситничек, вновь что-то ослепительно блеснуло. Златые лучи пустили рассеянные полосы сияния во все стороны и даже вниз, тока на миг озарив все окрест, а потом опять же сразу погасли, точно тот свет был дюже дальним и долетал до межмирья отдельными пучками нитей.
– Сожрал, – чуть слышно дыхнула Алёнушка и в той горести вздев рученьки, схоронила испытанный ужас перекосившегося на бок рта в розовых ладошках.
– Ах, ты! старая кочерыжка! – в противность беспокойному крику сестрицы, грозно отозвался Орюшка. Мальчоня рывком вскочил с присядок на ноги, и, ринувшись к Кадуку, должно быть, в два прыжка доскочив до него, что есть мочи, огрел кулаком его по брюху. Пятерня отрока, врезавшись в мягкую, дымчатую суть духа, пронзила ее насквозь и почитай по локоть ушла в утробу. Брюхо Кадука резко дернулось вначале назад (словно втянувшись), а потом также скоро вперед, выпучившись, да будто выплюнула из себя руку мальца. И тот же миг из туманного, черного брюха духа явилась пясть Орея, коя крепко удерживала в перстах правый сапожек Копши.
Мальчонка, лишь из пуза духа выглянула нога Копши, торопливо схватился за нее и второй рукой, да резво ступив назад, потянул ее на себя. И днесь не мешкая стан братца ручонками обхватила Алёнка, а в нее вцепился Багрец да Бешава, и, ну-ка, тянуть духа сберегающего клады на себя, раз… другой и третий. Кадук яростно квакнул вроде распевшаяся по весне серо-желтая жерлянка, издав нечто схожее с «уканьем». И тотчас открыв свой огромный рот, выпустил оттуда густые, черные и горькие пары, плеснув их прямо в лицо Орея. Посему мальчик, приняв ту смрадную густоту на себя, яростно затряс головой и громко закашлял, да только ногу Копши не выпустил, всего-навсего сильней на себя ее дернул. Отчего дух сберегающий клады показался из брюха и второй ногой, почти до стана.
– Охти-ахти, ты, шелупина таковая! – грозно продышал Кадук, сызнова разинув свой большущий рот и пугая странников острыми, шилообразными зубами, утыканными в два ряда да красным языком покрытым белыми бородавками. Он теперь еще тягостно закачал длинным, широким, один-в-один, нависающим в виде шапки мухомора носом. И неожиданно изогнув свое сгустившееся тело почти, что навис над головой Орюшки, а из его нутра послышался приглушенный вопль Копши:
– Спасите! Уберегите! Губит мене душегубец, Кадук! – а мгновением погодя в черных клубящихся парах его пасти показался сначала округлый красный колпак духа сберегающего клады, а потом и сама его голова с порослью златых куделек на лбу. И Алёнка это мелькание Копши узрев, сразу выпустила стан братца, да шагнув вперед, впритык к Кадуку (потянув за собой пристроенных позадь нее обоих колтков), ухватила проглоченного духа за волосья и чуть торчащее правое лоптастое ухо.
– Орюшка! – вскликнула девчурочка, обращая на себя внимание братца. А последний хоть и тряс головой, да часто-часто моргал, абы пары, выпущенные из Кадука, жгли ему очи, одначе моментально сообразил, что надобно сестрице. Посему немедля выпустил из рук, дотоль удерживаемый сапог Копши, и, пособляя Алёнке, вздев руку, сунул ее в пасть Кадука, ухватив духа сберегающего клады за левое ухо. А ужоль опосля малец вместе с девонюшкой потянул Копшу вверх.
– А…! – заорал дух сберегающий клады, и тягостно затряс головой и всем телом, вылезая из внутренностей Кадука почти до стана, да стеная тому раскатисто крику укнул, а после каркнул.
И тотчас в небесах вельми ярко и много ближе, над путниками и чарусой, вспыхнули размашистые златые лучи, точно, желающие разогнать серость облаков, самую толику потревоженных ветром, и с тем сдержавших холодную морось. Еще не более мгновения и в серой ряби небосклона явилась, будто вынырнув из-под облаков, чудная златая птица. Весьма крупная с длинной точеной шеей, маленькой головой увенчанной хохолком да долгим широким хвостом в виде опахало (каковой в дуновении ветра блистал каждым перышком). Она вдруг блеснула своим дивным придивным желтовато-блестящим опереньем, взметнула опахалом хвоста и принялась медленно и плавно спускаться вниз, совершая небольшие круги.
Впрочем, того прилета путники бывшие на чарусе ни видали, абы были заняты вызволением из утробы одного духа, другого. Понеже кады птица наблюдаемо опустилась над болотной полянкой, сестрица и братец сообща дернули Копшу за уши вверх так, что внутри Кадука чегой-то гулко плюхнуло, выпустив первого из нутра почти до сапожек. Посему когда детвора подхватила духа сберегающего клады уже и под руки, их самих внезапно потянуло вверх. Еще самую малость и ноги отроковицы да отрока, а за ними и колтков (весь тот срок держащихся за Алёнкин стан, да по мере сил пособляющих), оторвались от мшистой землицы. И из чрева Кадука вослед ребятушек полностью вырвался Копша, напоследок полоснув пожирателя по красному языку златой подковой, смахивая с его поверхности белые бородавки вниз в черные глубины его утробы.
– А..! – пронеслось весьма раскатисто над болотами, да эхом отразилось со всех сторон и даже заухало в окнах водицы.
Это Копша только сейчас приметивший собственное вызволение, вытянул в сторону лежащего на кочке кувшина руки да громко возопил:
– Кринку! Кринку забирывайте! Без кринки я никоим побытом!
И тогда же недвижно лежащий на землице кувшинчик, яростно сотрясся, из его донышка выросли два округлых волдыря, вроде выдавленных наружу. Они, малость, подрожав, пошли малыми трещинками, а после, срыву лопнув, выпустили из себя, раскрывшиеся как бутоны на цветках, небольшие перепончатые утиные лапки. Красные лапки теперь и сами шелохнулись, как и качнулась кринка, намереваясь, опустится на собственное дно. Она, еще раз колыхнулась, и, так-таки, перевалилась на днище, поелику лапки ее коснулись оземи да, не мешкая, оперлись на них, на чуточку времени неподвижно затаившись. Одначе уже в следующий момент времени посудинка приподняла тулово, расширяющееся книзу с пережабиной под горлом, и побежала вначале вправо, а потом влево. На пережабине внезапно появилась тонкая трещинка, каковая раздавшись в стороны, шевельнулась по краям, и сразу послышался громкий крик:
– Мене! Мене, Кринку запамятовали! Без мене вам никоим побытом! Никуды!
А на черном, словно студень, вязком и, одновременно, дымчатом брюхе Кадука медленно сошлась в единую полосочку дырища, оставленная от вынутого из утробы сапога Копши. Дух теперь сомкнул и свой огромный рот, да слышимо плюхнул, выплескивая из боков длинные столбы вязкого дыма. Те пары как-то мгновенно загустели в виде рук оканчивающихся четырьмя перстами, кои сложились подобно челюстям, схожими с клешнями рака да обряженными маленькими коготками. Кадук торопливо вскинул руки вверх вслед поднимающихся колтков, детишек, Копши и чудной птицы, да резко щелкнул клешнями, пожалуй, на вершок, не дотянувшись до кожаных порабошней Бешавы. Благо в этот момент младший колток малешенько поджал ноги, а чудна птица взяла вбок, смещая собственную ношу в сторону бегающего по землице кувшинчика, всполошено закричавшего:
– Мене туточки не вергайте! Мене забирывайте!
И ему с высоты не менее взбудоражено отозвался Копша:
– Кринка! Кринка аки я без тобе?! – словно прощался не с посудинкой, а с родней и, на-кась, даже легошенько дернулся в его сторону, обаче не сильно и видимо не намереваясь покинуть удерживающих его подмышки рук ребятишек.
И в тоже мгновение, дотоль смирно лежащий недалече, клубочек, будто из желтой шерстяной нити скрученный, пригасивший сияние огнистых зерняток (может потому как вспужался Кадука), ярко вспыхнув, покатился в сторону кувшина, продолжающего бегать туда-сюда, инолды даже пытавшегося подпрыгнуть. Впрочем, подскочить повыше посудинке никак не удавалось, посему она всего-навсего гулко плюхалась на землю донышком, всяк раз, при таком падении, выкидывая вперед красные лапки. Клубочек вельми скоро докатился до кувшинчика, и, резко сиганув вверх, нырнул чрез горловину внутрь него. Отчего вже в следующий сиг кринка и сама присела на лапках. Да будто переняв от клубочка прыткость, срыву скакнула выспрь, нанизавшись горловиной на стопу Багреца, и ужо там благоразумно затихнув, свесила вниз лапки. А дивный птах, подхватив и последнего спутника, сразу и больно быстро взмыл выспрь, взметнув своими мощными крылами да обдав всех висящих под ним порывистым дуновением.
– Ужось я вас! Ужось я вам! – гневливо прокричал в след улетающих Кадук и яростно защелкал своими клешнями-руками. Да только он зря ярился, выплескивал изо рта густые черные клубы, качал головой и тряс мухоморами, особлива приноровившихся расти на спине, ибо странников ему было не достать.
А чудная птица, столь неожиданно пришедшая на выручку, ужотко несла путников вглубь межмирья, каковое стлалось все теми же болотными далями, привольем неведомым. И оземь покрытая водьями да мшистыми островками днесь не была землицей-матушкой. Не являлась она богиней Мать-Сыра-Земля, наполняющей собою Явь, каковая по поверьям славян живой слыла, коей каменные горы заменяли кости, мощные корни деревьев, жилы, а вода, текущая по руслам рек, кровь. То совсем другая оземь стлалась, где не должно было жить-поживать человеку, зверю, птице аль духу, обитать богам, абы она стала на вроде шва, оный крепил один мир к иному и тем самым объединял это пречудное творение Рода в необозримое приволье Вселенной.
– И чё энто Кадук туто-ва застрял? – прерывая молчание, вопросил Бешава, он также как и его старший братец крепко да обеими ручонками держался за стан Алёнки, точнее днесь за ее поясок, иногда покачиваясь во время полета птицы.
– Може побоялся ступать дальче, – также негромко отозвался Багрец, видно, не желая, дабы детишки их толкование с братцем слыхивали и оттого беспокоились.
– Вмале ведь истончится в дым, видал, скока тех белых паров над водой пузырится, – протянул младший колток и сострадательно вздохнул.
Глава десятая. Жар-птица
Птица летела ни высоко, ни низко, а по середочке небушка, малешенько касаясь концами своих размашистых крыльев серых, словно рассыпанных облаков. И то все времечко под странниками пролегали странные земли межмирья, ниточного шва, между одним миром и иным.
Яви и Нави?
Али Яви и Небесной Синей Сварги?
О том может, кто и ведал… Тот, каковой ноне в межмирье никак не мог быть…
А дивная златыми переливами сияющая птица стала медленно спускаться вниз, изредка (точно присматриваясь к оземе) свершая не большие круги над местностью. И всякий раз такие движения, вызывали вопли ужаса в Копше и поддакивающем ему глиняном кувшине:
– Мягше, мягше. Нешто льзя дык шибко летети наземь? – возмущался дух сберегающий клады, и легошенько тряс головой, колыхая плывущей по воздуху длинной бородой.
– А я и тем паче крушливый, не дай боже сронишь, – вторил ему кувшин, совсем чуточку покачиваясь на ноге Бешавы, за каковую держался собственной горловиной.
И то недовольство длилось весь срок полета, каковой шел от начала спасения обок Кадука и до тех самых пор, поколь дух не сокрылся из глаз и птица медленно, но ощутимо пошла на посадку (не больно быстро, как о том переживали Копша и кувшинчик). Дивный птах промеж того свершив еще один полукруг, выставил вниз ноги и сложив крылья на спине, весьма мягко опустился на землицу, сделав по ней несколько шагов и с тем как бы оставляя на ней, сперва колтков и посудинку, а после детушек и Копшу. Не столько ставя их на ноги, сколько, все-таки, укладывая в густые и здесь зеленые мхи.
Сама же птица, выпустив из когтей плечики сестрицы и братца, взметнулась ввысь, теперь свершив махонькое коло над лежащими. Ужотко наблюдая сверху, как странники степенно принялись вставать с земли, кто, восседая на нее, кто все же подымаясь на ноги. Теперь дивный птах чуточку расширил круг полета, да вновь пошел на посадку, выкинув вперед свои высокие, крепкие ноги, и врезавшись их загнутыми златыми когтями в мшистую поверхность оземи. Как-то и вовсе махом он сдержала движение крыльев, и, сложив их на спине, единожды блеснул всем своим опереньем, кажным его ярчайшим перышком, кажным мельчайшим его отростком.
– Блага дарствуем за наше спасение, – первой заговорила Алёнка, также как и Орей, поднявшаяся на ноги. Девчужка вскинула вверх правую руку, приложила ее длань к груди и тем поприветствовала чудную птицу, ростом как оказалось не больно с ней разнящуюся.
– Здравия и тебя девонька, и твоему братцу, и всем путникам оные прибыли с вами, – ответствовал дивный птах и надо же легошенько качнул головой, вроде кланяясь златым коротким хохолком. И вслед того говора на землицу из его клюва ссыпалась капель переливающихся искорок, не то, чтобы утонувших в зелени мхов, а лишь зацепившихся за их малые отростки и чуточку качнувшихся на сих кончиках.
– Зовут-величают меня Жар-птица, – ответила птица, продолжая дотоль начатую реченьку, и ступила вперед ближе к ребятушкам. – И прилетела я к вам, Алёнка да Орей, сестрица да братец, в помощь неспроста. Понеже рождена я была в тот срок, кады вы оба избрали эвонту стежку, абы являюсь воплощением великого бога, ноне упрятанного лютым Скипер-зверем, як и ваши сродники. И мое явление-рождение, знак судьбы, послание славянскому роду… О том, что прошли тяжкие времена и наступают инаковые… – Жар-птица стихла всего-навсего на малость, судя по всему, чтобы качнуть своей дивной головой да уже в следующее мгновение продолжила, – прилетела я из далекой Синей Сварги, иде, и, была рождена в привольности голубых небес. Прилетела к вам на выручку, ибо с энтого сига наши уделы связаны… Мой, бога, Алёнки и Орея! Ужоль, тык вот чудно сплела Макошь судьбу. Связав в единый, златой узелок, мой удел и ваш.
– А нашто богиня тык сплела наши судьбы? – задумчиво вопросил мальчик и легошенько отодвинул от себя Копшу, каковой только поднявшись на ноги, принялся жаться к деткам и единожды часто-часто покачивать головой, словно желая сбросить с нее колпак.
– Подь, подь сюдытка, Кринка! – наконец пояснил пошатывание собственной головы дух сберегающий клады, и, развернувшись, сердито глянул на застывший обок колтков кувшинчик. И посудинка срыву сорвавшись с места, побежала к Копше, торопливо переставляя свои утиные лапки и раскачивая тулово туда-сюда. Уже вельми скоро преодолев пролегший промежуток и замерев подле духа, кринка с тем пошатыванием, вроде вытрясла из себя маханький клубочек, который выскочив из горловины, притулившись сверху на мхи, мигнул огнистыми зернятки, особлива переливающихся в лучах сияющего оперенья дивного птаха.
– Богиня Макошь, Великая Ткачиха, держит в своих руках полотно Мира. Витиеватые на нем узоры, усе из волоконцев судеб людских и богов собранные, – протянула Жар-птица, последние звуки молвленного и вовсе пропев. И тому говорковому пению вторил нежный свирельный свист, а из приоткрытого клюва дивного птаха вниз, в зеленые мхи, посыпались крупные перламутровые камушки.
– Ужотко женчюг! – прервал, громким окриком пение Жар-птицы, Копша, и взбудоражено всплеснул своими руками, да затопал ноженьками на месте, став схожим с курицей готовой снести яичко. – Сие женчюг, женчюг! Таковой зрети в ракушке в море-окияне. Вельми расчудовый камык, – дополнил все также радостно дух сберегающий клады, и разком сорвавшись с места, в два аль три шага подскочил к дивному птаху, высоко поднявшему голову, и, так-таки, замершему, должно стать, от испуга. Копша между тем упал пред Жар-птицей на карачки да принялся, раздвигая скученные веточки зеленых мхов, вытягивать из них переливающиеся камушки да пихать их себе в рот.
– Женчюг? Иде женчюг? – не менее взбаламошено вскликнула Кринка и принялась бегать по коло, натыкаясь на ноги стоящих ребятишек и колтков, отступая и сызнова продолжая свой скорый ход, однозначно не видя ничего кругом. Обаче посудинка явно слышала, потому как после очередного бодания ног Багреца, отступив назад, недвижно замерла, да посем вже точно добежала до Копши.
Кринка теперь застыла обок духа сберегающего клады, прижавшись пережабиной под горлом к его выпученному и чуть прикрытому материей кафтана заду и легошенько вздрагивая всем своим туловом, да приседая на утиных лапках, запричитал:
– И мене, мене того женчюга дай-ка! Вельми вожделею сие обилие в ручонках держивать!
– Хм! – немедля смешком отозвался Орей, да хмыкнул носом, столь задиристо, что из правой ноздри на губы его выскочила долгая белая сопель, сигом погодя уже нырнувшая обратно. – Об каких ты руках болтаешь? Их же у тебя таки да нет, – дополнил он свой смех реченькой.
А Копша внезапно изогнул спину дугой, да принялся громко кашлять и с тем выплевывать в обратный путь камушки женчюга. Ужось, однако, не позволяя им попасть во мхи, он также скоро, изловчился вылавливать их летящими в воздухе. И лишь потом, когда ладошки переполнились женчюгом, и прекратилось их изрыгание изо рта, дух отправил полные жмени себе запазуху. Притом не расстегивая медные пуговицы, а засовывая сквозь прорехи меж ними, ни сколько не обращая внимания на просьбы кувшинчика. Копша переместился с карачек на присядки, вже после того как полностью освободил свои длани от женчюга и принялся пристально оглядывать растения, точно ожидая кады ж вдругорядь запоет птица и ничего ли он там не пропустил.
– Больче женчюга не будет. Можешь отседова ступать, – негромко молвила Жар-птица и совсем чуточку покосилась на сидящего поперед нее духа, блеснув крапинками сине-голубых глаз. Колпак на голове Копши качнулся туды-сюды, как и он весь сам, судя по всему, дюже переживая, что более не получит тех не понятных для ребятушек камушков, всего-навсего приметно сверкающих переливами света.
Дух сберегающий клады медленно вздел голову, единожды сместив колпак на бок и скривил личико, погасив в морщинках красные глаза, оставив для взору только вертлявый нос, оный в свой черед часто-часто задрожал и принялся пущать из себя тончайшие струйки белесой слизи (то ли слез, то ли нюнь). И уже так это со стороны смотрелось пакостно, что не только колтки, Алёнка, но и почасту утирающий собственные нюни Орей, громко зашикали на Копшу, призывая его к благопристойности.
– Як же тебе не совестно, – протянула за всех девчушка, легошенько выпучив вперед красные губешки, тем самым выражая недовольство. – Такой большенный, самый старчий из нас туто-ва, а тык вот некрасивше нюни распустил, будто маханький.
Копша слышимо выдохнул и зараз поднялся на ноги, притом не расправив на лице складочки, хотя и подтянув сопли. Таким побытом, все ж он желал задобрить дивного птаха, каковой в свой черед не поддалась на данные увертки, а вспять того ступил в сторону. Позади Жар-птицы долгий хвост, малешенько качнувшись, поднялся вверх, размашисто развернувшись и блеснув каждым отдельным перышком, таким ослепительно златым. Дух сберегающий клады еще чуточку поглядывал на птаха, но так как последний больше на него не обращал внимания, медленно развернулся да принялся оглаживать свой кафтан, ставший несколько потрепанным и грязным от пребывания в Кадуке, посему и являющий бело-серые полосы по всей материи. И тотчас послышался раскатистый вздох кувшинчика, все поколь тулящегося к Копше, досель сопереживающего, что не удалось собрать женчюга, слышимо сказавшего:
– Дык аки прекраса он лучится, – и его возгласу довольно фыркнул дух, кособоко наблюдающий за дивным птахом.
А Жар-птица, между тем, поглядывая лишь на поместившихся супротив него ребятушек, продолжила свой сказ, ноне, впрочем, более не переходя на пение:
– Полотно Мира, кое соткала Макошь, имеет замысловатые узоры, удивительные перекрестия, знаменательные узелки. Разными цветами переливается оно, абы удел кажного живого создания не повторим в своем движении. И твой Орей, и твой Алёнка удел накрепко связаны с моим явлением. Коль бы оба вспужались ступать за клубочком як то велела Земляничница, али б забоялись защищать колтков перед Доброхочим, лезть во глубокий лаз берлоги кома, не случилось б и моего рождения, явления. Не было бы моего прилета в межмирье, а значица и освобождение славянского роду от Скипер-зверя во даль дальнюю отодвинулось, а может никогда и не свершилось бы вовсе.
Чудная птица тяперича раскрыла и свои переливающиеся крылья да легохонько качнула на них кажным перышком, точно намереваясь взлететь, и единожды обдала стоящих пред ней детушек жаром огня. Только затем, когда теплые волны вроде огладив волосы братца и сестрица, чуть слышно затрещали на них, Жар-птица дополнила:
– А днесь нам всем надобно ступать вперед. Туды, куды катился до энтого клубочек, ибо стёжка наша обчая прямо али криво, быстро али долзе, приведет куды велено.
– Кем велено и куды сия стёжка водить, – протянул недоверчиво Копша, лишь сейчас распрямляя на личике морщинки, и взором своим суровым уперся в чуть покачивающийся хохолок птицы, поверху увенчанный крупным, белым женчюгом, вельми круглым и гладким. – Ты сама-то ведываешь? Али дык всего-навсе язычишь? – довольно грубо закончил дух сберегающий клады, и прерывисто вздрогнул, судя по всему, очень желая тот женчюг примерить на свой колпак.
– Не-а… не ведаю, – чуть слышно отозвался дивный птах и сызнова переступил поближе к детушкам да покосился на такого жадного до того обилия Копшу, точно пугаясь его непомерности.
– Толдо пошто язычишься… Тумкаешь сие оченно легошенько ступать к незнамой Яге, по неведомой дали, – глубокомысленно завершил дух сберегающий клады и вторящий его ненасытному взгляду кувшинчик, горестно застонал, будто сам желал примерить на себя чудной камень женчюг. – Нам хаживать, тобе летети. Али ты, опять-таки, по сим вольностям мари влачитися с нами будяшь?
Жар-птица сразу взметнула крыльями, да подавшись вверх, взлетела в поднебесье, качнув своими вытянутыми, повисшими златыми лапами, на кончиках каковых переливались ослепительно-желтые тонкие коготки, и ужоль оттуда чуть слышно отозвалась:
– Нет, я полечу, не могу ступать. Тык и вас не могу несть, ведь куды-ка шествовать о том ведает токмо клубочек ваш. А вас я разыскала туто-ва, понеже тяперича удел у нас обчий. Я буду лететь, и глазеть с небес за вашим ходом, дабы не отстать.
– Вельми нам понадоба, дабы ты поспевала, – сурово дыхнул Копша, и, раскрывши рот, потеснив волоски пышных красных усов и густой бороды, прикрывающих губы, вынул из него узенький черный раздвоенный на кончике язык да выставил его вверх. Скорей всего он желал, чтобы его недовольство узрела Жар-птица, да она была вельми высоко и о языке духа сберегающего клады не помышляла.
Глава одиннадцатая. Огненная, смрадная река
А болотистые земли все стлались и стлались. Они как можно понять наблюдались и справа, и слева, и даже позади странников, словно все, что осталось в Мире так только эта полоска межмирья. Должно быть не больно узкая, может вспять широкая да долгая. Понеже в данном месте стало сложным понять какой ход у времени, сколько пройдено и кады то движение закончится. И коль землица, покрытая водьями да пестрыми кочками мхов, мало чем разнилась с болотами Яви, то небесный купол, серо-голубой с легкой рябью облаков, смотрелся иным. Отсутствие на нем красна солнышка, так-таки, и не проявившегося в небосводе, ни восходом, ни западением за его грань, лишила возможности понять, когда здесь день, а когда ночь. Словно в тутошнем приволье завсегда было утро или вечер, каковой даровал свет и вместе с тем торопил шагающего, непременно, поспеть в определенный срок дойти до границы межмирья.
Обаче чем дальше уходили путники, тем все тише и тише становилось округ. То безмолвие теперь не нарушалось даже пыханием пара над водными окнами. А легчайший ветерок, досель витавший окрест и колеблющий волосы ребятишек да перекатывающий бубенцы на их поясах, кои выдавали былые, звучные мелодии, ноне замер. Лишь продолжали гудеть над головами странников тучи комарья, своим въедливым пи… пи… пи поторапливая ступать скорей.
Затишье небосвода если кто и нарушал так только летящая и блистающая златыми переливами Жар-птица, то зримо видимая, то наново обращающаяся в яркую крапинку. Она частенько перекликалась с ребятишками, величая их по именам, а порой вельми заливисто пела и тады ей, кажется, подыгрывал свирельный свист, ссыпающий вниз на землю мельчайшие бусенцы женчюга. Когда те махие перламутровые камушки падали в воду али мхи, Копша тягостно вздыхая, сказывал:
– Надоть же сколь чудо-чудового занапрасно сронено.