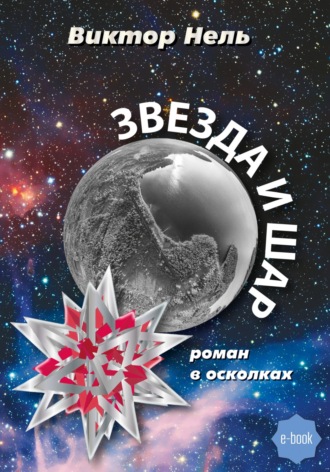
Полная версия
Звезда и шар
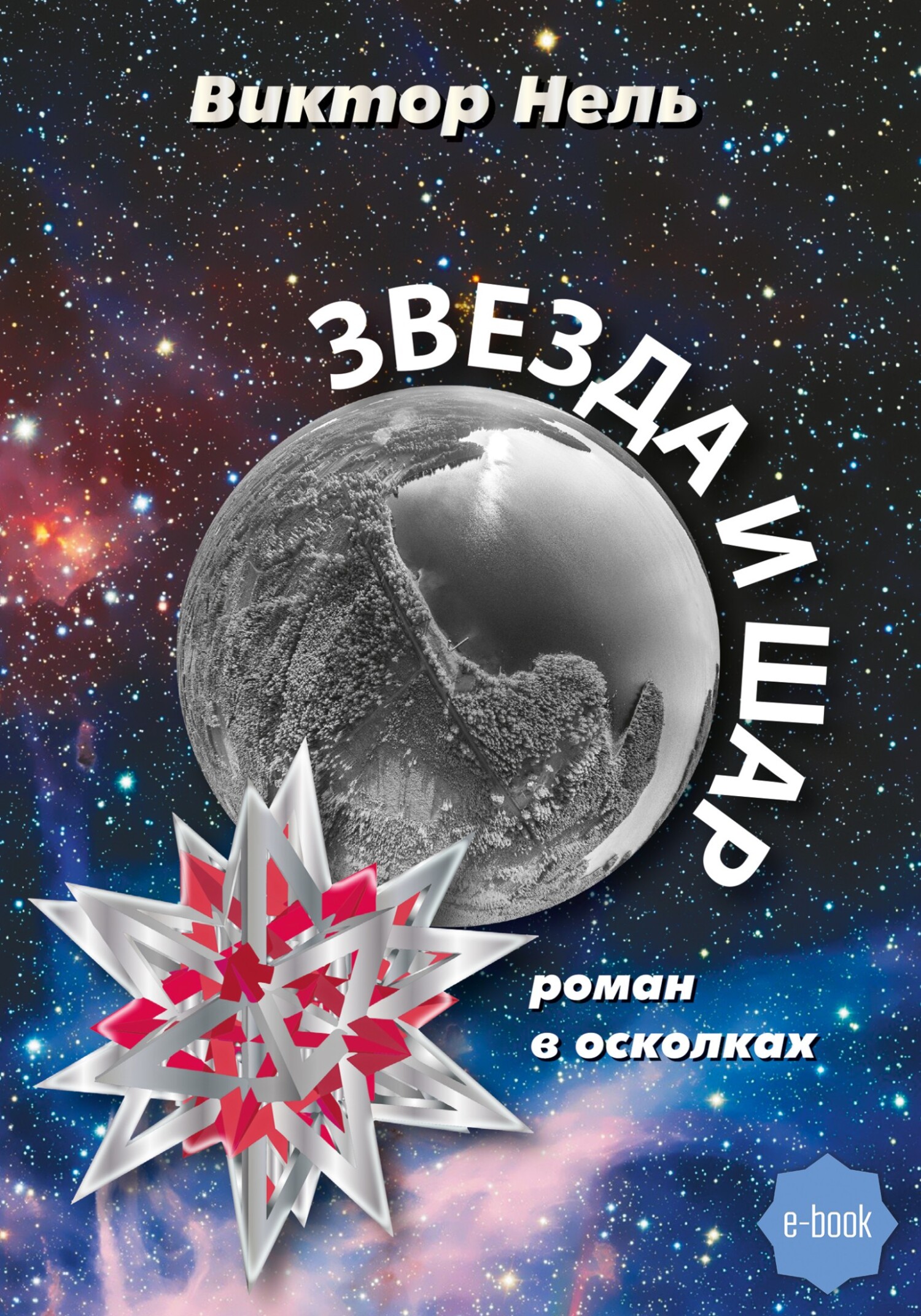
Виктор Нель
Звезда и Шар
Роман в осколках
Предисловие автора к первому изданию 2001 года
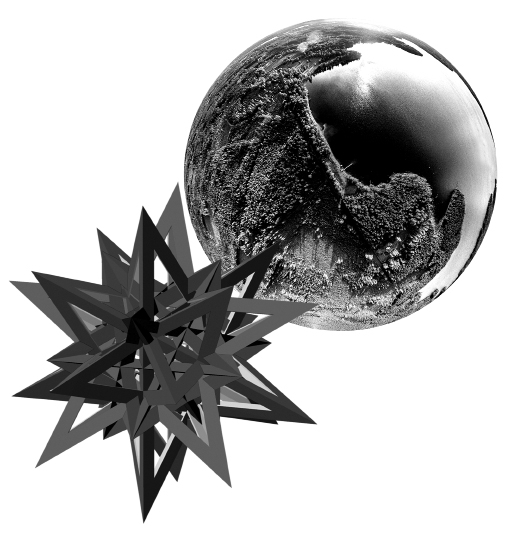
Нелегкое это дело, нелегкое. Да нет, не писать, – читать тяжело. А писать – чего же проще. Вот взять кого-нибудь для наглядности, например, меня. Я никогда не писал романов. Собственно, я никогда ничего не писал. В школе по литературе я с большим трудом получил тройку. Один единственный раз я написал статью в заводскую многотиражку о трудовом фетишизме, за что был поруган.
Сейчас, когда столько всего происходит, особенно пальбы, я вдруг подумал: неужели же мое время навсегда войдет в историю как время застоя?
Да, хлеб стоил четырнадцать копеек, сколько я себя помню, и столько же он стоил, когда я пересек Атлантический океан. Да, не было свободы предпринимательства. Да, казалось, время остановилось, ничего не происходит и не произойдет никогда. Да, когда вокруг стрельба, сюжетов больше…
Но была у застоя одна черта, которая выделила его из остальных эпох: у людей была возможность остановиться и подумать. Были целые организации, мелющие воду в ступе, которые позволяли под видом работы размышлять, не думая о рыночном эффекте.
На мой взгляд, это необходимое условие для существования интеллигенции. Рыночная экономика травит человека почище, чем все комиссары, вместе взятые. И в Америке, и в посткоммунальной России.
Как-то сами собой начали появляться на свет эпизоды, потом они стали цепляться друг за друга, образуя некую полупрозрачную пространственно-временную вязь. Я так и не сумел запихать это кружево в четкое последовательное изложение.
Так его и воспринимайте: как слабо связанные и нестрогопоследовательные эпизоды.
2001
Предисловие издателя 2001 года
Автор этой книги живет и работает в Соединенных Штатах Америки. Подобно тысячам научных работников и инженеров, он нашел применение своим знаниям и умению за рубежом, когда в России они оказались лишними. Среди этих тысяч есть литературно одаренные люди, для которых сочинение стихов, рассказов и романов не является средством заработка, ибо их научная специальность дает им за рубежом достаточные средства, но служит целям духовным – связи с родной средой и языком, осмыслению своей судьбы и судьбы России, а иногда и целям борьбы с ностальгией.
Всемирная компьютерная сеть дает прекрасное техническое средство для связи с соотечественниками, для того, чтобы написанное находило своего читателя.
Вот и эта проза впервые была опубликована в Интернете на странице автора, а теперь выходит в книге.
Виктора Неля можно причислить к той группе авторов, которая, находясь за рубежом и не являясь профессиональными литераторами, сейчас завоевывают читательскую аудиторию в России – как среди сетевой публики, так и среди читателей, предпочитающих знакомиться с текстом на бумаге. Среди них Михаил Березин, Лиля Поленова, Александр Торин, Вадим Смоленский, Евгений Бенилов и другие авторы, чьи книги уже вышли или вот-вот выходят в нашем издательстве. Очень условно, при всех стилистических различиях их можно поделить на тех, кто вспоминает прошлое и осмысляет опыт жизни в России, и тех, кто делится с читателем новым, приобретенным за рубежом опытом. Автор этой книги избавляется от прошлого.
Роман «Звезда и Шар», написанный в своеобразной манере «осколочной», фрагментарной прозы, повествует об ушедших временах застоя. Крупный закрытый НИИ, связь с Минобороны, военные заказы, нравы и обычаи научного коллектива – все это описано точно, с несомненным знанием дела и угадываемой автобиографичностью. Но это уже проза «из прекрасного далека», она при всей сатиричности автора проникнута ностальгирующим чувством – странное сочетание любви и ненависти, а еще точнее, единое и неделимое чувство любви-ненависти.
Вот что говорит об этом критик «Русского журнала» Кирилл Куталов: «Писать, живя в Америке, роман о застойных временах; ничего безнадежнее, кажется, придумать нельзя. Первые страницы читаешь так, будто перед тобой подшивка журнала «Юность» за 1987–1989 годы. Производственная тематика, идиот начальник, партийные интриги, первый отдел – как будто и не было Ельцина на танке, или на чем он там стоял. Вот только ближе к концу появляются странные фигуры, не свойственные роману о застое в такой интерпретации…»
В том-то и дело, что интерпретация автора уже другая, постсоветская и даже построссийская. Это взгляд с той стороны земного шара. И взгляд этот часто лиричен, что подтверждают рассказы, включенные в книгу и открывающие еще одно авторское свойство – стремление к эксперименту с формой, к поискам своего языка.
Я рад представить читателю нового автора.
Александр Житинский
Кирилл Куталов, РЖ
Роман «Звезда и Шар» Виктора Неля – из тех романов, которые лучше читать после авторского предисловия. Предисловие находится здесь. В нем, помимо прочего, говорятся две важные вещи. Первая – это роман о застое. Вторая говорит о том, что из себя представляет собственно сам текст. «Так и воспринимайте: как слабо связанные и нестрогопоследовательные эпизоды», – так и воспринимаем.
Итак, роман о застое. Что такое застой теперь, когда его нет? Это в первую очередь определенный код предписаний и запретов – языковой, экономический, политический, какой угодно, главное, что насильно данный, и посему без злобы, а даже скорее с наслаждением расчленяемый на составные части. Более того – и расчленение это не вчера началось. Позавчера, если быть точным. Те, кто десять лет назад читал Юрия Полякова и Евгения Попова, а чуть пораньше – Аксенова и Стругацких, в «Звезде и Шаре» найдут знакомые интонации обязательно, герой же и вовсе покажется родным человеком. Однако только на первый взгляд.
Герою-аутсайдеру больше всего подходит амплуа младшего научного сотрудника. Герой-аутсайдер, начисто лишенный карьеристских амбиций (в известном смысле ему нечего терять), – идеальное средство для развенчания властного дискурса, лакмусовая бумажка, реагирующая на абсурдность общей ситуации (НИИ как действующая модель страны размером с не слишком высокое здание, чего стоит хотя бы название некоей сверхсекретной установки, над которой этот НИИ трудится: «ПУПОГТ»). Герой-аутсайдер превращается в монстра, как только начинает говорить языком «плохих парней», когда воспринимает тот самый код предписаний и запретов. Если же герой-аутсайдер продолжает упорствовать, то его фигура брезжит в зыбком и тревожном тумане неопределенности дальнейшей судьбы. Третьей возможности как бы не дано. Вот, пожалуй, характерная для рассматриваемого случая литература о застое в четырех с половиной фразах.
Здесь важной является именно третья, отсутствующая линия развития сюжета – что случается с героем-аутсайдером, который, с одной стороны, никаких кодов не воспринимал, а с другой стороны, не слишком усердствовал в критике режима и вообще в неподчинении? Времена, говорят, вегетарианские уже были, – что произошло с так и не проглоченной этими временами потенциальной добычей? Как, наконец, повзрослел (и постарел) герой-аутсайдер?
Не скажу, что в начале перестройки этот недетский вопрос настолько пугал писателей, что они старались его вовсе не замечать, по крайней мере изо всех сил делали вид, что не замечают. Скорее всего, ответить на него тогда и невозможно было, то ли оттого, что никто не верил всерьез, что все закончится, то ли никто не мог представить себе, что закончится именно так. Как бы там ни было, представляется, что именно благодаря отсутствию ответа на этот вопрос литература о застое все еще способна выжать из иного читателя ностальгическую слезу. Просто потому, что никого ни к чему не обязывает, не навязывает необходимости соответствовать; она, по сути, сплошной открытый финал, закрыть который читатель может сам по мере сил и опыта. А может и не закрывать вовсе.
Хотя бы потому, что и в самом деле мало определенного. Незавершенность финала литературного проекта «роман о застое» вполне соответствует незавершенности финалов прочих застойных проектов, и прибитая к дому на Лубянке доска с Андроповым – еще не самое яркое тому подтверждение. Литература ведь только часть социального текста, еще Фуко сказал.
Поэтому и «Звезда и Шар». Я бы предложил как именно роман о застое рассматривать тот самый коротенький текст-предисловие, а все, что следует ниже, – деконструктивистский комментарий, устраняющий необходимость в собственно фигуре толкователя. То, что называется «Звезда и Шар», и есть деконструкция, критика мифа о застое, оформленного в нескольких нехитрых словах.
Причем критика непривычно для этого жанра последовательная, чему причин, как представляется, две. Первая состоит в удаленности временной, вторая – в удаленности пространственной (автора). Писать, живя в Америке, роман о застойных временах; ничего безнадежнее, кажется, придумать нельзя. Первые страницы читаешь так, будто перед тобой подшивка журнала «Юность» за 1987–1989 годы. Производственная тематика, идиот начальник, партийные интриги, первый отдел – как будто и не было Ельцина на танке, или на чем он там стоял. Вот только ближе к концу появляются странные фигуры, не свойственные роману о застое в такой интерпретации, фигуры, которые вроде бы всегда маркировались как «анти» – антисоветские, антикоммунистические, антитоталитарные и так далее. Художники, похожие на концептуалистов, коллективно борющиеся за свои права отказники, похожие на московские и питерские правозащитные тусовки. И в той неожиданной легкости, с которой герой проходит мимо них, ничуть не больше тяготясь расставанием, чем когда он проходит мимо, скажем, так любимого концептуалистами милиционера, нет ничего удивительного. Все дело опять же в последовательности деконструкции, поскольку и милиционер, и художники, и даже правозащитники возможны только в том самом поле, которого они все ягоды, или, как сказал бы тот же Фуко, одной эпистемы дискурсы.
Виной тому опять же герой, не характерный для этой литературы. Герой «Звезды и Шара» – редкий случай сам по себе. Он не то что не носитель идеи, он человек без идеологической прописки, более того, у него вроде бы даже и определенных вкусов нет. Он – критерий пустоты, пробы которым не выдерживает целый огромный мир, претендующий (да еще как!) на абсолютную достоверность, мир, начинающийся с хлеба, который всегда стоит четырнадцать копеек, и заканчивающийся космической индустрией. Все, чем занимается герой, – бесполезно. Заняться чем-нибудь другим для него равносильно гибели. Хотя, конечно, мир этот тогда бы был спасен.
Есть в романе устойчивый мотив – головоломка. Чистая игра, не приносящая результатов за пределами себя самой, идеальный пример бесполезного действия. Трюк известный: головоломку надо решить, потому что только тогда все сложится на макроуровне. Решение головоломки всегда смерть.
Герой погибает в авиакатастрофе во время трансатлантического перелета. Погибает, уходя из пространства-времени застоя навсегда. Не потому, что ему нечего делать больше на этом свете, а потому, что миссия героя здесь выполнена. Миф развенчан. Миф убивает героя. Потому что миф больше, чем герой. Потому что без этого героя нет этого мифа. Интерпретация никогда не бывает окончательной. Головоломка решена, однако решение это видит только мальчик из рассказа Саймака, стоящий непонятно на каком берегу океана.
Предисловие автора ко второму изданию 2021 года
Я был поражён, когда прочёл слова Кирилла Куталова «Герой погибает в авиакатастрофе во время трансатлантического перелета.»
В мыслях этого не было! Ведь было ясно написано: Книга первая, Слева от Тускароры.
Значит, должна была появиться Книга вторая, Справа от Тускароры, ведь так?
Так, да не так. «Двадцать лет спустя» так и не увидело свет.
Почему? Не знаю…
Может, потому что Американский вариант театра абсурда не сильно отличается от Советского?
Может, потому что Книга вторая с тем же героем неминуемо съехала бы в эмигрантские байки?
Может, потому что Тускарора рассекает Землю пополам, и у героя нет другого выхода, кроме гибели в авиакатастрофе во время трансатлантического перелета?
Может, потому что за Тускаророй должен появится совсем другой Герой, который ещё не отлит в ясную форму?
Звезда и Шар
Книга Первая
СЛЕВА ОТ ТУСКАРОРЫ

… отличия сумасшедшего от психически здорового индивидуума кроются глубоко в мотивировке поведенческих актов. Наиболее интересные результаты получены в процессе изучения действий здорового сознания, помещённого в среду сумасшедшего дома. В этих условиях все разумные действия индивида воспринимаются окружением как психопатические, поскольку расходятся с общепринятыми, внешне связными, нормами…
Роберт Стоун, «Апологетика бреда»
Пролог
На лице Вадима играла улыбка. Со стороны это особо заметно не было. Пассажиры перекошенного набок троллейбуса никогда бы этого не сказали, даже если бы им пришло в голову оторваться от визга и скрежета сломанной рессоры, скребущей асфальт. Оторваться от пыльных стёкол и глянуть на невзрачного человечка в замасленных казённых ботинках с полоской недоотмытого автола поперёк лысины. Вадим умел скрывать эмоции…
Ещё со службы, когда ефрейтор Тетерин коротко бил под ребро за три секунды до входа товарищей офицеров. И надо было стоять смирно, с развёрнутыми плечами, и есть глазами полковника Лосося.
– Чего это у тебя, Кудряшов, глаза слезятся, – ласково говорил полковник, – сходи в лазарет, смажь от инфекции.
– Так точно, товарищ полковник.
– И голос у тебя, Кудряшов, сиплый – с перепоя что ли, а, Тетерин?
– Так точно, товарищ полковник, с сивушных масёл новобранец завсегда речью слабнет, – голос ефрейтора звенел в морозном воздухе умывалки.
… Всего-то и было от улыбки – морщин несколько лишних да дрожание в углах рта лёгкое. Родная мама не сказала бы, что улыбается. А Евдокия приметила.
– С утра раззявился, панк, – сказала она спокойно, – хоть бы зубила почистил сперва.
Женщина она была миролюбивая, ладили они неплохо. Любила вот только Евдокия телевизор смотреть, и слова новые, незнакомые заучивать.
– Я тебе говорил панком не звать, у них вон хохлы петушиные, а у меня только за ушами и осталось. Сказал, а сам понял: настроения мне сегодня ничем не собьёшь, день великий.
– А на ушах ещё больше, – отозвалась Евдокия. – С чего веселье-то, премиальные получил? Тогда гони.
Это больше для порядку было сказано, все деньги Вадим нёс домой неукоснительно: и получку, и аванс, и премиальные. За шестнадцать лет ни копейки не пропил. Шурин, правда, говорил, потому это, что у него на предприятии технического спирта хоть жопой пей. Да нет, знала она, что мужик её положительный, зря копейку не просадит. Так оно и было почти все шестнадцать лет. Почти все. Не знала Евдокия, что один раз, в конце зимы, не донёс Вадим до дома семь рублей тридцать восемь копеек…
Пришёл он тогда возбуждённый, рука в кармане.
– Чего это ты там мусолишь, покажь, – сказала она.
– Гайки, – говорит.
– Врёшь, с гаек скакать не будешь как наскипидаренный, покажь говорю. A-a-а, болты, чего врать-то было?
Вадим и сам не знал, зачем соврал. Потому, наверное, что болты эти купил он в магазине «Юный техник» по рубль двадцать три штука, таких в слесарке не сопрёшь. Болты особые, с расширенной резьбовой частью и с упорным буртом. То, что нужно для центрального сборочного узла.
…«Теперь всё есть, – думал он, – текстолита в цеху навалом, пружины можно из вращательной насадки спиздить, всё равно только ржавеет за бочкой, а на центральный узел кусок брони пустить. Ещё лучше, чем с гайками будет, гаек всё равно не подобрать, болты, похоже, дюймовые, а в броню саморезом пойдут».
А родилась его мечта много лет назад.
Монтировка звизгнула краем о последний гвоздь, доска отвалилась. Под ней, аккуратно и плотно уложенные, виднелись синие коробочки с разноцветным рисунком.
– Чего там, чего? – завытягивала шеи очередь. – Не томи.
– Венгерская игра, – серьёзно объявил Кожевников, – кубик Рубик ей название. Одиннадцать рублей штука, по две в руки.
Он попробовал подцепить один крупным пальцем, кубик не шёл. Сдвинув ящик с края, Кожевников коротко пнул валенком дно, три кубика скакнули в воздух. С серьёзным, сосредоточенным лицом Кожевников натянул на ватник замызганные нарукавники.
– Которые тут с пяти утра, подставляй кошёлки.
Вадим молча смотрел на коробки, быстро исчезающие в карманах и авоськах. Было очень любопытно, за что люди платят такие деньги. Вдруг он заметил в очереди химика Александра Ильича. Тот тоже увидел его и кивнул, улыбнувшись.
– Что, интересно? – спросил Саша, выбравшись из толпы с сине-радужной коробкой в руках. – Мне и самому не терпится глянуть.
Он развернул картонные створки, и на ладонь скользнул чёрный куб с яркими цветными гранями.
– Чего же с ним делают? – спросил Вадим озадаченно.
– Гляди, – кубик вдруг как будто треснул неровно у Саши в руках, и цвета на гранях смешались. Вадим оторопел. Весь его опыт слесаря пятого разряда восставал против увиденного.
– Углы ж должны отлететь, – сказал он неуверенно, – им же держаться не за что.
С неделю ходил он как пришибленный, бормоча: «Углы ж слететь должны, слететь».
1. Таинственная незнакомка
Петров очень спешил. Он и так опаздывал, да ещё подсадил зачем-то эту тётку у Финляндского.
– До «Гиганта», браток, на работу спешу, не обижу, – крикнула она, открыв дверь, пока он стоял на красный, и, не ожидая ответа, влезла. Теперь она развалилась на сидении, как хозяйка, и тараторила без умолку. Он проскочил Жукова на красный, едва увернувшись от вывернувшего откуда-то трамвая, потом резко затормозил перед площадью, пропуская густую толпу.
– Чего ты встал-то? – спросила тётка.
– Люди. Может, ты отсюда пёхом, «Гигант» вон – за площадью?
– Родной, докинь уж меня до Лабораторной, – блеснула она фиксой, – а людей не боись, трогай, они всегда из-под колёс выскакивают, я сама в такси работала, знаю, за двадцать два года ни одного наезда, гляди, гляди как сигают, как кенгуру, ты за трамваями следи, а люди шустрые, как зайцы, теперь вон сюда в проезд, развернись, вон туда, к забору, всё, прибыли, держи, – она протянула ему мятый червонец.
– Где ж ты тут работаешь? – спросил Петров, глядя наружу. – Здесь и домов-то нет.
Они стояли около длинного дощатого забора, поверх которого и сквозь щели виднелся состав с брёвнами.
– Правда хочешь знать? – тётка поглядела на него внимательно. – Тогда обещай, что с собой в могилу унесёшь.
– Ладно, ладно, – бросил Петров, глядя на часы.
Тётка подошла к забору и сдвинула доску.
– На подземном танковом заводе, – и она исчезла в проёме.
Доска, качнувшись два раза, встала на место.
2. Козёл
Константин Семёнович Волопас волновался. Экстренное совещание в министерстве могло означать всё что угодно. Прошло совсем немного времени с его головокружительного выдвижения…
Вот так же, как сейчас, его, тогда ещё директора Грозненского подразделения, вызвали в министерство. Он, конечно, знал, что Демьянов, тогдашний генеральный, уходит на пенсию, да и референт министра к ним в Чечено-Ингушетию тогда частенько наведывался. Чувствовал Волопас: грядут перестановки. Референт за водкой намекнул: «Готовь, Константин Семёнович, чемоданы». Но того, что произошло, он предположить не мог.
Министр встретил его сам, вышел из-за стола навстречу, протянул руку для рукопожатия.
– Наслышан, наслышан я о твоём героизме, Константин Семёнович, утёрли мы нос итальянцам! Ну расскажи, расскажи, как ты сам лично встал к амбразуре.
Министр ощущал лёгкое чувство вины за недоразумения, произошедшие с закупкой линии непрерывной суспензионной полимеризации фирмы «Монсанто». Он уже дал по ушам референту за то, что в делегации не оказалось ни одного спеца. Тот вяло отбрыкивался: отведены, мол, все кандидатуры, не проходят спецы в делегации, ну никак не проходят. Короче, делегация, нахрюкавшись чинзано, закупила линию без ноу-хау.
– Нахрен нам ихнее ноу-хау, – оправдывался глава делегации Хрюшко по возвращении из Рима, – это ж аж тридцать лишних миллионов! В твёрдой валюте! Мы ж их спросили, что там в нём есть, и ничего особенного там нет, какие-то тонкости процесса. Да неужто ж наш специалист не разберётся в тонкостях?! Аппаратура ж вся закуплена, и документация ж вся при ней!
В Грозный была брошена группа лучших представителей науки, линия была в рекордный срок установлена и дала первый продукт двадцать девятого апреля. Тридцатого победный рапорт ушёл в политбюро, откуда последовал немедленный ответ: «Поздравляем, так держать, после майских праздников посетим первую отечественную линию непрерывной полимеризации лично». Второго в ночь линия дала козла. В три ночи Волопаса разбудил звонок начальника отделения.
– Вязкость завышается неуправляемо! – орал он сквозь вой аварийных сирен. – Идёт за пределы контроля!
– Учёные где, мать их в небеса?! – гаркнул Волопас.
– Автобус за ними послал, скоро будут. Что делать, Константин Семёнович? – ревел начальник отделения. – Вискозиметры останавливаются! На воздух можем взлететь ежесекундно!
– Спускай давление, – по-командному произнёс Волопас.
Когда его чёрная «Волга» с визгом затормозила у дверей отделения, всё было кончено. От ресиверов, как от загнанных коней, шёл голубой пар, квадратные итальянские манометры дружно показывали ноль, а в главном реакторе сидел страшный сон полимерщика – заполимеризовавшаяся суспензия, или попросту говоря – козёл. Этот козёл был всем козлам козёл: тридцати метров в длину и десяти в обхвате, гигантский блок твёрдого как скала полиметилметакрилата уже начинал уседать, остывая, и отходить от нержавеющей стали котла, медленно корёжа турбины мешалок. Подъехал рафик с наукой.
– Вы знаете, Константин Семёнович, know-how в переводе на русский означает «знай, как» и является неотъемлемой частью любого производственного процесса.
Волопас молча смотрел на говорившего, сдерживая дерущего глотку ежа ярости. В сознании эхом отдавалась одна и та же мысль: «Сколько ещё мы будем зависеть от этих чистоплюев… плюев… плюев». А молодой представитель науки продолжал:
– Обычно фирмы берут за него до половины стоимости всей линии, «Монсанто» запросили только тридцать процентов, и непонятно почему наверху отказались.
«Чистоплюев… плюев… плюев», – звонко рикошетировало внутри черепной коробки. Громоподобный треск вырываемого с корнем ротора мешалки вывел его из каталепсии.
– Поднимай народ, – коротко бросил Волопас начальнику отделения, – подгоняй компрессоры, будем вышибать козла вручную. Времени нет, работу организовать в три смены, по принципу ротации.
Начальник отделения боготворил Волопаса. Он всегда поражался его способности принимать ясные и быстрые решения в обстановке постоянно меняющихся обстоятельств.
3. Star wars. Earth attacks
Возле памятника основателю города генералу Ермолову к Саше подошли трое. Двое явно чеченцы, один светловолосый.
– Земеля, – начал блондин…
Памятник показал ему вчера сосед по номеру, следователь прокуратуры Верховного Совета СССР Илгамжик Тусэу.
– Видишь памятник, – спросил Тусэу, хитро прищурившись.
– Нет, – сказал Саша.
– А между прочим, мы стоим сейчас от него в девяти метрах, давай теперь перейдем улицу и посмотрим с той стороны, – добавил Илгамжик. – Теперь видишь?
За кирпичной стеной, возле которой они стояли раньше, за тремя рядами колючей проволоки виднелся бронзовый бюст в эполетах.
– С момента основания форта Грозный памятник уничтожали двадцать семь раз, – сказал Тусэу, и глаза его совсем исчезли в прорезях век. – До сих пор гранаты кидают. Сделать с ними ничего нельзя, раз в пять лет наша следственная комиссия приезжает и сажает всю верхушку. За пять лет всё возвращается на круги своя, и мы приезжаем снова.
… – Земеля, – сказал блондин, – ты ведь родом отсюда, верно?
– Не совсем, – ответил Саша, прикидывая трассу забега. Брюнеты уже обошли с тыла.
– Ну да, я же говорю, отсюда, – продолжал блондин, – с Земли, поделись с земляками десятью рублями.
«Разминка», – подумал Саша, передавая деньги, и спросил:
– Гранаты у вас есть?
Жители планеты Земля переглянулись, после чего с достоинством удалились. Интересно, какова иммиграционная политика на Луне?



