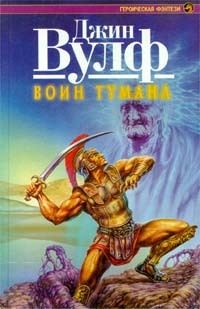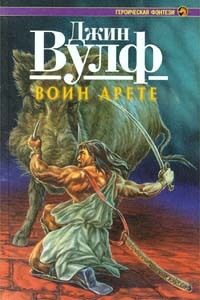Полная версия
Меч и Цитадель
Из только что покинутой нами комнаты донеслись гневные возгласы разбуженных вторжением хозяев хакаля. Дверь распахнулась, однако собравшийся вышвырнуть прочь незваных гостей – должно быть, увидевший блеск «Терминус Эст» – застыл на пороге как вкопанный, изумленно выругался и поспешил удалиться. Почти в тот же миг кто-то пронзительно завизжал, и я понял: огненное создание уже здесь, в хакале.
Стоило отпустить повисшую на мне трактирщицу, та без сил рухнула у моих ног. За окном не обнаружилось ничего обнадеживающего: стена из обмазанного глиной плетня заканчивалась несколькими кубитами ниже, а концы балок, поддерживавших настил пола, наружу из-под нее не выступали. Край крыши, крытой прелой соломой, расползался под пальцами, как паутина. Не успел я ощупать карниз в поисках хоть какой-то опоры, как комната озарилась светом, начисто стершим все краски вокруг, разогнавшим по углам черные, точно сама сажа, точно расщелины в самом мироздании, тени. Что ж, дело ясное: либо вступить в бой и, по примеру димархиев, принять смерть, либо прыгать в окно… и я развернулся лицом к явившейся по мою душу твари.
Тварь еще не переступила порога – маячила невдалеке от дверного проема, снова раскрывшаяся, как там, среди улицы. На каменном полу перед ней распростерся наполовину обглоданный пламенем труп какой-то злосчастной старухи, а огненное создание (в этом я мог бы поклясться) склонилось над жертвой с таким видом, словно внимательно изучает ее. Покрывшиеся волдырями, шипящие, точно жир на сковороде, кожа и плоть старухи распались в прах. Еще миг – и даже кости ее превратились в белесый пепел, а тварь, разметав его лапой, двинулась к нам.
По-моему, во всем мире не было, нет и не будет меча лучше «Терминус Эст», однако в бою с противником, разбившим наголову такое множество кавалеристов, помочь он мне не мог, и посему я, в смутной надежде, что со временем его отыщут и вернут мастеру Палемону, отбросил его в сторону и выхватил из ладанки на груди Коготь.
Пожалуй, с такими же чувствами утопающий хватается за соломинку, однако мне сразу же сделалось ясно: соломинка эта меня не спасет. Каким бы образом неведомое создание ни воспринимало окружающий мир (а судя по его движениям, на Урд оно было практически слепо), самоцвет тварь разглядела немедля и ничуть его не испугалась. Неторопливо, будто ощупью двигавшаяся к дверям, она оживилось, целеустремленно скользнула вперед, достигла порога… а едва миновав его, с грохотом, с треском исчезла, окруженная облаком дыма. Дыра, прожженная ею в хлипком дощатом полу, начинавшемся сразу же за порогом, за краем скального выступа, озарилась снизу сполохами ее бесцветного пламени, сменившимися быстрым чередованием прочих оттенков: сиренево-синий уступил место лиловому, лиловый розовому, и вскоре от всего этого великолепия остались лишь неяркие красноватые отсветы пляшущих язычков огня.
X. Свинец
Поначалу я было подумал, что наверняка провалюсь в зияющую дыру посреди крохотной комнатушки, не успев отыскать «Терминус Эст», а уж тем более – увести содержательницу «Утиного Гнезда» куда-нибудь, где поспокойнее. Затем какое-то время нисколько не сомневался, что сейчас вниз со скалы рухнет все – и стены, и крыша, и проседающий под ногами пол, и мы, разумеется, тоже.
Однако в конце концов мы выбрались из хакаля. На улице не оказалось ни димархиев, ни кого-либо из горожан: очевидно, внимание солдат привлек разгоревшийся внизу пожар, а местные жители, перепуганные, попрятались по домам. Поддерживая трактирщицу на ногах, я, пусть она, не оправившаяся от пережитого ужаса, еще не могла внятно отвечать на вопросы, предоставил ей выбирать путь самой, и не ошибся: она вправду, ни разу не сбившись с дороги, привела нас прямо к «Утиному Гнезду».
Доркас спала. Будить ее я не стал, а просто, не зажигая света, устроился на табурете рядом с кроватью – кроме табурета, теперь там стоял и столик, а на столике как раз нашлось достаточно места для бокала и бутылки вина, прихваченной из общего зала. Вино (уж не знаю, какого сорта) на вкус казалось довольно крепким, однако пилось, словно вода: к тому времени, как Доркас проснулась, я выпил добрую половину бутылки, но выпитое подействовало на меня не более чем полбутылки шербета.
Приподнявшись, Доркас вновь уронила голову на подушку.
– Севериан… Мне следовало сразу догадаться, что это ты.
– Прости, если я тебя напугал, – сказал я. – Пришел посмотреть, как ты тут.
– Ты очень заботлив. Но, кажется, я всякий раз, как ни проснусь, вижу тебя, склонившегося надо мной. – На миг она вновь смежила веки. – А ты сам знаешь, как тихо, совсем неслышно ходишь, даже в сапогах на толстой подошве? Этого люди тоже пугаются.
– Как-то раз ты сказала, что я словно всю ночь пил чью-то кровь, потому что перед тем я ел гранат и мои губы были перепачканы гранатовым соком. Помнишь, как мы над этим смеялись?
(Произошло это в поле, в пределах Несской Стены, когда мы заночевали возле сцены доктора Талоса, а проснувшись, завтракали фруктами, оброненными накануне разбежавшейся публикой.)
– Помню, – ответила Доркас. – Ты, верно, хочешь снова меня рассмешить? Боюсь, засмеяться я больше не смогу никогда.
– Хочешь вина? Досталось задаром, но оказалось не таким скверным, как я ожидал.
– Чтобы развеселиться? Нет. По-моему, пить нужно, когда на душе уже весело. Иначе не найдешь на дне кружки ничего, кроме горькой тоски.
– Однако выпей хотя бы глоток. Хозяйка говорит, ты была нездорова и целый день ничего не ела.
Слегка встряхнув золотистыми волосами, Доркас повернулась ко мне лицом. Видя, что она окончательно проснулась, я отважился зажечь свечу.
– Ты все в тех же одеждах, – сказала Доркас. – Должно быть, перепугал ее до потери разума.
– Нет, она меня вовсе не испугалась. И сейчас льет в кружку все, что под руку подвернется.
– Она была добра ко мне – да и вообще сердце у нее доброе. Не осуждай ее, пусть даже у нее в обычае выпивать посреди ночи.
– Я ее вовсе не осуждаю. Но, может, ты все-таки съешь чего-нибудь? Еда в здешней кухне найдется наверняка. Только скажи, и пожалуйста – все, что захочешь, перед тобой.
На эти слова Доркас откликнулась блеклой улыбкой.
– Что я ни съем, и так целый день… передо мной. Это хозяйка и имела в виду, сказав, что я нездорова. Или она рассказала всю правду как есть? Тошнит меня, стоит хоть что-нибудь проглотить. Наверное, даже запах до сих пор чувствуется, хотя эта бедная женщина из сил выбилась, убирая за мной.
Сделав паузу, Доркас принюхалась:
– А этот запах откуда? Тряпкой горелой пахнет… Должно быть, от свечки… хотя фитиля тебе этим громадным клинком, думаю, не подрезать.
– Наверное, от моего плаща, – предположил я. – Было дело – к огню я сегодня вечером слишком близко придвинулся.
– Я бы попросила открыть окно, но, вижу, оно уже открыто. Боюсь, сквозняк не дает тебе покоя: вон как колеблется пламя свечи. У тебя не кружится голова от этой пляски теней?
– Нет, – отвечал я. – Если прямо на огонек не смотреть, все в порядке.
– А лицо у тебя… будто тебе так же худо, как мне – возле воды.
– Днем я отыскал тебя на берегу, у самой реки.
– Да, помню, – сказала Доркас и замолчала.
Молчание ее длилось так долго, что я испугался, не умолкла ли она навсегда. Что, если патологическая (теперь я в этом нисколько не сомневаюсь) немота, поразившая ее днем, возобновилась, и на сей раз необратимо?
– Я ведь вовсе не ожидал найти тебя там, – наконец сказал я. – Помню, глядел, глядел и все никак глазам не мог поверить, хотя искал именно тебя.
– Меня тошнило, Севериан. Я ведь об этом уже рассказывала, верно?
– Верно, рассказывала.
– А знаешь чем?
Говоря, она не сводила взгляда с низкого потолка, отчего у меня возникло стойкое ощущение, будто там, наверху, – еще один, другой Севериан, добрый сердцем и, может, даже благородный, существующий только в воображении Доркас. Конечно, каждый из нас в минуты самых интимных откровений на самом деле обращается не столько к собеседнику, сколько к некоему его образу, нами же самими и созданному, однако сейчас дела обстояли куда серьезнее: казалось, Доркас продолжит говорить, даже если я выйду за дверь.
– Нет, – отвечал я. – Наверное, водой?
– Пулями от пращи.
– Неприятное, должно быть, ощущение, – отважился заметить я, решив, что слова ее следует понимать в переносном смысле.
Доркас, не поднимая головы с подушки, вновь повернулась ко мне, и я смог разглядеть огромные зрачки ее синих глаз. Исполненные пустоты, они казались парой крохотных призраков.
– Пулями от пращи, Севериан, милый мой. Увесистыми, свинцовыми, в поперечнике примерно с орех, а в длину чуть короче большого пальца, и на каждой отчеканено: «Рази без промаха». С грохотом вывалились они изо рта в ведро, и я, запустив руку в выблеванную вместе с ними мерзкую жижу, вынула их – поглядеть. Женщина, что владеет трактиром, пришла и унесла ведро, но пули я вытерла и сберегла. Их две, и сейчас они в ящике вот этого стола. Хозяйка трактира принесла его, чтоб было куда поставить ужин. Хочешь взглянуть? Выдвини ящик.
Не в силах представить себе, о чем речь, я спросил, не думает ли она, будто кто-то пытался ее отравить.
– Нет, вовсе нет. Выдвини ящик, взгляни. Ты ведь так храбр. Разве не хочешь сам посмотреть?
– Я тебе и без того верю. Если ты говоришь, что в ящике пули, значит, там, несомненно, пули.
– Но ты не веришь, что меня ими стошнило. Ну что ж, тут тебя трудно в чем-либо упрекнуть. Помнишь историю о дочери охотника, благословленной пардалеем так, что, стоило ей сказать слово, с губ ее сыпались бусины гагата? А после ее невестка, жена брата, обманом забрала благословение себе, однако, стоило ей заговорить, с ее губ прыгали жабы? Я ее, помнится, слышала, но всегда думала, что это сказка.
– Как человека может тошнить свинцовыми пулями?
Доркас залилась смехом, однако в смехе том не было ни грана веселья.
– Все очень просто. Проще, пожалуй, некуда. Знаешь, что я сегодня видела? Знаешь, отчего не могла говорить с тобой, когда ты меня отыскал? Я ведь вправду говорить не могла, Севериан, клянусь чем угодно. Знаю, ты думал, будто я просто сердита и потому упрямлюсь, но дело вовсе не в том. Я… я словно бы превратилась в бессловесный камень. Все на свете казалось – да и сейчас, наверное, кажется – сущим пустяком. Хотя в трусости я тебя упрекнула напрасно. Не думай, я в твоей храбрости вовсе не сомневаюсь. Вот только в том, что ты делаешь с несчастными заключенными, по-моему, храбрости нет никакой. А ведь ты так отважно сражался с Агилом и после готов был сразиться с Бальдандерсом, потому что мы думали, будто он собирается убить Иоленту…
Вновь помолчав, Доркас шумно вздохнула:
– Ох, Севериан, как же я устала…
– Об этом – насчет заключенных – я и хотел с тобой поговорить, – сказал я. – Хочу, чтобы ты кое-что понимала, даже если не сможешь простить меня. Все это – мое ремесло. Меня учили ему с раннего детства.
Склонившись к Доркас, я взял ее за руку. Ладонь ее казалась хрупкой, словно крылышко канарейки.
– Да, что-то вроде этого ты уже говорил. Я вправду все понимаю.
– Но не понимаешь другого. Ремеслом этим, Доркас, я владею куда лучше многих. Пытки и казни – это искусство, и у меня есть к нему склонность, природный талант, дар свыше. И этот меч, и все прочие орудия нашего ремесла оживают в моих руках. Оставшись в Цитадели, я мог бы стать мастером, Доркас. Ты меня слушаешь? Для тебя все это хоть что-нибудь значит?
– Да, – отвечала она. – Кое-что значит, да. Вот только пить очень хочется. Если сам пить больше не будешь, налей мне, будь добр, немного вина.
Я так и сделал, из опасений, как бы она не пролила вино на простыни, наполнив бокал не более чем на четверть.
Приняв вино, Доркас села (до тех пор я сомневался, что ей хватит для этого сил), а проглотив последнюю капельку алой жидкости, швырнула бокал за окно. Снаружи донесся звон разбившегося о мостовую стекла.
– Не хочу, чтоб ты пил из него после меня, – пояснила Доркас. – А ты б непременно выпил, оставь я бокал на столе.
– Думаешь, твое недомогание заразно?
– Да, – вновь рассмеявшись, ответила Доркас, – но этой хворью ты уже заражен. С рождения. От матери. Имя ей – Смерть. А вот о том, что я такое сегодня видела, ты, Севериан, так и не спросил.
XI. Десница прошлого
Стоило Доркас сказать: «А вот о том, что я такое сегодня видела, ты, Севериан, так и не спросил», – я осознал, что невольно увожу разговор в сторону от сих материй. Имелось у меня не слишком приятное предчувствие, что, на мой взгляд, ответ окажется совершеннейшим пустяком, однако для Доркас значит очень и очень многое; так умалишенные порой бывают уверены, будто червоточины под корой упавших деревьев есть некие сверхъестественные письмена.
– По-моему, что бы это ни было, тебе о нем лучше не вспоминать, – сказал я.
– Разумеется, лучше бы, да только не выйдет. А было это кресло.
– Кресло?
– Да, старое кресло. И стол, и еще около полудюжины разных вещей. Оказывается, на улице Токарей есть лавка, где продают старую мебель эклектикам и автохтонам, в достаточной мере проникшимся нашей культурой. Источников удовлетворения спроса здесь, в Траксе, нет, и потому ее владелец с сыновьями два-три раза в году отправляется в Несс, в заброшенные кварталы на юге столицы, и там битком набивает барку всякой всячиной. Понимаешь, я говорила с ним, и он обо всем рассказал. Пустующих домов там – десятки тысяч. Некоторые давным-давно обвалились, но некоторые до сих пор целы, как в тот день, когда были брошены хозяевами. Большая часть, конечно, разграблена, однако они до сих пор находят в таких домах серебро, а то и кое-какие драгоценные украшения. Правда, мебели сохранилось не так уж много, но съехавшие хозяева почти всегда что-нибудь да оставляли.
Почувствовав, что Доркас вот-вот расплачется, я подался вперед и погладил ее по голове. Однако Доркас, дав взглядом понять, что ей этого не хочется, вновь, как и прежде, улеглась на кровать.
– Случается, в таких домах вся мебель на месте. Подобные, по словам лавочника, лучше всего. Он полагает, что, когда кварталы пустели, по две-три семьи или даже по два-три человека, живших в одиночестве, оставались. Одни – потому что слишком стары, чтобы сниматься с обжитого места, другие – попросту из упрямства. Я долго об этом думала и не сомневаюсь: должно быть, у некоторых там имелось… нечто такое, с чем они не в силах расстаться. К примеру, могилы близких. Чтоб уберечься от мародеров, они наглухо заколачивали окна, заводили сторожевых псов, а то и зверей пострашнее. Однако в конце концов и эти люди съезжали в другие места… либо жизнь их подходила к концу, а звери, сожрав трупы хозяев, вырывались на волю, и с тех самых пор, до появления этого лавочника с сыновьями, туда не заглядывал никто, даже грабители или падальщики.
– Должно быть, старых кресел там великое множество, – заметил я.
– Да, но не таких. В этом кресле мне оказалась знакома каждая мелочь, вплоть до резьбы на ножках и даже рисунка древесных волокон на подлокотниках. Сколько всего я тогда вспомнила… а после, когда меня стошнило свинцовыми пулями вроде твердых, налитых тяжестью семян, окончательно все поняла. Помнишь ли ты, Севериан, как мы покинули Ботанические Сады? Как втроем с Агией вышли из того громадного остекленного вивария и ты нанял лодку, чтоб нас переправили с острова на берег, а река густо заросла ненюфарами, голубыми цветами среди глянцевых зеленых листьев? Так вот, семена у них точно такие же – твердые, увесистые, темные… а еще я слышала, что они тонут в воде и могут покоиться на дне Гьёлля не одну эпоху. Однако, волею случая оказавшись вблизи от поверхности, они, сколько б им ни было лет, прорастают и вновь украшают реку цветами, целую хилиаду ждавшими своего часа.
– Я тоже об этом слышал, – подтвердил я. – Но для нас-то с тобой все это ничего не значит.
Лежала Доркас, не шевелясь, но голос ее задрожал:
– Какая сила зовет их наверх? Какая? Ты можешь ответить?
– Свет солнца, наверное… Хотя нет, ответа я не знаю.
– А солнечный свет исходит только от солнца?
Да, тут я понял, к чему она клонит, но согласиться с ней отчего-то не мог.
– Переправляя нас через Птичье Озеро, тот человек – Хильдегрин, тот самый, с кем мы встретились во второй раз на крыше гробницы посреди руин каменного городища, – поминал о миллионах умерших, покойников, чьи тела похоронены там, в воде. Что удерживает их на дне, Севериан? Сами по себе мертвые тела всплывали бы на поверхность. Чем их утяжеляют? Я не знаю… а ты?
А вот я это знал.
– Свинцовую дробь сыплют в желудок сквозь горло.
– Я так и думала. – Голос Доркас звучал так слабо, что был едва слышен даже в крохотной тихой комнатке. – Нет, не думала – знала. Поняла, как только увидела их.
– Думаешь, Коготь… вернул тебя назад?
Доркас кивнула.
– Действительно, иногда он творил нечто подобное. Но только если я вынимал его, да и то не всегда. А когда ты тащила меня из воды в Саду Непробудного Сна, он лежал в ташке, и я о нем даже не подозревал.
– Севериан, однажды ты позволил мне подержать его. Можно взглянуть на него еще раз?
Я вынул камень из мягкой замшевой ладанки и поднял кверху. Голубое сияние самоцвета словно дремало, но я отчетливо видел в его середине хищно изогнутый крюк, в честь коего он и был наречен Когтем. Доркас потянулась к нему, но я, вспомнив судьбу винного бокала, отрицательно покачал головой.
– Думаешь, я хочу сделать с ним что-то дурное? Нет, не хочу. Это ведь святотатство.
– Если ты веришь собственным словам – а по-моему, ты вправду так и считаешь, – то наверняка ненавидишь Коготь, пробудивший тебя…
– …от смерти. – Вновь устремившая взгляд в потолок, Доркас заулыбалась, словно делясь с ним каким-то интимным, до смешного нелепым секретом. – Не стесняйся, говори прямо. Вреда тебе это никакого не причинит.
– От сна, – поправил ее я. – Поскольку какая же это смерть? Если уж человека можно взять да вернуть назад, это вовсе не смерть – не смерть в нашем с тобой понимании, не то, что приходит на ум, когда мы говорим «смерть». Хотя, должен признаться, поверить, будто Миротворец, умерший многие тысячи лет назад, стал бы поднимать кого-либо из мертвых при помощи этого камня, мне не по силам.
Доркас не отвечала. Вполне возможно, она вовсе меня не слушала.
– Ты вспомнила, как Хильдегрин, – продолжал я, – вез нас на лодке через озеро, за цветком аверна. А помнишь, что он говорил о смерти? Что смерть будто бы с птицами в доброй дружбе. Возможно, нам еще в тот день следовало понять, что подобная смерть не может быть смертью, какой мы ее представляем.
– А если я скажу, что верю во все это, ты позволишь мне подержать Коготь?
Я вновь отрицательно покачал головой.
Смотрела Доркас по-прежнему не на меня, но, должно быть, заметила движение моей тени, а может, тот, воображаемый ею Севериан на потолке попросту тоже покачал головой.
– Ну что ж, ты прав – я в самом деле собиралась уничтожить его, если получится. Знаешь, что я действительно думаю? По-моему, я была мертвой – не спящей, мертвой. Вся моя жизнь миновала долгое-долгое время тому назад, когда мы с мужем жили над крохотной лавкой и растили ребенка. А твой Миротворец, явившийся к нам в незапамятные времена, – авантюрист, искатель приключений, принадлежавший к одной из древних рас и переживший всеобщую гибель. – Пальцы ее крепко стиснули край одеяла. – Скажи, Севериан, не его ли нарекут Новым Солнцем, когда он явится снова? Не к этому ли все идет? А еще я считаю, что, явившись к нам, он принес с собой нечто, обладающее той же властью над временем, какой зеркала Отца Инире будто бы обладают над расстоянием. То есть твой самоцвет.
Умолкнув, Доркас повернулась ко мне, одарила меня воинственным взглядом и, видя, что я молчу, продолжила:
– Того улана ты, Севериан, вернул к жизни, потому что Коготь искривил для него время, отправив его в тот момент, когда он еще был жив. А наполовину заживил раны друга, потому что камень приблизил момент их заживления. А когда свалился в болото в Саду Непробудного Сна, камень, должно быть, коснулся меня или оказался совсем рядом со мной, и для меня настало время, в котором была жива я, и потому я снова жива. Но ведь я умерла. Умерла, и мой сморщенный труп долгое-долгое время лежал на дне, а бурые воды не дали ему истлеть. И что-то во мне мертво до сих пор.
– Нечто мертвое, изначально мертвое, имеется в каждом из нас, – заметил я. – Хотя бы память о том, что каждому в свое время предстоит умереть. Об этом ведь знают все, кроме самых маленьких ребятишек.
– Мне нужно вернуться назад, Севериан. Об этом и весь разговор. Вернуться и разузнать, кем я была, где жила и что со мною стряслось. Конечно же, ты пойти со мной не сможешь…
Я ответил согласным кивком.
– Да я об этом и не прошу. И даже не хочу этого. Я люблю тебя, но ведь ты – тоже смерть, еще одна смерть, смерть, оставшаяся при мне, подружившаяся со мной, как та, прежняя смерть, в озере, но все равно смерть. Не хочется, знаешь ли, брать с собой смерть, отправляясь на поиски собственной жизни.
– Я тебя понимаю, – сказал я.
– Может статься, мой малыш еще жив – состарился, разумеется, но еще жив. Мне и об этом знать нужно.
– Да, – согласился я, однако, не удержавшись, добавил: – А ведь было время, ты говорила, что я вовсе не смерть и не должен, идя на поводу чужих мнений, считать себя ею. За тем самым фруктовым садиком, на землях Обители Абсолюта. Помнишь?
– Но для меня ты был смертью, – возразила Доркас. – Я, если хочешь, сама угодила в ловушку, о которой предупреждала тебя. Возможно, ты и не смерть, но останешься тем, кто ты есть – палачом и казнедеем, и руки твои вечно будут обагрены кровью. И… да, раз уж ты так хорошо помнишь те дни в Обители Абсолюта, быть может… Нет, не выговорить. Но сделал это со мной не ты. Миротворец, а может, Коготь, а может, Предвечный, однако не ты.
– Так в чем дело? – спросил я.
– После уже, на той самой прогалинке, доктор Талос вручил нам обоим деньги. Деньги, полученные от какого-то придворного чиновника за представление пьесы. По пути в Тракс я все отдала тебе. А теперь хочу получить обратно. Мне они очень нужны. Если не все, то хоть часть.
Я вывалил на стол все деньги, лежавшие в ташке, – не меньше, чем получил от Доркас, а то и чуточку больше.
– Спасибо, – сказала она. – А тебе они не понадобятся?
– Тебе будут гораздо нужнее. Вдобавок они ведь твои.
– Отправлюсь в путь завтра же, если сил хватит. А уж послезавтра – в любом случае, как бы себя ни чувствовала. Как часто из Тракса уходят лодки к низовьям, ты, наверное, не знаешь?
– От тебя все зависит. Главное, лодку от берега оттолкни, а там, по течению, она сама к низовьям пойдет.
– А вот это на тебя, Севериан, как-то не слишком похоже. Скорее в такой манере мог бы ответить твой друг, Иона, судя по тому, что ты о нем рассказывал. Кстати, вот о чем еще твоя шутка напомнила: ты не первый сегодня ко мне заглянул. Здесь был еще наш – или, по крайней мере, твой – друг, Гефор. По-твоему, не смешно? Прости, я только хотела сменить предмет разговора.
– Гефор наслаждается всем этим. Ему на меня глядеть в радость.
– Когда ты работаешь на публике, тобой любуются тысячи человек, да и тебе самому работа, я вижу, нравится.
– Они приходят затем, чтобы как следует натерпеться страху, а после искренне радоваться тому, что сами живы. Еще им нравится общее возбуждение, тревожное ожидание, неизвестность – не «сломается» ли приговоренный, не стрясется ли какой-нибудь жуткой неожиданности. Мне радость приносит собственное мастерство – единственное ремесло, которому я обучен; я радуюсь безукоризненно выполненной работе, а вот Гефор… Гефору нужно нечто другое.
– Чужая боль?
– Да, именно, но не только.
– Знаешь, ведь он преклоняется перед тобой, – сказала Доркас. – Поговорил со мной всего-то пару минут, но я нисколько не сомневаюсь: по твоему повелению этот Гефор пойдет хоть в огонь.
Должно быть, тут я невольно поморщился, так как Доркас продолжила:
– Вижу, от разговоров о нем тебе дурно становится? Нет уж, хватит с нас и моих злосчастий. Давай о другом лучше поговорим.
– Нет-нет, моим злосчастьям до твоих далеко. Дело в том, что Гефора я способен представить себе только таким, каким видел его однажды, стоя на эшафоте: рот разинут, а глаза…
Доркас тревожно поежилась:
– Да уж, глаза… я их сегодня видела. Глаза его мертвы, хотя, наверное, не мне бы так о других говорить. Взгляд – что у трупа. Никак не избавиться от ощущения, будто, если потрогать, они окажутся сухи, словно камни, и даже не дрогнут под пальцем.
– Вовсе нет, вовсе нет. В Сальте, когда я взглянул вниз с эшафота и увидел его, глаза Гефора просто-таки плясали. По-твоему, глаза Гефора – чаще всего тусклые – похожи на глаза трупа… но разве ты никогда не смотрелась в зеркало? Твои глаза на глаза умершей уж точно совсем не походят.