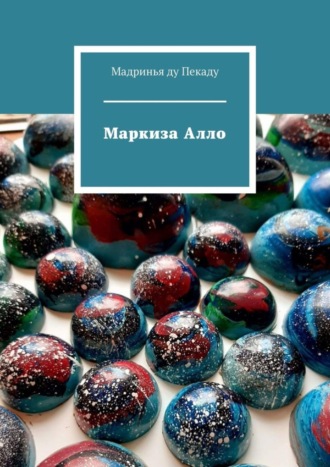
Полная версия
Маркиза Алло
– Но анонима до конца я так и не вычислил, хотя подозрения были. Брошь с русалкой на пирамиду швырнула Полина, злясь на то, что Старая Дева ударила кинжалом Родиона Марковича, и думая, что преступница жизнью поплатится за свое злодеяние. Так что я здесь ни при чем!
– Неважно. К этому все шло. Если бы ты не рассказал присутствующим дамам про делишки Старой Девы, Полина не вскипела бы праведным гневом. Так что от лаврового венка спасителя женщин из ада тебе никак не отвертеться.
– Да, да… – вполголоса проворчал Зэ, так, чтобы Татьяна не услышала. – В этом мире от женщин из ада никуда не деться!
– Когда Иван Игнатьевич спросил меня, в чем ты разбираешься, – продолжала девушка, – я ничего не нашла лучше, чем ляпнуть, что ты разбираешься в вине. Он рассмеялся, сказав, что у каждого нормального мужика игрек-хромосома замотана цепочкой ДНК с данными природного сомелье. А потом задумался и сказал, чтобы я тебе поручила выяснить, как португальское зеленое вино оказалось в русских былинах. В тот же вечер я тебе и написала…
– Да, домашнее задание меня озадачило. На первый взгляд, никаких точек соприкосновения… Подожди, дойду до машины, возьму тетрадку с записями. Пока закажи горячие блюда. Мне то же, что и себе. И хлеба обязательно. Черного хлеба у них все равно нет, хотя бы белого.
Пока Зэ ходил к машине за тетрадью, Татьяна быстро достала зеркальце из косметички, критически осмотрела себя, пару раз нахмурилась, затем поправила челку и так же быстро его спрятала. К возвращению приятеля она приняла безмятежный вид и сидела как ни в чем не бывало, и догадаться, какой из прыщиков ее больше беспокоил, было невозможно. Зэ раскрыл тетрадь, исписанную неровным почерком.
– Так, смотрим. Я взял книгу Путилова Б. Н. «Былины», вышедшую в издательстве «Советский писатель» в тысяча девятьсот восемьдесят шестом году. Там ребята серьезные, просто так бумагу переводить не будут. В книге больше пятисот страниц. Сделал выписки, зеленое вино упоминается пятьдесят один раз, то есть в среднем каждые десять страниц повествования. Картина получилась пестрая.
Первое, что бросилось в глаза, – зеленое вино можно разводить стоялыми медами:
Второе, зеленое вино было в свободном доступе в кабаках, и пили его большими дозами и по несколько дней:
Или еще цитата:
И в другом месте:
Третье, зеленое вино могли смешивать с другими напитками:
Четвертое, иноверцы тоже его употребляли в большом количестве:
Пятое, зеленое вино пили в семейном кругу с женами, то есть винопитие не являлось уделом одних добрых молодцев:
Шестое, зеленое вино было повсеместно распространено, а не только в Киеве:
Седьмое, в зеленое вино клали яд, чтобы травить соперника:
Восьмое, зеленое вино могли использовать для отторжения или оскорбления:
Или для передачи скрытого послания:
И, наконец, девятое, после выхода из могилы зеленое вино было верным средством вернуть утраченное веселье:
При словах о лебеди белой, королевичне, Татьяна густо покраснела, сама не зная почему, но потом взяла себя в руки и сказала:
– Получается, что зеленое вино было широко распространено, не считалось заморским, то есть производилось здесь же, и для славян не было чем-то экзотическим.
– Верно. Производилось везде, где жили славяне. Кстати, у Тургенева есть упоминание о зеленом вине как о факте старой русской традиции, не подвергающейся сомнению. Вот цитата из «Записок охотника»: Как тебе «стакан зеленого вина» в качестве обязательного атрибута, которым принято сопровождать пожелание здоровья барину? «Даже, бывало, в праздничные дни, дни всеобщего жалования и угощения хлебом-солью, гречишными пирогами и зеленым вином, по старинному русскому обычаю, – даже и в эти дни Степушка не являлся к выставленным столам и бочкам, не кланялся, не подходил к барской руке, не выпивал духом стакан под господским взглядом и за господское здоровье».
У Трефолева, поэта второй половины девятнадцатого века, в стихотворении «Песня о комаринском мужике» есть упоминание о зеленом вине:
Татьяна с пониманием покивала головой.
– Кстати, не заказать ли нам бутылочку зеленого вина? Сеньор, будьте добры, два бокала и бутылку «Муральяш да Монсау». Спасибо.
– Какого зелена вина?
– На севере Португалии до сих пор производят зеленое вино. Оно так и называется – винью верде.
– Ты сказал «до сих пор»?
– Это я оговорился.
– Нет, это оговорка по Фрейду! Ты связал зелено вино из русских былин и последующих упоминаний в литературе и португальское зеленое вино.
– Получается, что связал. Винью верде в ряду производимых в стране хороших вин стоит особняком. Дело в том, что лоза, на которой растет виноград, не совсем обычная. Это более древний сорт, не похожий на раскоряченные лозы обычных сортов. Он похож на лианы, которые вырастают до десяти метров высотой. При этом, скажем прямо, климат на севере Португалии отнюдь не средиземноморский. Бывают морозы до двадцати градусов, снег лежит неделями. Лоза зеленого винограда выдерживает такие холода и не вымерзает.
– А чем оно отличается от белого вина?
– Естественной газификацией и легкостью. Белые вина тяжелые, бывает, после них болит голова. После зеленого вина такого не бывает. А естественная газификация проявляется в том, что на стенках бокала при правильном охлаждении появляются мелкие пузырьки. Причем, заметь, в Португалии нет химической промышленности, поэтому соды или дрожжей в вино никто не добавляет.
– А на юге Португалии такая лоза растет?
– Нет. На юге растут традиционные сорта, распространенные по всей Европе. Это моя догадка, но, думаю, она верна: до включения земель лузитан в состав Римской империи по всей стране местные жители выращивали лозы винограда винью верде. Римляне принесли свою культуру, в том числе и привычные для Италии теплолюбивые лозы. На юге Португалии они прижились, а на севере вымерзали, поэтому на севере страны сохранились более древние виды, а на юге – обычные, европейские.
– Ты хочешь сказать, что лузитане пили только зеленое вино и не знали красного?
– Знали: зеленое вино бывает зеленым-зеленым, а бывает зелено-красным.
Татьяна рассмеялась.
– Что за абракадабра?
Зэ пояснил:
– Если перестать соотносить слово «зеленый» с цветом, а оставить его в привязке к сорту, то есть к касте винограда, тогда станет понятно, что из белого винограда касты винью верде готовится зеленое вино, а из красного – красное зеленое вино. Оно также подвержено естественной газификации, поэтому на языке чувствуется легкая шипучка. Пьют красное-зеленое, в отличие от зеленого-зеленого, теплым, то есть комнатной температуры. И вот что любопытно. В деревнях на севере страны красное зеленое вино пьют не бокалами, а чашами, а иногда и общую большую чашу пускают за столом по кругу.
Татьяна вытаращила глаза, до конца не веря тому, что услышала от Зэ. Потом задумчиво подняла бокал вина и, глядя на мелкие пузырьки на стенке, спросила:
– Ты пришел к такому же выводу, что и я, правда?
Зэ кивнул. Таня продолжила:
– Или славяне жили в Лузитании до прихода римлян, или лозы винограда, из которого производили зеленое вино, выращивали на Руси под Киевом.
– Или и то и другое верно, только в разное время. До второго века, пока не пришли римляне, в Лузитании жили славяне, а до двенадцатого века Южная Русь богата была не только полями с рожью, но и виноградниками. Виноградники сильно пострадали во время походов монголов на Южную Русь. Землю обезлюдели, навыки выращивания винограда оказались невостребованы, так как приходилось выживать и бороться за хлеб насущный.
Татьяна наморщила лоб, что делало выражение ее лица особенно милым.
– Но это же все объясняет!
– Что объясняет?
– Зэ, помнишь, мы возвращались с Серра-да-Эштрела после приключений в замке?
– Ну да.
– Кое-где на дороге встречались заброшенные деревни, большей частью каменные, но были и старые деревянные дома. Меня тогда сильно удивило, что на окнах деревянных домов виднелись остатки наличников, а балки под стропилами были украшены резными полотенцами. Тогда я подумала, что мне все это мерещится после пережитого страха, а теперь понимаю, не померещилось.
– Заброшенные деревни, скорее всего, относятся к пятнадцатому-шестнадцатому веку. Тогда в Португалии возник кризис перенаселения, люди были вынуждены селиться на каменистых холмах Серра-да-Эштрела. Так что это не славяне.
– Традиции могли остаться, и уже «не славяне» продолжали украшать окна резными наличниками, а на крышу ставить резного коня.
Теперь задумался Зэ.
– Когда мы были в замке, мне приснился странный сон. Я запомнил его, хотя ничего толком в нем не понял. Там тоже был конь, небольшой, дикий, мохнатый. И звали его Сивка-Бурка…
Говорит тут Соловей-разбойничек:«Ай же ты, старый казак Илья Муромец!Ты налей-ка мне чашу зелена вина,Не малую стопу – в полтора ведра.Разведи ее медами все стоялыми,Поднеси-тка мне да Соловью-разбойничку».Не ходи-тко ты, Добрыня, на царев кабак,Не пей-ка ты допьяна зелена вина.И пошли-де они тут по городу,И по тем же по большим царевым кабакам,Они пьют зелено вино, вино безденежно…Они пили-де там да зелено вино,Они пили-де там да трои суточки.И тогда взял он с Чурила пятьсот рублей,Да купил на пятьсот рублей зелена вина,. Да напоил он голей кабацких всех до пьянаА наливает ему чару зелена вина,А наливает-то ему другую пива пьяного,А наливает-то он третью меду сладкого,А слил-то он эти чары в едино место, —Стала мерой эта чара полтора ведра,Стала весом эта чара полтора пуда.А принимал-то Василий единой рукой,Выпивает-то Василий на единый дух. Ауж ты ой есть, царищо ты Баканищо! А много ли к выти хлеба-соли ешь,Хлеба-соли ешь да пива с медом пьешь?– Ем я по три печи хлеба-то печеного,По три туши мяса-то вареного,И по три бочки-де я да зелена вина.Повернулась эта лань да златорогаяВ человеческий она образ.Он брал тут, Михайла Потык сын Иванович,За белы руки да за златы перстни,Целовал ее тут в уста да во сахарны,Отвозил ее тут во Киев-град.Принимали тут оны закон да ведь супружеский,Стал он жить-то с ней да на весельице.Напиваться зелена вина он допьяна.У Владимира-де все, а не по-нашему.Как у нас-то в городе Галиче,У моей-то сударыни матушки,Да глубокие были погребы,Сорока-де сажён в землю вкопаны:. Зелено вино на цепях висит на серебряныхНаливала Марья зелена вина,Зелена вина да полтора ведра,Полагала туда зелья лютого…Еще в ту пору Офимья, Чусова жона,Приняла у ей чару зелена вина.Сама вылила ей да на белы груди.«Пей ты чару зелена вина.Если хочешь ты видать да добра старого,Выпивай-ка эту чару ты до донышка;А если пьешь до дна – узнаешь добра,А не пьешь до дна – не видать добра».Взяла княгиня обрученная,Взяла чару во белу руку,Выпивала эту чару да в единый дух…Выпивала чару тут до донышка,Увидала там злачён перстень,Каковым перстнем да обручалися.Приходили тут они ко этой могилы ко кладбищу,Желтый песок они тут рассыпали.Снимали-то с этой гробницы покров-то верхний.Выходит тут Михайла Потык, сын Иванович,Со сырой земли,За собой ведет свою любиму семью,Молоду-то Марью, лебедь белу, королевичну,Приходит он в свой во Киев-град,Стал он жить по-прежнему,Напиваться зелена вина он допьяна…Двадцать девять дней бывает в феврале,В день последний спят Касьяны на земле.В этот день для них зеленое вино,Уж особенно пьяно, пьяно, пьяно…Глава IV. Пакости с картиной и неожиданный отпуск
Когда содержимое нового кувшина подошло к концу, Петр Иванович посмотрел на часы и начал рыться в портфеле, с которым никогда не расставался, периодически извлекая из него желтые конверты разных размеров с характерным красным кружочком, на который наматывалась нитка, фиксирующая клапан. Наконец дипломат нашел мобильный телефон и набрал номер консульства.
– Алло, Лидия Игоревна? Начинайте без меня, я скоро подойду.
Завершив разговор, он убрал телефон в портфель и, обратившись к собеседнику, предложил очередной тост: «За мир, дружбу и консульскую службу», – который, естественно, с удовольствием был поддержан собеседником. Но слова про службу вернули дипломата к суровым реалиям, и он, как бы очнувшись от полуденного сна, навеянного сказками о плавно текущей реке с красивым именем, подозрительно посмотрел на Лариона Ахметовича.
– Слушай, Ларион Ахметович, – сказал консул, – давай начистоту? Тебе справка нужна или документы на обмен паспорта сдать?
Сокувшинник, если можно образовать новое слово по аналогии с «собутыльником» и «соотечественником», вперил затуманенные глаза в Петра Ивановича. Затем его взор прояснился, и он выдал:
– Ничего не нужно. Я предупредить хотел о готовящейся пакости.
– Пакости? Какой пакости?
– Пакости с картиной Брюллова, Карла Брюллова.
Заведующий консульским отделом вздрогнул. Последние полгода консульский отдел посольства занимался вопросом возвращения на родину картины Карла Брюллова, которую великий мастер написал на Мадейре, когда лечился от туберкулеза, а за неимением средств оставил ее лечащему врачу в качестве вознаграждения. В то время так поступали многие художники, стесненные в средствах. Картина осталась в семье доктора, и почти через двести лет очередной наследник предложил посольству ее выкупить за приличные деньги.
Рассказа о трудностях, с которыми столкнулось посольство, с лихвой хватило бы на целый роман. Страхи родственников, что их обманут при расчетах, сменялись требованиями экспертов Третьяковской галереи предоставить картину на экспертизу; письмо президенту с просьбой помочь в выделении средств – бесконечной перепиской с Минфином («А куда вам столько наличных денег? Давайте по безналичному расчету? Так проще»), претензии адвокатов (не все наследники еще оповещены, в том числе и дальние родственники самого Брюллова), условия таможенной португальской службы (на вывоз культурных ценностей требуется специальное разрешение) и так далее и тому подобное.
Когда все сложности были преодолены, деньги уплачены и оставалось только забрать картину, выяснилось, что поехать в город Брагу, где находилась картина, некому: Родион Маркович некстати попал в больницу, а самого консула текущие дела заставляли неотлучно находиться в консульстве.
Петр Иванович опять достал из портфеля телефон, на этот раз быстрее, и позвонил в консульство:
– Алло, Лидия Игоревна? Сложные случаи отправляйте на завтра, экстренные – на сегодня, после шести. Я задерживаюсь. Оказываю помощь российскому гражданину. Хорошо, если смогу раньше, подъеду.
Наклонившись над столом в сторону собеседника, дипломат негромко сказал:
– Теперь я весь внимание. Рассказывай, любезный друг, Ларион Ахметович, прошу.
– На прошлой неделе я ужинал в ресторане на цепях в Лоуреше, это пригород Лиссабона, – начал свой рассказ инженер. – Ресторан так называется, потому что столы для посетителей подвешены к потолку на цепях. Создана атмосфера пиратского корабля. Многочисленные свечи вставлены в горлышки пустых бутылок. На входе в клетке – большой говорящий ара белого цвета. На стенах – картины с кораблями и картами. Морская символика везде, куда ни бросишь взгляд: штурвалы, колокола, даже ржавый якорь в углу. В общем, не зря дизайнеру деньги заплатили. Я сидел там, пил пиво, и мне представилась картина: сейчас откроется дверь и войдут пираты, которые начнут хвастаться друг перед другом удачным разбоем или, склонившись над пивными кружками, строить зловещие планы. И что вы думаете?! Входят двое, заказывают кружки с пивом и по-русски начинают обсуждать коварный план. Я бы, может, и не стал прислушиваться, но один из них, коренастый невысокий мужчина, к сожалению, подробно описать не смогу, так как свечное освещение давало полумрак, очень интересно рассказывал о себе. Для меня примерить на себя одежку другого – любимое развлечение. Поэтому я весь превратился в слух, и даже поскрипывание цепей мне не мешало. Говорил этот любопытный субъект следующее: «Тебе, Алексей, никогда не понять, что значит тяга к культуре. Это нужно пережить, пропустить через себя, продраться корнями сквозь плотную глину… Нас, братьев, было пятеро. Погодки, которые росли крепкими, но не сильно мытыми: летом – речка, зимой – баня раз в две недели. Человек из самой обшарпанной московской хрущевки – король по сравнению с любым жителем моей деревни, а тем более с нашей семьей…»
Петр Иванович, слушавший до этого момента внимательно, заерзал на стуле и прервал сокувшинника.
– Ларион Ахметович, у вас великолепный слух и прекрасная память, но хотелось бы услышать про картину. Про трудности жизненного пути одного из «пиратов» – это красиво, захватывающе, но не так важно. Про Брюллова, пожалуйста, про картину…
– Простите, отклонился от темы. Живописный рассказ этого человека так поразил мое воображение, что в первые дни я пересказывал его самому себе и получал от этого удовольствие. Про картину… Этот человек с ремнем, будем так его называть, говорил второму, который был в красной бейсболке и которого он называл Алексеем: «Твоя задача, Алексей, простая: только подстраховать меня. Ты португальским языком хорошо владеешь, а я не очень. Работы на четверть часа, и Карл Брюллов составит нам компанию, то есть будет третьим. А на троих, ты знаешь, разливается всегда хорошо. Я знаю, кому продать картину, и вот тогда, с деньжатами, начнется совсем другая жизнь. Имея средства, я никогда не вернусь в деревню, и закончится кошмар, преследующий меня всю жизнь».
– А конкретно? Что конкретно он говорил Алексею?
– Не знаю. В детали он не вдавался. Сказал только, что они приступают к делу через неделю.
– Через неделю… – Петр Иванович лихорадочно соображал, кого бы можно было послать за картиной, пока с ней ничего не случилось. – Через неделю – это хорошо. У нас есть время.
Вдруг заведующий консульским отделом боковым зрением увидел что-то знакомое. Его глаза рассмотрели в углу зала Зэ, который точил лясы с девушкой и, насколько он мог слышать, рассказывал ей про Конька-Горбунка. План, гениальный в своей простоте, родился в голове Петра Ивановича мгновенно. Он извинился перед Ларионом Ахметовичем, подошел к столику, за которым сидели Зэ и Татьяна, поздоровался и как бы между прочим спросил:
– Зэ, ты, часом, не собирался брать отпуск за свой счет?
Зэ сразу сообразил, куда клонит Петр Иванович. Бросив быстрый взгляд на Татьяну, он ответил:
– Да, собирался подойти к Якову Терентьевичу с просьбой, так сказать, по семейным обстоятельствам.
Тане, услышавшей слова приятеля, пришлось опять покраснеть.
– Планируете попутешествовать? – лукаво обратился Петр Иванович к обоим.
Зэ кивнул. Таня опустила голову.
– А если я вам сделаю подарок? Договорюсь с Яковом Терентьевичем, чтобы он дал команду в бухгалтерию оформить тебе короткую командировку на три недели и разрешил ехать на посольской машине с оплатой бензина…
– Продолжайте, – по-барски сказал водитель.
– Нужно будет заехать в Брагу, забрать картину для посла, – быстро сказал Петр Иванович.
– До Браги можно доехать за один день, – заметил Зэ.
– Прекрасно, значит, оставшиеся двадцать суток и есть мой подарок…
– Зэ, это же замечательно! Это все упрощает, – не выдержала Татьяна.
– Чего хочет женщина, того желает Бог, – философски заключил Зэ, продолжая искать подвох в словах консула. – Когда можно выдвигаться, Петр Иванович?
– Завтра с утра. Только, пожалуйста, заберите картину на этой неделе, это очень важно.
– В принципе, ничего сложного. Мы навестим Родиона Марковича по дороге и сразу направимся в Брагу.
– Вы едете в Брагу? – К их столику с извинениями и вросшим в кисть глиняным стаканчиком подошел Ларион Ахметович, уставший ждать святого Петра за столиком. – Пардон, а не могли бы взять меня с собой?
Петр Иванович осуждающе посмотрел на сокувшинника. Перехватив недобрый взгляд заведующего консульским отделом, Ларион Ахметович нахально сказал:
– Да, вспомнил! Перевод мне все-таки нужен: знакомый попросил, когда узнал, что еду в Лиссабон. Вы, Петр Иванович, обещали посодействовать в получении документа… без очереди!
Глава V. В Синтре
Татьяна сказала, что забронировала номер в отеле в Синтре, небольшом городке в тридцати километрах от столицы, летней резиденции португальских королей. Зэ сначала подумал, что в Лиссабоне на пике туристического сезона переполнены гостиницы, а потом сообразил, что девушка решила польстить самолюбию и переночевать в гостинице, в которой жил сам лорд Байрон.
Насколько мы все-таки подвержены страсти прикоснуться к великому! Кумиры нас манят, создают центры притяжения, перерастающие в святые места. Заставляют нас думать, что одним касанием ручки двери, которую когда-то открывала рука гения, мы чуточку сами становимся гениями. Что на нас снизойдет вдохновение, которое окутывало чудесным покрывалом в моменты высочайшего вдохновения. Что, видя живописный склон или водопад, который созерцал мастер, сможем понять, как ему удалось создать шедевр, а может, даже и повторить на холсте, если владеем кистью и мастихином. Или, покусывая гусиное перо, набросать строки, пришедшие в голову Байрону:
Картина открывается привлекательная, но если быть откровенным до конца, то англичанин Джордж Байрон не удержался, описывая красоты Синтры, от выпада в адрес португальцев, попеняв им за неправильный образ жизни. Не будем судить его строго, ведь поэты импульсивны, а англичане, даже если они и служат музам, остаются снобами. Назвав португальцев презренными рабами, Байрон не хотел их обидеть, он просто показал, что переживает за них…
Комната была уютной и даже, если так можно выразиться, лубочной. Деревянные окна выходили в небольшой парк с кустами роз. Клетчатый плед, свернутый в рулон, лежал на плетеном кресле-качалке, поставленном с таким расчетом, чтобы, сидя в нем, можно было любоваться цветами. На стенах висели гравюры с видами Португалии в скромных желтых рамках. Мебель несла отпечаток второй сотни лет, не сильно отмеченный за эти годы ремонтами. Если что-то в обстановке и изменилось со времен Байрона, то немного.
Зэ аккуратно поставил чемодан у кровати. На него положил пакет, который ему передал консул. В пакете была стопка одинаковых желтых конвертов с боковым клапаном, закрывающимся тонким шнуром на красный картонный кружочек.
Зэ никак не мог привыкнуть к единообразию писчебумажных принадлежностей в этой маленькой стране, где один небольшой заводик полностью обеспечивал одинаковыми конвертами все учреждения и граждан. Петр Иванович не успел подписать конверты и, отдавая пачку в руки Зэ, дал следующее наставление: «Здесь несколько мелких поручений, которые нужно выполнить по дороге. Все населенные пункты расположены по пути на Брагу с небольшими отклонениями. Также доверенность на полномочного представителя посольства на получение картины Карла Брюллова. Размером произведение искусства небольшое, поместится в багажник автомобиля. Не мне тебя учить, как перевозить ценные предметы. Главное – сверху ничего тяжелого на творение великого художника не клади. И обратно, когда поедешь, держи курс сразу домой, никуда не заезжай, чтобы, не дай бог, где-нибудь не вытащили, приняв вас за зазевавшихся туристов. Да, еще, на всякий случай: остерегайся человека по имени Алексей в красной бейсболке, который может появиться в паре вместе с мужланом, не расстающимся с кожаным ремнем. Будь внимательнее, посматривай по сторонам!»
С поручениями Зэ ознакомился мельком за пару минут. Больше времени ушло на разматывание и заматывание обратно шнуров на клапанах.
Маршрут, проложенный на карте, показывал, что через два дня, если не будет никаких задержек, они должны добраться до Браги. По дороге можно будет что-нибудь купить на гостинцы для Родиона Марковича. Зэ перебирал в голове различные варианты подарков: от апельсинов и яблок до бутылки мадейры.
От размышлений его отвлекла Татьяна, которая уже давно расположилась в кресле и с интересом что-то рассматривала на потолке. Зэ посмотрел на Татьяну внимательно и улыбнулся:
– По твоим хитрым глазам я вижу, что у тебя есть план, и, зная тебя, могу предположить, что он продуманный.
– Да, у меня есть телефон Старой Девы. Перед отъездом с Серра-да-Эштрела обменялись. Я ей позвонила из Москвы, мы договорились встретиться сегодня в восемь вечера в усадьбе под названием Кинта да Регалейра, здесь, в Синтре.

