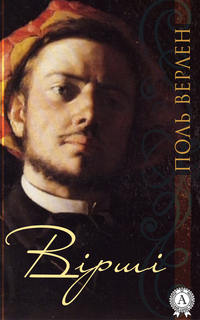Полная версия
Записки вдовца
Как бы то ни было, вот она, моя собака.
Я живу очень высоко, я, видите ли, несколько горд, в комнате, окно которой выходит прямо против самой многолюдной улицы Овернского Парижа.
На этой улице, как раз посреди мостовой, где каждое мгновение сломя голову проносятся омнибусы, по десятку телег в минуту и по тысячи фиакров в час, расположился великолепный ньюфаундленд, черный, как ворон, и дерзкий, как он, но без его кровожадности, отдыхающий там, как лаццарони, и повелевающий, как Дон-Жуан. Его любовные страсти и его дремота благоволят порой заметить, что есть колеса и существуют лошади, но это лишь в крайнем случае, – и телеги, и омнибусы, фиакры сворачивают чаще, чем он себя беспокоит.
Некоторые ревнивцы, подчас одного с ним роста, а он внушителен, пытаются, правда, потревожить его при вспышках его ненасытимого пламени, но тщетно: короткий лай обращает их в бегство. И когда жестокая удовлетворенная природа удерживает его в обычном положении «спина к спине» у предмета минутной любви, то его налившиеся кровью глаза, крепкие зубы и к тому же рычание, о котором довольно упомянуть, собирают около них широкий круг подмастерьев и посыльных мальчишек.
Один мой приятель, поэт, возвращаясь из соседней молочной с несколько большим желанием поесть, чем перед этим, всякий раз восклицает, циник: «Кто из нас мог бы сделать то же на его месте?»
Отречение или мой поселок
Ничего нет прекраснее.
Там есть бегущая вода, не слишком редко разбросанная деревья, в которых поют соловьи.
Крошечные домики в больших цветущих садах, окаймленных живыми изгородями, полными гнезд.
Женщины охотно зовут себя Базили, Азельмой, Бенжаминой, даже Лодоиской, и доступны.
Что касается мужчин, слишком больших пьяниц и порядочных негодяев – три четверти из них Теодульфы, Рафаэли и даже доходят до Памфила.
Среди выражений дружбы и ласкательных имен встречаются: «Эй ты, скотина, грязный сводник, шлюха, потаскушка».
Здорово воруют и славно дерутся, но судятся редко. О, эта боязнь жандармов и «широких черных рукавов» – или красных.
Наречие очень беглое, напоминает вам Директорию: «Toujou, amou, n’est pâs (вместо n’est ce pas), mon frè, ma soeu, enco», и зверский язык апашей или канаков в роде «у a yarqre ladele» (il у a quelque chose là dessous).
Всего на всего…
Но вот почему я возвращаюсь в этот проклятый Париж, в этот Париж, приводящий в ужас бодлеровского Бельгийца.
Темная ночь
Севастопольский бульвар шумит и пылит в лучах прекрасного январского дня.
Резкий холод. Меховые воротники и кашне поднимаются и обертываются вокруг мужских шей.
Нарядные женщины глубоко несчастны в своих кукольных муфтах и Гэнсборо без вуалеток. Работницы и старые няньки напялили на затылок прослывшие безобразными, но удобные на деле косынки. Мальчишка бьет ногой об ногу, а кучер – рукой об руку. Хорошо пройтись после завтрака, затягиваясь крепкой сигарой. Прелестная пора.
Но сколько бедняков! Толпы калек на деревяшках с густыми насмешливыми усами, с отличиями всех цветов в петлице, ползают и визжат: целая флотилия итальянцев, самцов и самок, рдеет и смердит под звуки волынки и скрипки. Традиционные безрукие и лишенные всех возможных и невозможных членов кишат и загромождают дорогу.
Как эти нищие наглы! Все без исключения. И как бы они были страшны, не будь вы чертовским скептиком и парижанином не на шутку!
Так восклицает Вдовец и нащупывает свое портмоне, впрочем довольно тощее, в кармане брюк сквозь плюшевый эльстер и куртку от Готшо. Это находящееся в постоянном движении «Подворье чудес» ничего не говорит ему, и он продолжает свой путь. Вдруг его взгляд падает на ворота, увенчанные вывеской с именами одного или нескольких Вейлей, Леви или Мейеров, выведенных длинными, как Ааронова борода, золотыми буквами, прикрытая с боков пламенеющими щитами и написанными мелом на выгнутой черной жести меню.
О, какое нежное зрелище! Маленький мальчик, лет десяти, со светло-русыми волосами под старательно вычищенной фуражкой, необыкновенно бледный и розовый, в ловко или довольно ловко, насколько позволяла его худоба, сидевшей на нем простой, но очень чистенькой черной блузе, расположился там, грея ноги в старом меховом мешке, с оловянной тарелкой в руках, одетых в рукавицы. Надпись, подвешенная на его чахоточной груди гласит – увы! – «Два года, как слеп вследствие болезни».
Как! Несчастное создание с благородными чертами, в одежде, указывающей не заботы вдовы,
тоже неспособной к труду, но все еще и навсегда наделенной этим корнелиевским самолюбием материнской любви, не желающей другого признака немощи или нищеты своего сына, кроме слишком правдивой надписи и жестокого свидетельства этих неглядящих глаз, как, этот малютка еще недавно видел свет, подобно стольким другим, подобно стольким миллионам и миллиардам других, он видел солнце, звезды, облака, деревья, игрушки, прохожих, солдат, свою мать?
И вдовец останавливается, бесконечно тронутый. Он роется в своем тощем кармане – долгая процедура из-за Ольстера и куртки, которую надо подобрать, и из-за подбитых мехом луврских перчаток, которые надо снять – и почти дрожащей рукой со сложенными в дулю пальцами (как у настоящей богомолки в кошеле для милостыни господина кюре) он опускает на дно оловянной тарелки, как бы из опасения оскорбить гордость мертвых глаз единственного настоящего бедняка среди этой толпы бедняков, небольшую монету – золотую ли, серебряную ли – левая рука его не ведает этого…
Это делается так нежно, так осторожно и с такой скользящей и как будто стыдливой беглостью, что маленький слепец восклицает разбитым, но о каким пронизывающим голосом:
– Спасибо, сударыня!
Бессонная ночь
Две очень изящные тени встретились в лунном сиянии ночи в январе этого года.
Они очень изящны, эти тени, я на этом настаиваю, но немного покачиваются. Впрочем, они высоки и даже высокомерны. Но немного покачиваются, да!
Опьянение? Конечно! Гордость? О да! С одной стороны, они неправы, это очевидно! Но настолько, но в такой мере, но так явно правы с другой.
И какой парижский вид у этих теней. (Потому что решительно мы имеем дело с призраками. Быть призраком нелегко, но это на хорошем счету среди нынешнего омертвения.)
Один из призраков худ. Другой тоже. Один лыс, без бороды, без бровей и ресниц, с обнаженной головой и с капюшоном, косо падающим сзади, капюшоном короткой мантии, расстегнутой на все ее маленькие пуговицы. Костюм в обтяжку, под складками рыжеватый. Слишком длинные, может быть, стоптанные башмаки.
У другого седая, совсем молодая и пышная шевелюра, развевающаяся по ветру под шелковым цилиндром, и кое-как подстриженная бородка, немного заостренная.
Призраки не как всякие другие, о, нет, нет!
Не забудьте их великолепных глаз, какие теперь встретишь нечасто.
Вначале встреча не была сердечной. Посыпались даже удары.
«Сцена представляет» набережную в половине третьего часа утра, когда пивная на сквере Святого Иакова только что попросила последних ночных завсегдатаев квартала об уходе. И тень со средневековыми очертаниями, держа в руке что-то остроконечное, обратилась к изысканной тени в стиле Луи-Филиппа с чем-то вроде: «Кошелек или жизнь».
Отсюда ссора, затем, объяснение, вслед за которым Франсуа Вильон и Альфред де Мюссе, взявшись под руки, прохаживаются вокруг какой-то слишком белой громады, где в тяжелых нишах размещены великие люди с именами снизу и датами наверху, начертанными безобразным шрифтом.
– Кстати, учитель, – говорить покойный Мюссе, пожевывай тень полупогасшей сигары, – что думаете вы вот об этой постройке?
Я думаю, мой милый сын, что она довольно нова и мало традиционна для Парламента, даже дли современного буржуазного.
– Это видите ли потому, что не так давно политика его сожгла и они должны были его перестроить, а новому камню недостает отпечатка старины и не без причины.
– В надежде, вероятно, что новый пожар придаст им этот отпечаток…
– Ни мало! Но в конце концов я все же думаю, что нет худа без добра, и здание это мне кажется дьявольски греческим и в лунную ночь, и в солнечный день.
– Мне же этого не кажется ни так, ни этак. Извините за грубость. Я не слишком долюбливал прежний парламент, который был однообразен, как кузнечик, и плоский, как клоп. Но все же у него была своя история, чуть-чуть глуповатая, но достаточно кровавая, а буйная даже чересчур. А этот…
– Подождите еще немного, милый Вильон…
– Это-то верно… Но я боюсь пожара, который со всем этим покончит, прежде чем что-либо начнется.
– Действительно, hie jacet lepus. Но позвольте мне все же думать, отец, что но крайней мере фасад нелепого здания не так уже плох с его окнами таверны и золотыми рыцарями, – напоминанием о привилегиях, дорогих даже этим людям.
– Да, да, я согласен с вами от всего сердца. К тому же меня немного смешат эти бесчисленные статуи парижан, среди которых нет вас, Мюссе.
– А я, Вильон, я так бешусь и неистовствую, не видя там и вас. Что касается меня, плохого рифмача…
– Тю-тю-тю-тю!
– Нет, правда же!
– Послушайте, вы вероятно знаете здесь уютные ночные уголки. Сведите-ка меня туда, идет?
– Ну так в путь…
И после изрядного количества громких приключений, оба славные поэта окончили ночь, как и следовало, в участке.
Славный уголок
О, совсем не то, что могло бы представиться вашему злому воображению.
Заведение, прилавок которого тускнеет от прикосновения одних только трезвых или почти трезвых рук, но во всяком случае честных и воспитанных или хоть по видимости таковых. А что? Не редкость ли подобное местечко в нашем Париже?
Хозяин, высокий светлый блондин, радушно приветлив, но умеет выбирать вою публику. Одет почти всегда в светлое – прихоть блондина, вероятно. Никогда его не видали в вязаной фуфайке и это отпугивает местных шатунов.
Хозяйка, царственной красоты, сдержана и весела в пределах требуемого. Иногда ее ясное и открытое лицо принимает выражение равнодушия, быть может, насмешливого; но когда посетитель предлагает ей розу или смиренный пучок фиалок, она расцветает истинной радостью молодой женщины в цветах любящей сестер. Клетка с чирикающими канарейками каждое мгновение привлекает ее взгляд и возбуждает улыбку.
Хозяйская дочь – высокая девочка, бледная, но здоровая и умница, и проказница, и чертовски добрая.
Наконец династии приказчиков сменяются редко, что говорит в пользу этих молодых людей и всего заведения.
Среди служащих двое носили фамилию Папаль и имя президента.
Один из них живой, с рожицей уличного мальчишки и дикаря из Аннама, постоянно удивлял посетителей своими всегда лукавыми, но не слишком злыми глазами и «сногсшибательными» ответами, как говорится на здешнем, совсем особом наречии.
Другой, крепкий малый, с головой юного римского императора, более сдержанный, но на самом деле не меньший проказник, умел дразнить неосторожного, произнесшего некстати что-нибудь вроде: «Очень мило» или «Я живу в подвале», ловко повторяя время от времени этот оборот.
Словом, прекрасный состав служащих.
В числе отборных посетителей имеются поэты, одни такие лохматые, и другие, слишком лысые. Один из этих любимцев Аполлона поражает своим высоким, другой – своим низким ростом, еще иной – своими героическими жестами, все же вместе – жизнерадостностью наперекор щелчкам и неудачам.
В этом избранном обществе можно также видеть отставных судейских чиновников, гордых своей бедностью, военных, которым – черт возьми! – не советую наступать на мозоль, о нет! Что еще?
Иногда тесная дружба соединяет в задней комнате самые сливки этого общества и тогда-то начинается пение хором; а то скрипка смеется и стонет, или раздаются шутки, настолько же затейливые, как и безобидные, устраивается борьба и кулачные бои для смеха, но не на шутку, я вам ручаюсь.
Безумство? Пусть, но безумство милое, прелестное и которое стоит, пожалуй, не одной из известных нам мудростей.
Итак, да процветает на долгие годы драгоценное маленькое заведение на радость, на отдых и на утешение почтенным соседям.
Аминь!
Из окна
Окно моего друга не выходило на улицу, так что однажды прекрасным летним утром мы забавлялись, покуривая, наблюдением комичных интимных подробностей жизни, над которой мы господствовали с высоты третьего этажа. Среди разных забавных вещей на наших глазах рос маленький садик, состоявший из дорожки, единственного дерева и веревки для белья, на которой в то время в белом свете дня дымилась влажная простыня, казавшаяся нам грязной. Над маленькой беседкой, от которой нам была видна лишь плоская цинковая кровля, вертелась по ветру китайская фигурка из разноцветного железа и показывала язык, совершенно вылинявший под дождями нескольких лет и, хотя заржавевший, но блестящий как игла. Смешная фигурка, асфальт, окружавший подножие дерева и обильно унавоженные грядки, все это на минутку развеселило нас и мы уже говорили о мире забавного, в котором приятно было бы пожить без страха и без любви. Как вдруг из беседки вышел человек в бакенах, с обнаженной головой, во фраке, вынося таз с водой, в которой он вымыл руки. Вода стала розовой и мы еще больше смеялись, видя, как он, это чучело, низко-низко нагибаясь в дверях, вошел снова в беседку, чтобы почти тотчас же выйти из нее в клеенчатой шляпе и, с усилием поддерживая гроб, по-видимому, не пустой; еще один человек в такой же одежд и шляпе, обливаясь потом, подпирал другой конец гроба. Оба они двинулись по узкой дорожке между трельяжем; какая-то старуха в рубашке, плача, вылила таз на навозные грядки, а китайская фигурка, скрипя, высунула нам язык, хотя на этот раз у нас не было охоты смеяться над чем-либо иным, кроме этой жалкой человеческой жизни, у которой всегда найдется в запасе забавная шутка, и которая, как самый лучший актер, сумеет подготовить свои эффекты без излишней напыщенности.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.