
Полная версия
Серебряный ветер
Последний вопрос-возглас – выкрик Пугачева: «Неужель под душой так же падаешь, как под ношей?» – говорит не только о крушении мечты, но и о том, что то, чем жило его сердце, что вело его на борьбу, не нашло отзвука у соратников. Данная в поэме трактовка трагического конца героя и предательства сподвижников показывает, что Есенину становится чужда идеализация крестьянства. Он начинает видеть его слабости, понимать, что стихия крестьянского бунта несет в себе не только замечательные примеры самоотверженности и самопожертвования, не только страсть и мощь народного гнева, но, оставаясь замкнутой в самой себе, таит в себе же семена собственной гибели.
Внимательного читателя «Пугачева» остановят некоторые особенности стиля этой вещи. В таких строках, как «Ржет дорога в жуткое пространство», «Пучились в сердце жабьи глаза грустящей в закат деревни», и во многих других отразилось переживавшееся тогда Есениным увлечение имажинизмом. Это сказывалось в прихотливости образной системы, нарочитом соединении разнородных лексических слоев, вычурности метафор, повышенной эмоциональности, почти «крикливости» стиха.
Больше года (с мая 1922 до августа 1923 года) провел Есенин в зарубежной поездке. Вместе с Айседорой Дункан он побывал в Германии, Франции, Италии, США, других странах. Запад поразил Есенина духовной нищетой. «Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом? – писал он одному из своих друзей. – Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет. Здесь жрут и пьют, и опять фокстрот. Человека я пока еще не встречал и не знаю, где им пахнет. В страшной моде господин доллар, на искусство начхать – самое высшее музик-холл». В написанном по впечатлениям от пребывания в Америке очерке «Железный Миргород» он говорит о «владычестве доллара», которое подавило «все стремления к каким-либо сложным вопросам», о том, что «сила железобетона, громада зданий стеснили мозг американца и сузили его зрение», но в то же время он говорит и о большом значении индустриального развития, о том, что при взгляде на индустриальную культуру этой страны «невольно поражаешься возможностям человека, и стыдно делается, что у нас в России верят до сих пор в деда с бородой и уповают на его милость». Главное же, что вынес Есенин из зарубежной поездки, он выразил просто и кратко: «С того дня я еще больше влюбился в коммунистическое строительство».
За долгие месяцы пребывания за рубежом им было написано как никогда мало: только несколько стихотворений, объединявшихся в то время под заголовком «Москва кабацкая». К этому же времени относится начало работы над драматической поэмой «Страна негодяев». Тогда же возник у него замысел, а судя по ряду сообщений, возможно, был создан и первый вариант самой трагической вещи в его поэтическом наследии – «Черный человек».
Оторванный от родной страны, от тех живительных соков, которые давала ему реальная русская действительность, Есенин как бы замыкается внутри самого себя. Усиливаются мрачные и скорбные мысли о распаде подлинно человеческих, нравственных устоев жизни. Трагизм «Москвы кабацкой», «Черного человека» – это трагизм человека, лишенного связей с миром, отданного во власть сил зла и не находящего в окружающем опоры для борьбы с этим злом. Это трагедия одиночества в людском море. Свою среду он назвал «сворой собачьей». «Мне теперь не уйти назад» – вот что порождает неизбывную тоску и ужас. Но за этим «не уйти» скрывается и убежденность, что есть в жизни нечто высокое и прекрасное, то, к чему надо уйти; недоступность чего, отъединенность от чего и рождает горечь и трагедию.
«После заграницы я смотрел на страну свою и события по-другому», – писал он вскоре после возвращения на родину. То новое, чем встретила его страна, представилось ему как путь, ведущий к возрождению жизни. Эта новизна широко входит в его стихи. «Возвращение на родину», «Русь советская», «Письмо к женщине», «Русь уходящая», «Анна Снегина» – наглядное тому доказательство. Хотя он был твердо убежден в бесповоротности произошедших перемен – «Над старым твердо вставлен крепкий кол», – это не снимало для него трагических контрастов новой действительности, острейшие коллизии которой он отчетливо видел:
Чем мать и дед грустней и безнадежней,Тем веселей сестры смеется рот.Поэтому в творчестве Есенина 1924–1925 годов соседствуют нежные, оптимистические интонации возрождения жизни и одновременно скорбные мелодии прощания с ней. Вот почему если не случайным было возникновение «Черного человека» в период зарубежной поездки, то столь же закономерным было и возвращение к этой вещи в конце жизни, в ноябре 1925 года.
Но все же мажорный настрой в его лирике последних двух лет явно доминировал. Стремительность развития таланта Есенина, то, что в короткие десять лет уместился путь от «Чую Радуницу Божью» до «Через каменное и стальное вижу мощь я родной страны…», не раз ставило в тупик критиков тех лет. То, что от стихов «Москвы кабацкой» Есенин так решительно и быстро перешел к «Стансам» и другим подобным произведениям, рождало недоверие, даже скепсис. При этом не замечалось глубокое внутреннее единство, которое роднило все лучшее в творчестве Есенина.
В произведениях 1924–1925 годов гуманистический пафос, идеи человеколюбия и милосердия раскрылись со всей полнотой и обрели новую, еще более глубокую основу. Если в стихах первых лет это было связано с сочувствием, сопереживанием человеку, с мечтой о «счастье ближнего», реальные очертания которой не всегда можно четко представить и обрисовать, если в стихах 1919–1922 годов этот пафос нередко переливался в скорбь, в ощущение утраты и конца, в ощущение личной потерянности и потерянности всеобщей, то в последних стихах – совсем иное.
Окружающее никогда не предстает «сворой собачьей», а напротив – юным, растущим, обретающим новую жизнь, ликующим и счастливым. Сердце поэта переполняет радость от встречи с этим новым, полным свежих сил, молодости, бьющей через край полноты жизни. «Новый свет», которым осветила жизнь его судьбу, позволяет поэту иначе посмотреть на мир. Представление о враждебности окружающей жизни сменяется прямо противоположными признаниями: «И земля милей мне с каждым днем», «Эту жизнь за все благодарю», «Оттого и дороги мне люди» и т. п. В одном из последних стихотворений:
Мне все равно эта жизнь полюбилась,Так полюбилась, как будто вначале.В прямой связи с этими мыслями находятся и строки «Анны Снегиной», которые были приведены ранее.
В чистые и нежные тона окрашивается любовная лирика поэта. Именно в эти годы создаются «Вечер черные брови насолил…», «Заметался пожар голубой…», «Листья падают, листья падают…», «Персидские мотивы» и многие другие стихи, прочно занявшие место среди лучших страниц русской лирики. Чувство любви воспринимается им как возрождение, как пробуждение всего самого прекрасного в человеке.
Есенин показывает себя блестящим мастером раскрытия, пользуясь пушкинским термином, «физического движения страстей». Через мельчайшие детали он рисует сложную гамму чувств. Только две строки:
Я в твоих глазах увидел море,Полыхающее голубым огнем.Или:
Только б тонко касаться рукиИ волос твоих цветом в осень.И в каждой из них – неповторимость чувств, полнота и истинная поэтичность переживаний, великая красота любви.
Но вместе с тем в стихах и этого периода столь же ясно ощутима грустная и печальная нота. Она как бы неотступно звенит в каждом, даже самом радостном, стихе. Это чувство связано, в частности, с раздумьями о прошедшей жизни, о пережитом, о долге поэта.
Быть поэтом – это значит то же,Если правды жизни не нарушить,Рубцевать себя по нежной коже,Кровью чувств ласкать чужие души.Здесь нет избраннической позы, игры в жречество и гениальность, это просто осознание высочайшей нравственной ответственности за творчество. Всего себя отдает поэт людям. И жизнь и дар приносит он служению им. «Пусть вся жизнь моя за песню продана» – это не поза, не красивая и эффектная фраза, долженствующая разжалобить читателя. В этих словах заключена суровая и тяжелая правда. Он подчинил свою жизнь поэзии, отдал этому великому делу все свои силы, всю энергию души.
Внимательного читателя, конечно, привлекут многие особенности художественной системы Есенина. Это и своеобразная многоступенчатость, сложность метафорических построений, когда утренняя заря предстает «красным теленком», а небо – «коровой», хлебные колосья обретают живую плоть, осеннее золото становится признаком и увядания природы, и осени человеческой жизни, и конца чувства к женщине и т. п. Это и цветовая символика, когда, скажем, «голубой» превращается из обозначения цвета в символ душевного состояния, передает отношение поэта к тому или иному событию, явлению, понятию.
Самое существенное во всем этом – исключительное умение Есенина найти тесный сердечный контакт с читателем, взволновать его, пробудить самые светлые чувства. Поразительна широта читательской аудитории поэта. Его стихи находят живейший отклик у людей и самых разных возрастов, и самого разного мировосприятия. Как никого не может оставить равнодушным народная песня, так никого не минует обаяние стихов Есенина. И связано это с особой многозначностью образного строя его лирики, с тем, что каждый человек может найти в ней нечто близкое и созвучное своему душевному настрою.
В стихах Есенина немало своего рода сквозных образов, которые, обогащаясь и видоизменяясь, проходят через всю его поэзию. Это, конечно, прежде всего образы родной природы, которые так глубоко передавали его убеждения о коренной слитности человека с природой, неотделенности человека от всего живого. Читая «Клен ты мой опавший, клен заледенелый…», нельзя не вспомнить о «клененочке маленьком» из самых первых стихов. В одном из последних стихотворений у Есенина есть строки:
Я навек за туманы и росыПолюбил у березки стан,И ее золотые косы,И холщовый ее сарафан.В этой березе, возникшей под самый конец жизни, отчетливо читается и та береза, с которой он впервые выступил в печати («Белая береза под моим окном…»), и многие другие обращения его к этому образу. Есенина влекла возможность создать строки, за внешней простотой и безыскусственностью которых стояло исключительно глубокое эмоционально-образное содержание. Поэтому и береза в приведенных выше строках – это и она сама, и олицетворившаяся в ней вся русская природа, и родина.
Есенин любил и не раз использовал такое построение строфы, когда первая строка повторяется как завершающая, последняя строка строфы. Это тоже давало возможность только в перемене интонации раскрыть особую душевную наполненность, строй своей поэтической мысли.
Свет вечерний шафранного края,Тихо розы бегут по полям.Спой мне песню, моя дорогая,Ту, которую пел Хаям.Тихо розы бегут по полям.……………………………………….Тихо розы бегут по полям.Сердцу снится страна другая.Я спою тебе сам, дорогая,То, что сроду не пел Хаям…Тихо розы бегут по полям.Строка становится похожа на морскую волну. Она набегает, бьет в берег, отходит, и вот на смену ей стремится уже другая, такая же, как бы неотличимая от первой, но уже наполненная другим смыслом, другими чувствами. Иногда даже контрастными первым. Какой должна быть первая строка «Тихо розы бегут по полям» – задумчивой? веселой? грустной? тихой? Поэт не дает ответа. Здесь нет единственного и категорического решения. Есенин как бы оставляет читателю возможность досочинить, дофантазировать. Он как бы приглашает его к сотворчеству, дает простор читательской воле и интуиции, простор чувству человека, разрешая ему придать строке стихотворения тональность, созвучную его душевному состоянию и настрою.
Подобная глубинность образных построений Есенина вместе с тем как бы очень проста, естественна. Здесь нет сложных метафорических перенесений, загадочности и многофигурности композиций. Все просто, но вместе с тем очень тонко.
Время не властно над поэзией Есенина. Давно ушли в прошлое многие события, волновавшие поэта, изменилась реальность, питавшая его стихи. Но каждое новое поколение открывает для себя в Есенине нечто близкое и дорогое, потому что его поэзия рождена любовью к человеку, сочувствием к нему, высокими гуманистическими идеалами.
А. Козловский
О себе
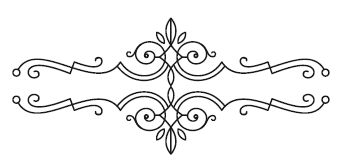
Родился в 1895 году, 21 сентября, в Рязанской губернии, Рязанского уезда, Кузьминской волости, в селе Константинове.
С двух лет был отдан на воспитание довольно зажиточному деду по матери, у которого было трое взрослых неженатых сыновей, с которыми протекло почти все мое детство. Дядья мои были ребята озорные и отчаянные. Трех с половиной лет они посадили меня на лошадь без седла и сразу пустили в галоп. Я помню, что очумел и очень крепко держался за холку. Потом меня учили плавать. Один дядя (дядя Саша) брал меня в лодку, отъезжал от берега, снимал с меня белье и, как щенка, бросал в воду. Я неумело и испуганно плескал руками, и, пока не захлебывался, он все кричал: «Эх! Стерва! Ну куда ты годишься?» «Стерва» у него было слово ласкательное. После, лет восьми, другому дяде я часто заменял охотничью собаку, плавал по озерам за подстреленными утками. Очень хорошо лазил по деревьям. Среди мальчишек всегда был коноводом и большим драчуном и ходил всегда в царапинах. За озорство меня ругала только одна бабка, а дедушка иногда сам подзадоривал на кулачную и часто говорил бабке: «Ты у меня, дура, его не трожь, он так будет крепче!» Бабушка любила меня из всей мочи, и нежности ее не было границ. По субботам меня мыли, стригли ногти и гарным маслом гофрили голову, потому что ни один гребень не брал кудрявых волос. Но и масло мало помогало. Всегда я орал благим матом и даже теперь какое-то неприятное чувство имею к субботе.
Так протекло мое детство. Когда же я подрос, из меня очень захотели сделать сельского учителя и потому отдали в церковноучительскую школу, окончив которую я должен был поступить в Московский учительский институт. К счастью, этого не случилось.
Стихи я начал писать рано, лет девяти, но сознательное творчество отношу к 16–17 годам. Некоторые стихи этих лет помещены в «Радунице».
Восемнадцати лет я был удивлен, разослав свои стихи по журналам, тем, что их не печатают, и поехал в Петербург. Там меня приняли весьма радушно. Первый, кого я увидел, был Блок, второй – Городецкий. Когда я смотрел на Блока, с меня капал пот, потому что в первый раз видел живого поэта. Городецкий меня свел с Клюевым, о котором я раньше не слыхал ни слова. С Клюевым у нас завязалась при всей нашей внутренней распре большая дружба.
В эти же годы я поступил в Университет Шанявского, где пробыл всего 1½ года, и снова уехал в деревню.
В университете я познакомился с поэтами Семеновским, Наседкиным, Колоколовым и Филипченко.
Из поэтов-современников нравились мне больше всего Блок, Белый и Клюев. Белый дал мне много в смысле формы, а Блок и Клюев научили меня лиричности.
В 1919 году я с рядом товарищей опубликовал манифест имажинизма. Имажинизм был формальной школой, которую мы хотели утвердить. Но эта школа не имела под собой почвы и умерла сама собой, оставив правду за органическим образом.
От многих моих религиозных стихов и поэм я бы с удовольствием отказался, но они имеют большое значение как путь поэта до революции.
С восьми лет бабка таскала меня по разным монастырям, из-за нее у нас вечно ютились всякие странники и странницы. Распевались разные духовные стихи. Дед напротив. Был не дурак выпить. С его стороны устраивались вечные невенчанные свадьбы.
После, когда я ушел из деревни, мне долго пришлось разбираться в своем укладе.
В годы революции был всецело на стороне Октября, но принимал все по-своему, с крестьянским уклоном.
В смысле формального развития теперь меня тянет все больше к Пушкину.
Что касается остальных автобиографических сведений – они в моих стихах.
Октябрь 1925
Стихотворения
1910–1917
«Вот уж вечер. Роса…»
Вот уж вечер. РосаБлестит на крапиве.Я стою у дороги,Прислонившись к иве.От луны свет большойПрямо на нашу крышу.Где-то песнь соловьяВдалеке я слышу.Хорошо и тепло,Как зимой у печки.И березы стоят,Как большие свечки.И вдали за рекой,Видно, за опушкой,Сонный сторож стучитМертвой колотушкой.1910
«Там, где капустные грядки…»
Там, где капустные грядкиКрасной водой поливает восход,Клененочек маленький маткеЗеленое вымя сосет.1910
«Поет зима – аукает…»
Поет зима – аукает,Мохнатый лес баюкаетСтозвоном сосняка.Кругом с тоской глубокоюПлывут в страну далекуюСедые облака.А по двору метелицаКовром шелковым стелется,Но больно холодна.Воробышки игривые,Как детки сиротливые,Прижались у окна.Озябли пташки малые,Голодные, усталые,И жмутся поплотней.А вьюга с ревом бешенымСтучит по ставням свешеннымИ злится все сильней.И дремлют пташки нежныеПод эти вихри снежныеУ мерзлого окна.И снится им прекрасная,В улыбках солнца яснаяКрасавица весна.1910
«Выткался на озере алый свет зари….»
Выткался на озере алый свет зари.На бору со звонами плачут глухари.Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.Только мне не плачется – на душе светло.Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо дорог,Сядем в копны свежие под соседний стог.Зацелую допьяна, изомну, как цвет,Хмельному от радости пересуду нет.Ты сама под ласками сбросишь шелк фаты,Унесу я пьяную до утра в кусты.И пускай со звонами плачут глухари.Есть тоска веселая в алостях зари.1910
«Дымом половодье…»
Дымом половодьеЗализало ил.Желтые поводьяМесяц уронил.Еду на баркасе,Тычусь в берега.Церквами у пряселРыжие стога.Заунывным каркомВ тишину болотЧерная глухаркаК всенощной зовет.Роща синим мракомКроет голытьбу…Помолюсь украдкойЗа твою судьбу.1910
Калики
Проходили калики деревнями,Выпивали под окнами квасу,У церквей пред затворами древнимиПоклонялись Пречистому Спасу.Пробиралися странники по полю,Пели стих о сладчайшем Исусе.Мимо клячи с поклажею топали,Подпевали горластые гуси.Ковыляли убогие по стаду,Говорили страдальные речи:«Все единому служим мы Господу,Возлагая вериги на плечи».Вынимали калики поспешливоДля коров сбереженные крохи.И кричали пастушки насмешливо:«Девки, в пляску. Идут скоморохи».1910
«Под венком лесной ромашки…»
Под венком лесной ромашкиЯ строгал, чинил челны,Уронил кольцо милашкиВ струи пенистой волны.Лиходейная разлука,Как коварная свекровь.Унесла колечко щука,С ним – милашкину любовь.Не нашлось мое колечко,Я пошел с тоски на луг,Мне вдогон смеялась речка:«У милашки новый друг».Не пойду я к хороводу:Там смеются надо мной,Повенчаюсь в непогодуС перезвонною волной.1911
«Темна ноченька, не спится…»
Темна ноченька, не спится,Выйду к речке на лужок.Распоясала зарницаВ пенных струях поясок.На бугре береза-свечкаВ лунных перьях серебра.Выходи, мое сердечко,Слушать песни гусляра!Залюбуюсь, загляжусь лиНа девичью красоту,А пойду плясать под гусли,Так сорву твою фату.В терем темный, в лес зеленый,На шелковы купыри,Уведу тебя под склоныВплоть до маковой зари.1911
«Матушка в Купальницу по лесу ходила…»
Матушка в Купальницу по лесу ходила,Босая с подтыками по росе бродила.Травы ворожбиные ноги ей кололи,Плакала родимая в купырях от боли.Не дознамо печени судорга схватила,Охнула кормилица, тут и породила.Родился я с песнями в травном одеяле.Зори меня вешние в радугу свивали.Вырос я до зрелости, внук купальской ночи,Сутемень колдовная счастье мне пророчит.Только не по совести счастье наготове,Выбираю удалью и глаза и брови.Как снежинка белая, в просини я таюДа к судьбе-разлучнице след свой заметаю.1912
«Задымился вечер, дремлет кот на брусе…»
Задымился вечер, дремлет кот на брусе.Кто-то помолился: «Господи Исусе».Полыхают зори, курятся туманы,Над резным окошком занавес багряный.Вьются паутины с золотой повети.Где-то мышь скребется в затворенной клети…У лесной поляны – в свяслах копны хлеба,Ели, словно копья, уперлися в небо.Закадили дымом под росою рощи…В сердце почивают тишина и мощи.1912
Береза
Белая березаПод моим окномПринакрылась снегом,Точно серебром.На пушистых веткахСнежною каймойРаспустились кистиБелой бахромой.И стоит березаВ сонной тишине,И горят снежинкиВ золотом огне.А заря, ленивоОбходя кругом,Обсыпает веткиНовым серебром.1913
Пороша
Еду. Тихо. Слышны звоныПод копытом на снегу.Только серые вороныРасшумелись на лугу.Заколдован невидимкой,Дремлет лес под сказку сна.Словно белою косынкойПодвязалася сосна.Понагнулась, как старушка,Оперлася на клюку,А под самою макушкойДолбит дятел на суку.Скачет конь, простору много,Валит снег и стелет шаль.Бесконечная дорогаУбегает лентой вдаль.1914
«Колокол дремавший…»
Колокол дремавшийРазбудил поля,Улыбнулась солнцуСонная земля.Понеслись ударыК синим небесам,Звонко раздаетсяГолос по лесам.Скрылась за рекоюБелая луна,Звонко побежалаРезвая волна.Тихая долинаОтгоняет сон,Где-то за дорогойЗамирает звон.1914
С добрым утром!
Задремали звезды золотые,Задрожало зеркало затона,Брезжит свет на заводи речныеИ румянит сетку небосклона.Улыбнулись сонные березки,Растрепали шелковые косы.Шелестят зеленые сережки,И горят серебряные росы.У плетня заросшая крапиваОбрядилась ярким перламутромИ, качаясь, шепчет шаловливо:«С добрым утром!»1914
Молитва матери
На краю деревни старая избушка,Там перед иконой молится старушка.Молится старушка, сына поминает,Сын в краю далеком родину спасает.Молится старушка, утирает слезы,А в глазах усталых расцветают грезы.Видит она поле, это поле боя,Сына видит в поле – павшего героя.На груди широкой запеклася рана,Сжали руки знамя вражеского стана.И от счастья с горем вся она застыла,Голову седую на руки склонила.И закрыли брови редкие сединки,А из глаз, как бисер, сыплются слезинки.1914
Богатырский посвист
Грянул гром. Чашка неба расколота.Разорвалися тучи тесные.На подвесках из легкого золотаЗакачались лампадки небесные.Отворили ангелы окно высокое,Видят – умирает тучка безглавая,А с запада, как лента широкая,Подымается заря кровавая.Догадалися слуги Божии,Что недаром земля просыпается,Видно, мол, немцы негожиеВойной на мужика подымаются.Сказали ангелы солнышку:«Разбуди поди мужика, красное,Потрепи его за головушку,Дескать, беда для тебя опасная».Встал мужик, из ковша умывается,Ласково беседует с домашней птицею,Умывшись, в лапти наряжаетсяИ достает сошники с палицею.Думает мужик дорогой в кузницу:«Проучу я харю поганую».И на ходу со злобы тужится,Скидает с плечей сермягу рваную.Сделал кузнец мужику пику вострую,И уселся мужик на клячу брыкучую.Едет он дорогой пестрою,Насвистывает песню могучую,Выбирает мужик дорожку приметнее,Едет, свистит, ухмыляется.Видят немцы – задрожали дубы столетние,На дубах от свиста листы валятся.Побросали немцы шапки медные,Испугались посвисту богатырского…Правит Русь праздники победные,Гудит земля от звона монастырского.1914
Ямщик
За ухабины степныеМчусь я лентой пустырей.Эй вы, соколы родные,Выносите поскорей!Низкорослая слободкаВ повечерешнем дыму.Заждалась меня красоткаВ чародейном терему.Светит в темень позолотойРазмалевана дуга.Ой вы, санки-самолеты,Пуховитые снега!Звоны резки, звоны гулки,Бубенцам в шлее не счет.А как гаркну на проулке,Выбегает весь народ.Выйдут парни, выйдут девкиСлавить зимни вечера,Голосатые запевкиНе смолкают до утра.1914
Моей царевне
Я плакал на заре, когда померкли дали,Когда стелила ночь росистую постель,И с шепотом волны рыданья замирали,И где-то вдалеке им вторила свирель.Сказала мне волна: «Напрасно мы тоскуем», —И, сбросив свой покров, зарылась в берега,А бледный серп луны холодным поцелуемС улыбкой застудил мне слезы в жемчуга.И я принес тебе, царевне ясноокой,Тот жемчуг слез моих печали одинокойИ нежную вуаль из пенности волны.Но сердце хмельное любви моей не радо…Отдай же мне за все, чего тебе не надо,Отдай мне поцелуй за поцелуй луны.1914
Узоры
Девушка в светлице вышивает ткани,На канве в узорах копья и кресты.Девушка рисует мертвых на поляне,На груди у мертвых – красные цветы.Нежный шелк выводит храброго героя,Тот герой отважный – принц ее души.Он лежит, сраженный в жаркой схватке боя,И в узорах крови смяты камыши.Кончены рисунки. Лампа догорает.Девушка склонилась. Помутился взор.Девушка тоскует. Девушка рыдает.За окошком полночь чертит свой узор.Траурные косы тучи разметали,В пряди тонких локон впуталась луна.В трепетном мерцанье, в белом покрывалеДевушка, как призрак, плачет у окна.1914









