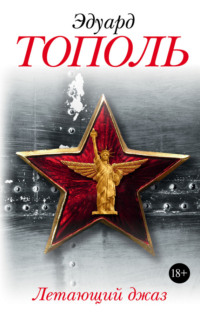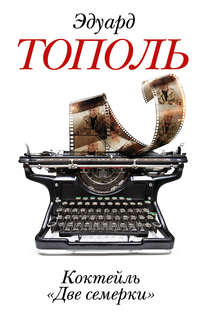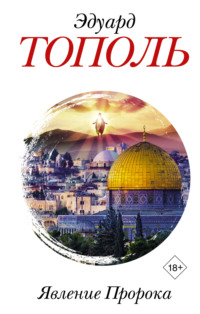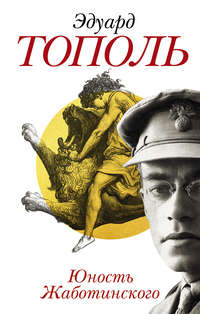Полная версия
Летающий джаз, или Когда мы были союзниками
Да и вся эта каторжно-патриотическая работа женщин, стариков и детей оказалась зряшной – в августе 1941 года, когда Сталин запретил эвакуацию Киева и приказал войскам Юго-Западного фронта стоять насмерть, немцы просто смели (или рассеяли) четыре армии этого фронта численностью в 700 000 человек и беспрепятственно двинулись дальше. Да, в первые два месяца войны только на отдельных участках – Брестская крепость, Могилев и еще нескольких – немцы наткнулись на сопротивление. А в целом, всюду царил такой хаос и такое бегство и дезертирство, что фашисты сквозняком летели до Смоленска и Ельни, говоря «впереди нет врага, а позади нет тыла» – обозы с продовольствием даже не успевали за их войсками. Тем, кто хочет убедиться в «гениальности» нашего «эффективного менеджера», готовившего страну к мировой революции песнями «Броня крепка и танки наши быстры» и обещаниями «сокрушить врага могучим ударом», полезно сравнить всего две цифры официальной статистики: на момент нападения на СССР «боевой и численный состав вооруженных сил фашистской Германии составлял 5,2 млн. человек», а «личный состав, находившийся в советских вооруженных силах – 5,68 млн. человек». И затем прочесть докладную Леониду Брежневу маршала Ивана Конева, опубликованную его писарем: «За три дня, к 25 июня, противник продвинулся в глубь страны на 250 километров. 28 июня взял столицу Белоруссии Минск. Обходным маневром стремительно приближается к Смоленску. К середине июля из 170 советских дивизий 28 оказались в полном окружении, а 70 понесли катастрофические потери. В сентябре этого же 41-го под Вязьмой были окружены 37 дивизий, 9 танковых бригад, 31 артполк Резерва Главного командования и полевые Управления четырех армий. В Брянском котле очутились 27 дивизий, 2 танковые бригады, 19 артполков и полевые Управления трех армий. Всего же в 1941-м в окружение попали и не вышли из него девяносто две из ста семидесяти советских дивизий, пятьдесят артиллерийских полков, одиннадцать танковых бригад и полевые управления семи армий».
Поскольку от этих цифр рябит в глазах, вот более литературное свидетельство из книги Константина Симонова «Сто дней войны»: «Они [немцы] успели за двадцать девять дней войны пройти по прямой с запада на восток 650 километров… Стремительно прорвавшись от Шилова к Смоленску и от Быхова в тылы наших 13-й и 4-й армий, немцы совершенно внезапно для армий Резервного фронта в ряде пунктов выскочили туда, где эти армии еще только-только заканчивали занятие оборонительных рубежей… Бои в районе Ельни [310 км от Москвы] были тяжелыми… Бесконечные потоки беженцев, гражданского населения с запада на восток стекались с широкого фронта к Соловьевской переправе. Это были старики, подростки, женщины с котомками за плечами и детьми на руках. Переправа никакого прикрытия с воздуха не имела. Поэтому фашистские летчики с бреющего полета расстреливали людские потоки, а переправу непрерывно бомбили… Жутко и обидно было смотреть на это… Жутко – от варварства немецких летчиков, а обидно – как же мы смели это допустить, почему же мы не можем защитить свой народ? Мне и сейчас еще видятся: окровавленная умирающая женщина, чуть вылезшая из воды на берег, а по ней ползает грудной ребенок, тоже окровавленный, а рядом с оторванной ногой истекает кровью трех-четырехлетний ребенок…»
Думаю, даже трех этих цитат достаточно, чтобы убедиться, как с первых дней войны кремлевский «эффективный менеджер» бездарно и преступно обрек на гибель миллионы наших отцов и дедов – в среднем по 20 869 человек в сутки выбывало из строя Красной армии. Из них около 8 тысяч человек – безвозвратно…
Впрочем, Константин Симонов, которого я имел удачу видеть в «Литературной газете» в пору своей журналистской юности, был в первые дни войны на Западном фронте. А действие моей повести разворачивается южнее, на Украине…
Утром 18 сентября 1941 года фашисты вступили в Полтаву. Двести с чем-то лет назад, в 1709 году, Петр Первый остановил и разгромил здесь шведскую армию.
Но немцы, в отличие от шведов, никакого сопротивления тут не встретили, потому что накануне все городские партийные, хозяйственные и милицейско-гэпэушные начальники бежали из города. Воспользовавшись безвластием, полтавчане весело били витрины брошенных магазинов и грабили все, что попадалось под руку:
спички, соль, сахар, муку и другие продукты. Охрана двух тюрем на улицах Фрунзе и Пушкина разбежалась, и уголовники, которые находились там, пополнили ряды мародеров. Кондитерская фабрика напоминала улей: тысячи полтавчан заполнили ее цеха, хватая все – повидло, варенье, патоку несли домой в ведрах, тазах, коробках и даже в кульках, сделанных из советских газет.
6
Почти все, кто остался на завоеванной немцами Украине, приняли их, как освободителей от сталинского режима, подарившего стране гражданскую войну, продразверстку, карточную систему, ГУЛАГ и такой голодомор, что в 1933 году люди на Украине доходили до людоедства, а кое-где даже матери поедали своих детей. «Пусть будут немцы, только бы не Советы – хуже все равно не будет», – было общим мнением тех дней. Зная об этом, Гитлер в своем «Обращении к украинскому народу», которое тысячами листовок сыпалось с неба перед вступлением немецких войск, пообещал «всем подневольным трудящимся народам Советского Союза принести на их землю социальную справедливость, порядок, хлеб и настоящий социализм». И теперь пожилые крестьянки падали на колени перед проезжавшими в машинах и на мотоциклах немецкими офицерами-освободителями и целовали им ноги. На окраине Полтавы группа девчат в белых вышитых блузках и двое парней в цветастых украинских сорочках поднесли хлеб-соль немецким арьергардным мотоциклистам. На улице Фрунзе, по которой немцы вошли в Полтаву, стояло настоящее ликование. Люди дарили пришедшим солдатам только что награбленные детские игрушки, цветы, пестрые косынки. Кепки и шапки радостно взлетали в воздух, люди кричали «Ура!», многие крестились. В газете «Лохвитское слово» украинский поэт Яков Вышиваный опубликовал оду «Адольфу Гітлеру», в ней говорилось:
Тобі, великий Визволитель,Що пекло ката розтрощив,Тобі народ – о, наш учитель, —В пошані голову схилив.В спешно открываемых церквях священники возглашали: «Настал день, ожидаемый народом, который ныне воскресает из мертвых там, где мужественный германский меч успел рассечь его оковы… Древний Киев светло торжествует свое избавление как бы из самого ада преисподнего. Освобожденная часть народа повсюду уже запела “Христос Воскресе!”».
Поняв силу духовенства на завоеванных землях, немцы не только разрешали открытие православных храмов, но и финансировали их восстановление. В 1941–1942 годах с помощью немцев на захваченных ими территориях было открыто больше семи с половиной тысяч церквей, в которых священники и толпы прихожан ежедневно совершали молебны «о даровании Господом сил и крепости германской армии и ее вождю для окончательной победы над советским адом…»
19 сентября, на следующий день после вступления немцев в Полтаву, Мария разбудила дочку в пять утра.
– Вставай, доча. Пишлы на работу.
Оксана изумленно глянула на мать: яка работа? Чому?
– Тому що житы треба шо при коммуняк, шо при нiмцiв. Нiмцi даже бiльше чiстоту шануют…
Мария взяла ведро и половую тряпку и пошла с Оксанкой на Жовтневу улицу в то самое двухэтажное здание, где раньше находилось Полтавское управление ГПУ-НКВД. Хотя утреннее солнце светило и грело совсем не по-осеннему, и сады за заборами душно пахли спелыми яблоками и грушами, а уличные каштаны то и дело роняли на тротуары мягко-колючие зеленые бомбочки, из которых выпадали глянцевито-коричневые плоды, город еще не проснулся, не то отдыхая после загульного праздника освобождения от большевиков, не то в каком-то выжидании. На окраинных улицах старухи не собирали, как обычно, коровьи плюхи для сушки на кизяк, на перекрестках не было привычных очередей у водопроводных колонок, и даже собаки не лаяли из-за заборов. А освободители, допоздна отмечавшие свою победу, сладко спали в домах бывших партийных бонз на их пуховых перинах…
Мария и Оксана дошли до Корпусного сада и вошли в знакомый двухэтажный особняк. Как мать и предполагала, здесь царил полный разгром – грязь и обгорелый бумажный мусор в коридорах, двери всех кабинетов распахнуты настежь, в кабинетах все шкафы открыты, на полу – груды пепла от сожженных документов на расстрелянных «по первой категории» и сосланных «по второй категории», а на стенах – забытые портреты Сталина и Дзержинского.
Мария сняла портреты, вымела их вместе с мусором в коридор, а из коридора во двор. После чего выдала Оксане вторую половую тряпку и вдвоем с дочкой стала мыть полы.
Через час, когда они уже мыли лестницу со второго этажа на первый, с улицы послышался шум мотора, там остановился «Опель»-кабриолет, и малорослый толстяк в зеленых погонах штабс-офицера, сняв офицерскую фуражку, и утирая потный лоб, вошел в здание. Увидев Марию и тринадцатилетнюю Оксану, моющих ступеньки, он изумленно остановился и спросил на чистом украинском языке:
– Шо ви робитэ?
Мария выпрямилась и усмехнулась:
– А вы нэ бачите? Полы моем…
– А вы хто? Шо тут було?
– НКВД. Я тут вбыраюсь з двадцать девьятого року.
Толстяк молча поднялся на второй этаж, осмотрел все кабинеты – чисто убранные, с вымытыми полами – и спустился на первый, где Мария и Оксана, как ни в чем не бывало, продолжали убирать очередной кабинет.
– Як тебе звати?
– Мария Журко…
– Розумна жинка. Тут в нас будэ гебисткомиссариат. Будеш тут прибирати і отримувати зарплату. Дивчину сюды нэ таскай, нэ трэба.
– Дякую. А як вас звати?
– Я гебисткомиссар Панас Гаврилюк. Шпрехен зи дойч? Ты балакаеш по-германски?
– Ни, нэ можу.
– Ничого, навчишся. Продовжуй работу. Хайль Гитлер!..
Так Мария восстановилась в прежней должности на прежнем месте.
Но остальным полтавчанам повезло значительно меньше. Хотя поначалу все выглядело радужно – тысячи портретов Гитлера-освободителя заменили висевшие всюду портреты Ленина и Сталина, множество немецких агитационных плакатов с обещаниями социального рая появились поверх бывших советских плакатов и воззваний, и сотни красных флагов со свастикой вместо красных флагов с серпом и молотом украсили общественные здания. Молодые немецкие офицеры разъезжали по городу на мотоциклах и в открытых автомобилях и, пользуясь книжечками-разговорниками, по-гусарски заигрывали с украинскими дивчинами:
– Панэнка, дэвушка! Большевик – конэц! Украйна!
– Украина, – смеясь, поправляли дивчата.
– Йа, йа! У-край-ина! Ходит гулят шпацирен битте!
И дивчины охотно принимали приглашения завоевателей всей Европы…
Через неделю после вступления немцев в город Полтавский музыкально-драматический дал для них оперетту «Наталка Полтавка», а вскоре под руководством немецкого пианиста Зигфрида Вольфера актеры уже на немецком языке играли «Мадам Баттерфляй». И германские офицеры так вольно чувствовали себя на этих спектаклях, что вешали на спинки кресел свои пояса с пистолетами в кобурах.
3 декабря 1941 года и 1 июня 1942 года Адольф Гитлер лично посетил Полтаву и выступил с балкона детского сада № 14: «Вся человеческая культура зависит от успеха германской армии. Фюрер германского рейха освободил вас от преступников-большевиков. Покажите вашу благодарность – поезжайте на работу в Германию. Это в ваших интересах трудиться для Германии». Затем фюрер провел совещание с фельдмаршалами фон Боком и Паулюсом и, проезжая по улицам, вышел из машины и угостил конфетами полтавских детей.
Но «медовый месяц» освободителей и освобожденных длился недолго. Начиная войну, фюрер рассчитывал за девять недель дойти до Урала и Баку, а когда этот блицкриг забуксовал под Москвой, немцы перестали играть в строителей «настоящего социализма» и принялись открыто грабить «освобожденных» – точно так, как недавно это делали сталинская продразверстка и комбеды. «Іншими словами, – говорили старики на полтавском рынке, – кожен раз, коли комуністи, фашiсти чи ще хтось обіцяют побудову “суспільства соціальної справедливості”, чекай грабежів». Иными словами, каждый раз, когда коммунисты, фашисты или еще кто-то обещают построение «общества социальной справедливости», жди грабежей. За время оккупации немцы только из Полтавской области вывезли 392 900 голов рогатого скота, 1 113 000 свиней, 109 906 коней, 241 000 овец и 12 838 000 пудов хлеба.
И уже с первых дней «освобождения» полтавские дети ощутили на себе прелести нового порядка: по распоряжению рейхcкомиссара Украины Эрика Коха были закрыты все школы, кроме начальных. Адольф Гитлер сам определил предельный объем знаний для славянских детей: «В лучшем случае им можно разрешить выучить значения дорожных знаков. Изучение географии должно быть ограничено одним: столица рейха – Берлин. Математика и подобные науки вообще не нужны». Таким образом, в начальной, четырехклассной школе разрешалось учить детей только писать, читать и считать. Зато вводились физические наказания. «Сейчас, в военное время, – сообщил выходивший в Полтаве «Педагогический информационный бюллетень», – учитель для поддержания дисциплины может применять методы физического воздействия на недисциплинированного ученика. Этого требует время. От пощечины еще никто не умер, и удар линейкой ничуть не смертелен. Мальчишки в играх терпят и боpльшую боль».
Еще боpльшую боль применили к взрослым. 14–17 сентября на подходе к Полтаве, в Великих Сорочинцах, на месте знаменитой гоголевской «Сорочинской ярмарки», немцы повесили и расстреляли 86 жителей. Но это были только цветочки. Утром 20 сентября, закончив уборку гебиcткомиссариата и уходя домой, Мария увидела развешанные на всех улицах объявления:
«Все жиды Полтавы и ее окрестностей обязаны явиться 22-го сентября к 8 часам утра к гебисткомиссариату на Октябрьской улице. Взять с собой документы, деньги, ценные вещи и теплую одежду. Кто из жидов не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян. Кто из граждан проникнет в оставленные жидами квартиры и присвоит себе вещи, будет расстрелян».
До начала войны в Полтаве жило 22 тысячи евреев. Перед вступлением немцев часть из них успела эвакуироваться, но остальные… Солнечным утром 22 сентября, выйдя на крыльцо гебисткомиссариата задолго до восьми утра, Мария увидела их своими глазами. На Жовтневой улице уже стояла огромная толпа – больше шести тысяч перепуганных женщин, стариков и детей с чемоданами и заплечными котомками. Как требовало распоряжение, многие были в зимних пальто и шубах, полагая, что их повезут куда-то на север. В восемь утра появились зондеркоманды СС и украинских полицаев, они построили толпу в колонну и повели на юг. Сначала Марии было с ними по пути, и она видела в этой колонне женщину – худую, потную, противную, в сбитом набок парике – запрягшись в двухколесную тележку, та везла в ней шестерых, мал мала меньше, детей – рыжих, конопатых и кучерявых. За ними старик со старухой толкали перед собой ножную швейную машинку, нагруженную фибровыми чемоданами и узлами…
Но затем колонна пошла вниз по улице Фрунзе, а Мария свернула в переулки и направилась к Прудам, до своей хаты. Тут, по дороге, ей открылась неожиданная картина. Хотя в немецком приказе было ясно сказано, что все, кто проникнет в оставленные жидами квартиры и присвоит себе их вещи, будут расстреляны (привилегию грабить евреев немцы оставили за собой), удержать полтавчан от соблазна обогатиться за счет ушедших на смерть оказалось невозможно. То здесь, то там дорогу Марии торопливо, как мыши, перебегали женщины и мужчины, нагруженные стульями, коврами, фарфоровой посудой с могендовидами, швейными машинками «Зингер», меховыми шубами и даже детскими игрушками.
Но Мария этим грабежом не соблазнилась. Правда, через пару часов, когда совсем рядом, в двух километрах от Прудов, на стрельбище между деревнями Пушкаревка и Супруновка, стали трещать пулеметы, и немая Оксана пугливо глянула на мать – мол, десь цэ стреляют? – спокойно ответила:
– Та за Пушкаревкой…
«Чому?» – снова спросили огромные очи дочки.
– Жидов расстрiлюють, – пояснила Мария и вышла из хаты закрывать ставни. То же самое сделали все их соседи по Прудам и, вообще, в Полтаве. Антисемитизм издавна был такой же частью украинского сознания, как православие и католицизм, и полтавчане спокойно отнеслись к тому, что «освободители» вывели на загородное стрельбище женщин, стариков и детей, заставили их вырыть трехкилометровую траншею-могилу и расстреляли из пулеметов. Тех же, кто не явился по приказу, еще долго разыскивали с помощью полиции и местных добровольцев-антисемитов. Окружив центральный, возле церкви на улице Чапаева, рынок, они заставляли всех произнести слово «кукуруза». У тех, кто говорил «кукугуза», проверяли документы. Людей с еврейской фамилией тут же швыряли в грузовики, вывозили в тот же яр за Пушкаревкой и расстреливали. Заодно был расстрелян и цыганский табор, стоявший возле Белой горы по дороге на Харьков.
Но куда больше, чем расстрел евреев и цыган, напугало Марию появление 1 сентября 1942 года нового гебисткомиссара Брененко. Потому что накануне, в августе, она своими глазами увидела, как в открытом грузовике «Bogward» немцы привезли в тюрьму на улице Пушкина захваченных под Полтавой партизан и среди них Миколу Гусака, ее бывшего спасителя и адъютанта Кривоноса. А первым распоряжением нового, взамен Гаврилюка, гебисткомиссара Брененко был приказ расстрелять всех арестованных, находящихся в полтавских тюрьмах. В тот же день шестьсот арестантов раздели догола, грузовиками вывезли к глинищу за школой № 27 и расстреляли из пулеметов. Заодно были убиты тысяча обитателей полтавской психбольницы, в том числе сто детей.
Так новый гебисткомиссар отметил свое назначение на пост полтавского градоначальника.
Его вторым административным актом было учреждение в здании опустевшей психбольницы Клуба офицеров, который вскоре стал почти открытым публичным домом для высшего офицерского состава.
А третьим значимым жестом гебисткомиссара Брененко был особый подарок, который он вручил Марии – кусок мыла с надписью «Juden-seife» (сделано из жира уничтоженных евреев), и приказ начинать каждый день с молитвы: «Heil main fuehrer, я обещаю выполнять мои обязанности во имя любви к фюреру».
Затем началась практически насильственная отправка молодежи на работу в Германию. Правда, первая группа «добровольцев» – 500 юношей и 500 девушек – выехали из Полтавы еще в мае 1942 года при Панасе Гаврилюке. На вокзале их провожали с тем же духовым оркестром Полтавской музыкальной школы, который год назад играл на проводах бронепоезда «Маршал Буденный», а также с цветами и пышными речами немецкого командования и гебисткомиссариата. На вагонах было написано: «ARBEIT MACHT DAS LEBEN SIS» («Работа делает жизнь сладкой»). Радио исполняло новый гимн немецкой молодежи: «Deutschland, Deutschland uber alles…», «Сегодня Германия наша, завтра весь мир будет наш!».
Но с появлением Брененко набор полтавской рабочей молодежи стал похож на простую охоту за ней. Парней и девчат отлавливали на базарах, в новооткрытых частных столовых, в банях и даже в церквях. За два года оккупации из Полтавы было отправлено в Германию восемь тысяч юношей и девушек. А всем, кто был старше четырнадцати лет, было приказано пройти регистрацию в городской комендатуре и получить удостоверение личности, которое полагалось обновлять каждые три месяца. По исполнении шестнадцати лет ты уже признавался годным к работе на рейх. «Keine arbeit, keine fressen», – твердили немцы. Кто не работает, тот не ест.
И Мария поняла, почему бывший рейхскомиссар Гаврилюк сказал ей не таскать Оксану в гебисткомиссариат – в апреле 1942 Оксане исполнилось четырнадцать лет. То есть еще год-два и…
В октябре, когда 346 подростков, схваченных на базаре, в церкви[1], двух банях, Крестовоздвиженском женском монастыре и просто на улицах, принудительно, в товарных вагонах и под вооруженной охраной, отправили с железнодорожного вокзала в Германию, Мария подобрала на улице написанную от руки листовку. И прочла короткие стихи:
Сумні обличчя у людей.Куди не глянь, сама руїна —Невже це наша Україна?І сльози ллються із очей.Біля розстріляних батьківЛежать убиті немовлята…Безвинно карано людей,Ще й немовляточок-дітей.Назавтра Мария, тщательно вымыв все полы комиссариата, один кабинет – зондерфюрера Фридриха Шванкопфа – оставила напоследок. Майор Шванкопф неплохо говорил по-русски и с явным интересом поглядывал на Марию, когда заставал ее утром в комиссариате. Правда, если его взгляд опускался по ее фигуре и ногам к ступням, этот интерес тут же угасал – Мария была босая. Конечно, дома у нее хранились и туфли-лодочки, и даже фетровые ботики, купленные ей Семеном Кривоносом. Но еще при первой встрече с толстячком Гаврилюком Мария заметила, как он брезгливо поморщился, увидев ее босые, красно-коричневые и потрескавшиеся ступни. Мария тут же взяла это на вооружение, как лучшую защиту от мужского интереса к ней всех немецких офицеров, и даже зимой, в двадцатиградусные украинские морозы, приходила на работу почти босиком – в самодельных чунях. Впрочем, босиком или почти босиком – в чунях из автомобильных покрышек – ходила в то время половина, если не больше, полтавских жителей. И почти у всех женщин ступни были такие же, как у Марии – растоптанные и потрескавшиеся от обязательной летней работы: замешивания и утрамбовки на кизяки коровьего навоза с соломой…
«Сумні обличчя у людей. Куди не глянь, сама руїна – Невже це наша Україна?» – не выходили из ее головы стихи из вчерашней листовки.
Когда зондерфюрер Шванкопф вошел в свой кабинет, Мария сделала вид, что только что закончила уборку – взяла за дужку ведро с половой тряпкой и пошла к двери. Но остановилась в шаге от нее:
– Герр Шванкопф, можно у вас спросить?
Герр Шванкопф, высокий и похожий на голливудского актера, сказал:
– Битте. Я всегда рад упражнять мой русский язык.
– Данке шон. У моих суседей е дочка, ей чотырнадцать рокив, но вона немая. Ну, не балакае, понимаете?
– Понимаю. Doofe.
– Ее могут узяты на работу в Германию?
– Битте! – снова улыбнулся герр Шванкопф. – Doffe это есть ошень харашо! Все doofe ошень харашо работать! Никогда не перечают! Я буду сказат герру Брененко про вашу девоpчку.
– Дякую, – поспешно сказала Мария. – Данке шон.
И с этого дня перестала выходить на работу в гебисткомиссариат. А дочку переселила в землянку на склоне к Лавчанскому Пруду.
7
Как я уже написал, летом склоны холмов у Лавчанских Прудов зарастали крапивой и бурьяном выше человеческого роста и так густо, что даже собаки в них не совались. Найти среди этих зарослей обвалившиеся лазы не то в пещеры, не то в древние, времен Первой мировой войны, землянки было почти невозможно. Но во время походов Марии и Оксаны на стирку к Северному пруду Оксана показала матери несколько лазов, где она пряталась, когда «сбежала из хаты». А потому землянка, которую они выбрали, была лишь снаружи похожа на кротовью нору. А в глубине, в двух метрах от узкого лаза, эта нора расширялась и поднималась в маленькую, но сухую и никакими дождями не заливаемую пещеру.
За три ночи Мария и Оксана вручную, без всяких лопат, расширили этот лаз так, что смогли протащить в него бабушкин матрац, а потом вновь засыпали дерном и землей настолько, что лишь девчоночья худоба позволяла Оксане протиснуться внутрь. И это действительно спасло ее от угона в Германию – уже с октября 1942-го немцы, взбешенные своим отступлением от Москвы, ожесточенным сопротивлением Ленинграда и Сталинграда, стали открыто грабить «освобожденную» Украину («Вы не можете даже представить, сколько в этой стране сала, масла и яиц!» – объявил немцам Герман Геринг). Зондеркоманды облавами прочесывали каждый квартал и сгоняли молодежь на призывные пункты для отправки в Германию. Всех, кто пытался укрыть своих детей от «добровольного призыва», карали огромными денежными штрафами и изъятием живности – свиней, гусей, кур…
Правда, каким-то совершенно непостижимым образом слухи о каждой предстоящей облаве облетали город быстрей колонны немецких грузовиков и мотоциклов. Точнее – немцев выдавала их европейская организованность. Когда у зданий гестапо, полиции или гебисткомендатуры раздавался рев сразу двух десятков моторов, то тут же взлаивали все дворовые собаки не только на ближайших улицах, но и дальше, вплоть до окраин. И полтавчане спешно прятали своих детей в сараях, погребах и на чердаках, а Мария бегом отправляла Оксану в нору-землянку у Лавчанского Пруда.
Поначалу эта игра даже нравилась Оксане. Лежишь себе в темной пещерке и вспоминаешь довоенную жизнь. Песни из любимых фильмов «Вратарь», «Дети капитана Гранта», «Искатели счастья», «Волга-Волга»… Или: «В парке Чаир распускаются розы, в парке Чаир расцветает миндаль…» Конечно, петь у немой Оксаны не получалось даже в темной пещере – слова застревали в горле. Но мычать «Утомленное солнце нежно с морем прощалось…» – это она могла, ведь никто ее мычанье не слышал.