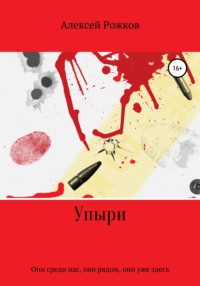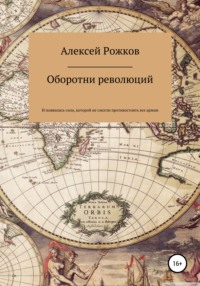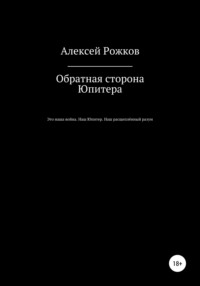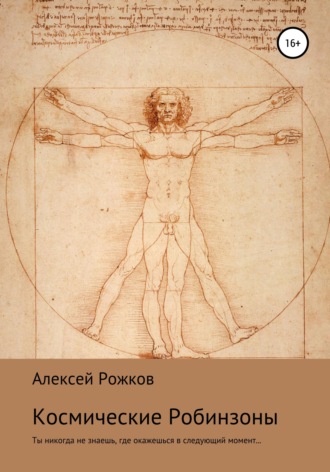
Полная версия
Космические Робинзоны
Комнату в пресловутом «дешёвом» отеле они арендовали на двоих с Василием Ивановичем Поппой, мужчиной умудрённым опытом, бывшим полковником, с деловитой седой шевелюрой, усами, аккуратными баками и сохранившейся армейской выправкой. Единственным недостатком Поппы было то, что ночью его одолевали неконтролируемые храп и метеоризм. К своему ужасу, про этот небольшой «сюрприз» Санёк узнал в самый неподходящий для этого момент, потому что Поппа его или тщательно скрывал, или может и сам о нём не догадывался, а рассказать ему об этом их товарищи по несчастью видимо из приличия постеснялись. Хотя может и не постеснялись вовсе. Просто те, кто уже имел честь ночевать вместе с Поппой, всеми фибрами своей души хотели поделиться этой счастливой возможностью с другими, видимо, чтобы и им жизнь на нашей маленькой планете мёдом не казалась. Ну вот и выпала Поппина карта в этот раз, ничего не подозревающему о своей несчастной участи предстоящей бессонной ночи Саньку. Шурик, вместе с гражданином Поппой, усталые, но довольные получили долгожданный ключ от номера на ресепшене старой обветшалой гостинцы. Отель, разумеется, на отретушированных фото выглядел в интернете гораздо наряднее и свежее чем наяву, что в очередной раз остро кольнуло Александра сигналом неприятных предчувствий. Средств на персональные номера не было ни у кого, поэтому все кое-как скучковались по парам, а Саньку же в соседи достался, а как выяснилось позднее, досталась Поппа.
*****
Счастливые и не подозревающие подвоха, они с Поппой поднялись на второй этаж, и даже выкурили по сигаретке на мансарде с видом на римские кварталы, дома-муравейники и затейливые дворики. Здесь же им составила компанию статуя очередной античной бабы, разумеется топлес и без рук, которая задумчиво стояла почему-то прямо на крыше. Она оказалась весьма кстати, в связи с чем Санёк и затушил о монумент обнажённой девицы окурок. Блаженство кинуть кости на красную атласную двуспальную кровать после мытарства по итальянским городам и весям и осмотра нескончаемых творений плодовитых Рафаэлей, Микеланджелов, Боттичелей и прочих мастеров ренессанса, стало для утомлённого Шурика навязчивой фантазией.
Рафаэли и Боттичелли были ребята не промах, но по всей видимости с нетрадиционными наклонностями, потому как лепили в огромных количествах голых мужиков с неприкрытыми достоинствами, от которых уже просто рябило в глазах. Везде куда ни посмотри, обязательно наткнёшься на застывшее в мраморе произведение искусства, а у этого изваяния обязательно будет выполненный с любовью и высокой степенью реалистичности признак мужской гендерности. Просто страна застывших в веках детородных органов какая-то. Всё-таки античные скульпторы явно были заднеприводными с яркой выраженной голубизной, переходившей местами в синеву. Иначе чем объяснить то, что ваяли они голых мужиков несравнимо больше, чем баб? В итоге болтов они за прошедшие века понаделали столько, что просто уму не постижимо, вот только Саньку итальянская мода на крайнюю плоть была не по душе и хотелось отдохнуть, закрыть глаза и больше никогда этого сраму не видеть.
Так вот, когда наши друзья, Шурик и Василий Иванович Поппа, счастливые и уставшие открыли дверь шикарных двойных, судя по красочным фото в интернете, апартаментов, то их ждало полное разочарование, можно даже сказать фиаско. Шикарные апартаменты в стиле ампир, изображённые на рекламных картинках соответствовали действительности так же отдалённо, как Земля отстояла от Марса. Перед разочарованно опустившими руки Саньком и Василием Ивановичем открылась небольшая комнатка-конура со стоящей в самой её середине и заполнявшей всё пространство комнаты одной единственной двуспальной кроватью. Расстояние от края «брачного ложа» до каждой из четырёх стен было не более полуметра, поэтому раздвинуть его не было никакой физической возможности и даже наоборот, чтобы пройти к нему надо было протискиваться боком. Комнатка была как будто сделана для лилипутов – вроде всё в ней похоже на настоящее, взрослое, только очень маленькое. Размер «двуспальной кровати» оказался совсем небольшим и как бы уменьшенным, масштабированным ровно раза в два. Нет, форму она сохраняла именно двуспальную, а вот её ширина, увы, могла вместить обоих наших героев, Санька и Поппу, только в случае, если бы они крепко друг друга обняли. Александр и Василий Иванович оценивающе посмотрели друг на друга и разочаровано покачали головами, мол нет, это исключено.
Но что самое характерное, несмотря на всю свою подлость, хитрые итальяшки оказались очень изобретательными. На самом деле фотки, которые разглядывали в интернете Санёк со всей честной компанией, были абсолютно подлинными и реальными и полностью соответствовали натуральному интерьеру комнаты. Алчные макаронники придумали уникальную уловку для зазевавшихся, поверивших в визуальную иллюзию и ничего подозревавшихся туристов, никогда не сталкивающихся с акулами капитализма. Дело в то, что во всю противоположную стену номера, куда зашли новоиспечённые «молодожёны» – Шурик и Поппа, красовалось огромное зеркало с удаляющим эффектом, в котором отражалась вся комната, что визуально производило впечатление обмана зрения. Казалось, будто гостиная большая, а в ней реально стоят две кровати. Ровно так и сфотографировали мастера оптических рекламных иллюзий эти горе-апартаменты для наших незадачливых соседей, которые никак не желали спать друг с другом и кидаться в крепкие мужские объятия.
–Ну что ж, молодой человек, давайте как-то по очереди что ли будем спать… Я вот настолько устал, что сейчас мне всё равно с кем, где и как. Вы уж меня простите старика, но я ложусь и ухожу в астрал, – заявил Поппа и тут же исполнил своё обещание.
Он снял ботинки, отчего его обнажившиеся носки стали источать по всей комнате зловонный слезоточивый запах, многократно усиливавшийся в зеркальной клетушке без окон и естественной вентиляции. После этого Василий Иванович тут же откинулся на кровати и незамедлительно стал погружаться в анабиоз.
– Ладно не в анал ты уходишь, – неслышно прошептал про себя Санёк, но тут он горько ошибся.
Попповский астрал тут же стал для него именно аналом, потому что к зловонному запаху тлетворных грибковых Поппьих носков через минуту добавился жуткий храп-громовержец, сопровождающийся победными праздничными залпами метеоризма. Тяжёлого, горохового, непереваренного старческим желудком Василия Ивановича, страдающего несварением и расстройством прямой кишки.
От такого ужасающего спектакля Санёк вынужден был стремглав бежать, взяв ноги в руки, что и явилось причиной тому, что возвращаться в номер где и в прямом, и переносном смысле его ждал и одновременно с этим ждала Поппа, он конечно же не спешил. Вот и гулял наш Шура по Риму с чёткой установкой либо нагуляться так, чтобы отключиться в Поппьей келье-морилке, либо вообще прошататься до утра, чтобы с утра свалить из газовой камеры смертников, уготованной ему вездесущим Поппой. В полнейшем расстройстве чувств Александр Неспящий стоял и слушал блеяние уличного итальяшки под гитару и грустные плачущие глаза собаки. Вдруг на очередной балладе Санёк понял, что тут что-то неправильно, что-то не так. Точно, да это же песня группы Браво «Как жаль». Да-да, точно, «Когда иду по этой мостовой, я думаю о Вас…»! Откуда этот тощий макаронник знает эту песню? И почему он её так чисто поёт? Постой-ка, постой…
*****
– Да ты по всему видать наш, русский, – неуверенно сказал уличному певцу в центре Рима Санёк.
– Сеньоры, сеньориты, Фортунати! – зазывал музыкант и выпрашивал прохожих кинуть в шляпу пару медяков, – Да русский, русский, не кричи, что разорался.
– Вот бывает же такое… В центре Рима встретил нашего. А что ты всякое фуфло играешь? Давай я тебе помогу, щас мы быстро тебе денег на ужин насобираем, дружище!
Шура бесцеремонно стал снимать с исхудалого, сопротивляющегося артиста гитару.
– А как, кстати, твою собачку зовут?
– Фортунати, Счастливчик по-нашему…
– Да, ну и имечко… Что-то на счастливчика-то он у тебя как раз меньше всего похож. Ты его вообще кормишь чем-нибудь? Глаза вон какие жалостливые, того и гляди или подохнет, или заплачет, дистрофик какой. Меня, кстати Сашкой кличут.
– Ну а что ты хочешь, такому больше денег дают. Сомневаюсь я, чтобы их наваливали откормленному мускулистому амстафу за щедрую душу полные штаны. А на Счастливчика иной раз перепадает пара монет, да и сдохнет не жалко, таких вон счастливчиков в каждой римской подворотне в базарный день за три копейки десяток. Да что ты тянешь гитару-то, это ж моя кормилица, если ты её сломаешь, мне того, кранты. Тут гитары-то недешёвые, как собственно и всё остальное.
– Да не дрейфь, дружище, солдат ребёнка не обидит. Сейчас исполним концерт в лучшем виде, денег накидают по самые не хочу…
– Ну если ты так думаешь, попробуй… Но учти, этих итальяшек хрен чем проймёшь, они жадные, зимой снега не выпросишь. К тому же все здесь пресытились искусством, у них вон Повороти на площади поёт, шедевры на улицах стоят, Папа Римский вещает, а тут ты с гитаркою на русском. Сомневаюсь я, чтоб тебе хоть одну монету кинули.
– Да не бывало ещё такого! Чтобы мне и монетку не кинули!
И действительно у Санька был опыт, правда один раз он был пьяный, а другой раз, как водится, очень пьяный, когда для таких же вот унылых уличных музыкантов он устраивал на их же инструментах концерты, и народ накидывал весьма солидные суммы. В первом случае это произошло в Москве, в подземном переходе. Шурик шёл, набравшись водки и курицы гриль из Гостиницы Россия, где он приятно выпивал с приятелем видом на Кремлёвские огни, и в подземке между улицами наткнулся на одинокого гитариста. Тот коряво и бездарно исполнял популярные композиции, за которые никто из прохожих и не думал платить и даже наоборот, все старались прибавить шагу и обойти стороной бедолагу, издававшего кокофонические звуки. Санёк, разогретый парами алкоголя и сочной курицы, по доброте душевной отобрал у неудавшегося Джимми Хендрикса гитару с усилком и микрофоном и устроил импровизированный рок-концерт в духе Би Би Кинга и Чака Берри, собрал небольшую толпу, которая приплясывала, хлопала в ладошки под энергичные ритмы блюза и в итоге щедро набросала в шляпу попрошайки-музыканта бумажек и медяков.
Другой раз это произошло рядом с пляжем в Туапсе, точнее на его выходе, под железнодорожным мостом. Железка пересекает весь периметр черноморского побережья нашей страны, от неё едко пахнет продуктами жизнедеятельности пассажиров, углём и битумной ниткой, что, впрочем, нисколько не смущает отдыхающих. Санёк, накупавшийся, обожжённый горячим южным солёным солнцем и только что отведавший чурчхеллы, наткнулся на каких-то замызганных бродячих панков с гитарой, нестройно ноющих мимо нот песни Гражданской обороны. Александр был разгорячён теплом и морем и обильно напоен разносимым по пляжу лицами армянской национальности разливным коньяком.
– Коньячок-чок-чок-чок, – кричал коньячный разливающий зазывала, бредущий по раскалённому песку в белом грязном фартуке на голое тело, огромной кепке-аэродроме и с канистрой за спиной.
– Коньячок-чок-чок-чок, – вторило ему эхо из всех уголков приморского общественного пляжа.
– Коньячок-чок-чок-чок, – отдавалось в Саньковском мозгу, разомлевшем на сорокоградусной жаре в позе морской звезды.
Шура одну за другой пил рюмки коньячка-чка-чка-чка и бежал, обгоревший на палящем солнце в ласковые прозрачные воды тёплого парного Чёрного моря, в котором он приятно растворялся, и галлюциногенный коньяк превращал при нырянии его ладони в неоновые. Александр плыл, поглощённый благостной водой, в ультрафиолетовом свете, как в молоке, задержав дыхание в ласковых морских волнах, словно человек-амфибия. Ему казалось, что он – Ихтиандр и может дышать под водой. Да он и стал под воздействием палёного армянского пойла Ихиандром, получеловеком-полурыбой, смотрел на неоновые руки и наблюдал загадочные картины подводного мира… Где ты, моя Гуттиэре?
Санёк покачиваясь вышел с пляжа, прикупить ещё чурчхеллы и мороженного на рыночек за мостом, и не смог пройти мимо горе-музыкантов, которым никто не давал ни копейки, ни ломанного медного гроша за их отвратительный безголосый вой и бренчание кривыми пальцами на расстроенных гитарах. В праведном гневе он отобрал у криворуких длинноволосых подростков в рваных джинсах и фенечках инструмент, и бойко грянул свой излюбленный блюз с запилами и словами на английском языке, правда выдуманными, но звучащими весьма в кассу. Вокруг новоявленного последователя Зинчука тут же собралась толпа щедрых зевак. На нашем юге, тем более в Туапсе, с развлечениями всегда было туго, и люди хватались за любую, самую нелепую возможность расстаться с честно заработанными деньгами, которые они копили весь год, чтобы потратить их на берегу черноморского побережья. В связи с этим бичующим патлатым подросткам досталась в этот счастливый для них день весьма солидная, заработанная Саньком сумма, тут же потраченная ими на хавчик и дешёвый портвейн, впрочем, из неё наш герой тоже в общем-то без тени стеснения отщипнул ровно половину.
*****
В связи с этими событиями и ошеломляющим уличным аншлагом, у нашего любимчика толпы сомнений в своём успехе на концерте в центре Рима как-то даже и не возникало. Он бодро схватил гитару, подстроил лады, прокашлялся, и начал оглашать окрестные улочки громким русским блюзом и рок-н-ролом. Потом переключился на Цоя, Гребенщикова, выкладывался и орал по полной, скакал, кривлялся, что только не делал. Разве что до гола не разделся, хотя уж даже и было совсем вознамерился от безысходности и это действо свершить, но что-то его остановило. Он уж и подбегал к идущим по улице группам молодёжи и прочим прохожим, и исполнял перед ними пританцовывая цыганские напевы, тряся грудью и надрывно декламируя «Ах ручеёк мой, ручеёк» и «К нам приехал, к нам приехал», тряся буйной головой и лысой шевелюрой. Но увы, всё тщетно.
Ведь что характерно… То, что в России вызвало бы и всегда вызывало настоящий фурор, здесь, в Риме, оставило прохожих абсолютно безучастными и равнодушными к излияниям израненной русской души. Только одна маленькая девочка, лет пяти, в наивной детской юбочке, подошла, погладила Фортунати, что-то сказала на детском итальянском, типа «рогацци-карабинери» и тут же убежала, кинув в шапку пару маленьких монеток. И это всё, всё что удалось заработать за полчаса непосильного музицирования…
– Ну я ж тебе говорил. Это тебе не Россия, приятель, им тут другое надо… Эх, скучаю я по родине, – мрачно сказал хозяин гитары, скептически глядя на Саньковские потуги.
Шурик разочаровался и обиделся на равнодушных итальяшек, молодёжь и стариков, праздно идущих мимо, которых русская музыка никак не трогала. Этим жлобам в костюмах от Версаче было жалко даже одно единственное паршивое евро подать ближнему в центре католического христианства. Более того, спустя какое-то время две упитанные итальянские девочки подошли и начали просить денег у Санька. От их наглости он просто онемел и только замотал головой, мол нет, денег нет, самим надо.
– Да… Вот те на… Слушай, во какие жлобы у вас тут живут, всего два цента дали за концерт. Неожиданно…
– Ну а ты как думал? Тут такое не любят. Здесь надо поплакать, пожаловаться, тогда может дадут. А твой Цой им тут даром не нужен, другой менталитет, другие ориентиры…
– Как же ты сюда умудрился попасть? И как ты вообще тут живёшь и существуешь?
– О… Это долгая история полная ужаса… Ну ладно, пошли, поздно уже, темно. Скоро метро закроется и всё, придётся ночевать на улице. Я вроде на ужин себе чуть-чуть насобирал, пока тебя не было, пошли по дороге расскажу, вдвоём веселей.
Глава 3.
В наших сновидениях мы всегда одной ногой в детстве.
или грустная история Бременского музыканта.
Планета Земля, Италия
Город Рим, 12 апреля 2000 года.
Грустный итальянский уличный музыкант с русскими корнями, вынужденный интеллигент-эмигрант, томящийся муками и думами о Родине, собирал свой скудный небогатый скарб в большую холщовую сумку. Это был невысокий тщедушный человечек, очень худой, болезненный, с глубокими впавшими глазами и чёрными зрачками в тусклых глазницах. Щёки у него местами плохо выбриты, губы тонкие, безжизненные, а нос торчит на скуластом лице как у Буратино. Весь он какой-то пожёванный жизнью, но при этом не теряющий присутствия духа. Волосы музыканта были давно не ухожены, не стрижены, напоминали паклю, он собрал их сзади в косичку, перевязанную резинкой. Весь внешний безысходный вид менестреля и огромные грустные глаза, покорные судьбе, делали его поразительно похожим на Ослика Иа из мультика про Винни-Пуха. Одет парень был в старые, видавшие виды джинсы, стоптанные туфли с выпирающими большими пальцами, то и дело грозившими прорваться на свет Божий, и старую серую куртку, тоже «под джинсу».
Эта светло-серая куртка напомнила Саньку про старые, добрые стройотрядовские годы, когда он вместе с институтскими друзьями тянул линию связи под ЛЭП. Ах, эти дивные студенческие каникулы, советская романтика! Мошкара, пиво с водкой, прыщавые женщины в палатках, драки с местными, ну и конечно песни под гитару, куда же без них. Стройотрядовская жизнь очень хорошо запомнилась Шурику тем, что в ней было всегда холодно и жёстко ночами спать в палатке на земле и постоянно кончались сигареты, а посему курил он с друзьями всякую лабуду типа листьев дуба, коры клёна и выпотрошенных, размоченных дождём, бычков Примы. Помогало ли это утолить никотиновый голод? Вряд ли, но после коры дуба и сушёного чертополоха, уже точно не хотелось курить ничего, а башка трещала так, как будто ты бухал неделю. Хотя собственно почему «как будто»? Тогда всем раздавали такие куртки. Правда к концу смены они были испещрены нашивками и шильдиками, типа «СМУ-88», «БАМ», «Спецназ», и щедро разрисованы шариковой ручкой местного студенческого художника от слова «худо» картинами из жизни соцреализма на фронтах комсомольских строек.
На голову болезненный паренёк нахлобучил длиннополую, обвисшую, чёрную шляпу, по всей видимости часто служившую ему крышей и зонтом во время дождей. Во всём внешнем виде артиста было что-то от иллюстраций из книг Достоевского. Именно таким представлял я себе Раскольникова из «Преступления и наказания» и князя Мышкина из «Идиота».
Все нехитрые пожитки грустного музыканта, которые он паковал в бездонный холщовый мешок, состояли из складного стульчика, маленькой колонки-усилителя, шляпы для взимания подношений, остатков скудного обеда, нескольких старых газет и ещё какого-то мусора, свойственного самым бедным слоям населения. Большей половине этих вещей прямое место было в ближайшем мусорном контейнере, однако он его бережно хранил за неимением ничего большего. Я участливо помог парню и поднял его сумку-мешок с нехитрым скарбом.
После того как вещи были собраны, молодой человек отвязал верёвку, служившую поводком «Счастливчику», такому же грустному и худому, как и его владелец. Говорят, собаки похожи на своих хозяев. «Счастливчик» был не только не исключением, но даже наглядным доказательством этой народной приметы. Собственно, одинаковый образ жизни и делает двух существ из разных биологических видов – человека и собаку – похожими друг на друга. Естество определяет наше существование и сознание. Фортунтати, наверное, хотел бы иметь красивый кожаный ошейник, дорого́й, с выбитыми на блестящей железной бирке именем и адресом… Но увы, довольствоваться ему приходилось накинутой на шею матерчатой удавкой. Да и адреса-то для набития на ошейнике у него никакого и никогда не было, потому что не было ни квартиры, ни комнаты, ни даже угла.
Верёвка была накинута на собаку так, для видимости, потому что никуда убегать Фортунати-Счастливчик от грустного музыканта не хотел, да и некуда ему было бежать в этом огромном, и в то же время безжизненном, городе бездушных католиков, жалеющих медный грош. По причине острой истощённости, единственным вариантом сбежать, было разве что подохнуть в ближайшей подворотне. Верёвка болталась на Фортунати, как отцовское пальто на вешалке, когда пёс, так же шаркая и прихрамывая, как и его бедный хозяин, нехотя и устало плёлся домой. Цвета Счастливчик был рыжего, роста по собачьим меркам среднего, породы, сугубо итальянской, дворянской. Грустная квадратная мордочка с бородкой, чёрные, один в один как у музыканта, грустные слезящиеся глаза и стёртые жёлтые клыки – вот нехитрый портрет собаки. Физиономия Фортунати отдалённо напоминала благородных родственников по материнской линии, толи ризеншнауцера, толи эрдельтерьера, только бородёнка, как и у артиста была редкой, торчащей клоками. Уши кобеля висели как два унылых флага, а хвост, давно уже игриво не виляющий, болтался где-то сзади, как будто прибитый гвоздём. Шерсть пса была свалена колтунами, по бокам торчали голодные исхудалые ребра, а глаза были ну настолько печальны и, казалось с наворачивающейся на них слезой, что без сострадания на несчастного Счастливчика было не взглянуть.
*****
Фортунати давно свыкся со своей участью попрошайки, и единственной функцией – вызывать жалость для сбора подаяний. Он обладал не дюжим талантом, такую театральную паузу как он, не мог больше держать никто севернее Капитолия. Пёс был актёром одной роли, которую он знал в совершенстве и исполнял блестяще – грустно сидеть и смотреть на спешащую куда-то праздную толпу разно матерных живых существ, человеков разумных, гомо сапиенс. Это сложная работа, ведь надо выглядеть подобающе. Надо суметь разжалобить безразличных прохожих, каждый из которых если чего и хочет меньше всего, так это лишиться медяка в кошельке. Он лучше потеряет крохотную деньгу, выкинет в фонтан, «чтобы ещё раз вернуться», чем отдаст бездомному, помирающему с голода псу. Бессмертная строчка из «Вечной весны в одиночной камере» отражает всю суть католицизма:
«…Под столетними сугробами библейских анекдотов,
Похотливых православных и прожорливых католиков…»
Грустный хозяин и его не менее печальный пёс, оба они представляли собой яркую иллюстрацию к нетленным «Униженным и оскорблённым» Фёдора Михайловича Достоевского. Медленно плетясь, как по последней миле на Голгофу, оба, и музыкант, и «Счастливчик», шли по узким извилистым улочкам ночного Рима. Я помогал им тащить мешок, а мимо летели римские мажоры, жигало и прожигатели жизни в дорогих авто. Крича, улюлюкая и разливая шампанское в узкие дорогие бокалы, они высовывались из люков спортивных каров. Грудастые итальянские дивы, доморощенные Моники Белучи и Джины Лоллобриджиды, смеялись из окон машин над бедностью и ущербностью прохожих и весело тыкали в них пальцем. Музыкант вцепился обеими руками в свою гитару, которая болталась на ремешке на шее и, казалось, боялся отпустить её. Ведь по сути гитара была его, а точнее их, единственным кормильцем и средством заработка. Хоть и скудный, но всё-таки хлеб насущный… По всему было видно, что он ни при каких условиях не предаст свою верную подругу-гитару, не отдаст её никому, чтобы её не сглазили, не наложили проклятие, перекрывающее скудный ручеёк монеток.
Спустя какое-то время молчаливого пути, видимо чтобы скоротать долгий путь за беседой, мой новый знакомый начал свою грустную историю:
– Ну что, Александр, дорога длинная, до метро идти и идти, это если ещё успеем на последний поезд. Ты хотел узнать, как я сюда попал? Право не знаю с чего и начать…
– А ты начни сначала, – поддержал я его, пыхтя и таща мешок за человеком с собакой.
– Ладно, но учти, история будет длинная и непростая… К тому же я не знаю, поверишь ли ты…, впрочем, может оно и к лучшему… Родился я в Питере, тогда ещё Ленинграде, знаешь, наверное, что это культурная столица. Интеллигенция, искусство, город семи революций, мать его. Рос в самой обычной советской семье, типа отец – рабочий, мать – служащая… И всё было за нас предрешено заранее, панельная квартира, панельная школа, панельная жизнь… Всё как у всех, как у миллионов людей в СССР, живущих по одному и тому уже сценарию. «Родился-учился-работал и умер», «…Сотни лет сугробов, лазаретов, питекантропов…». Жили мы на окраине, где всё было ещё более среднестатистическое, чем в центре. Пустой холодильник, бананы по праздникам, вещи по знакомству из-под прилавка, водка по талонам, очереди за едой. На пустых прилавках продуктовых геометрические фигуры-инсталляции из трёхлитровых банок берёзового сока и килек в томате выставляли, потому что больше ничего не было. Вот и выкладывали их злые тётки-продавщицы то в пирамидки, то уголком, то треугольником. Помнишь ты, Санёк, эти банки с берёзовым соком? Такие большие, прозрачные, как слеза. Почему именно берёзовый сок заполнил всё место на прилавках? Не яблочный, не томатный, а именно берёзовый? Видимо был в этом какой-то особый, сакраментальный смысл. Ведь в России чего больше всего? Берёз. Они, берёзы эти, и есть символ исконной Руси. Вот и должны были чёрно-белые деревца, как сама русская Земля-матушка, в трудные годы прокормить весь советский народ одним соком, как тот Иисус Христос, что пятью хлебами пять тысяч человек накормил.