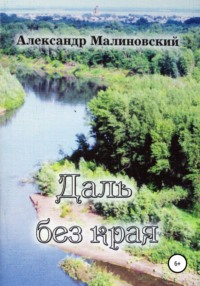Полная версия
Под открытым небом. Том 2
Когда приблизились, Александр поприветствовал Яндаева и спросил:
– Сашка-то, брат, в Ташкенте так и живёт?
– А ты кто такой, не припомню?
«Ну, вот… – упало сердце у Ковальского. – Не судьба».
– Вместе учились, я Ивана Головачёва внук, Ковальский.
– А что ж я тебя сразу не признал? Сильно изменился.
– А ты – нет.
– Ну, я что? Мне зачем меняться, остаться бы, как есть…
…Заросли ежевики удивили.
Едва поднимешь плеть, крупные ягоды, одна другой краше, будто подмигивая, манят к себе.
– Царство агатовых глазок, – удивилась Руфина. – Какое у тебя должно быть интересное детство!.. Такие облака, небо, озёра – тебе повезло очень…
«Сколько ел ежевику, никогда не думал, что так можно красиво сказать: «агатовые глазки»!» – порадовался в свою очередь Александр.
…Дома у Любаевых – никого. Вместо замка – дверная цепь наброшена на кольцо.
Александр прошёл в огород. Ни матери, ни отца там нет.
– Поехали к сыну, – вернувшись во двор, предположил Александр.
– А как же… – начала, было, Руфина.
– Записочку оставлю…
* * *Посреди широкого двора Бочаровых, куда гости вошли цепочкой, стояли Григорий Никитич и Проняй Плужников.
– Ах, Боже, какие гости! – выходя из мазанки, всплеснула руками Дарья Ильинична. Подошла и погладили Александра по плечу: – Давно приехали-то?
– Да только что. А Саша где?
– Наверное, у Гришаевых, сейчас сбегаю…
Мужики поздоровались.
– Как, дед, жизнь? – спросил, обращаясь к Проняю, Ковальский.
– Да как? Арбуз растёт, – он похлопал по животу, – а вешка, извиняюсь, сохнет…
Суслов хохотнул.
– Ну, дед, – обронил Александр и поёжился от ответа. Ему неудобно, что такое может услышать Руфина, но она о чём-то говорила в сторонке с Румянцевым и, кажется, не слышала Проняя.
– Ты, старый, полегче, – проговорил Бочаров, – а то, понимаешь…
Всё понимал Проняй. Озорно прибавил голосу громкости и возразил:
– Ну, какой же я старый? – Пошевелил губами, закусив край усов. Хитро прищурился. – Старость, вернее, её первые приметы, знаешь, когда начинаются? – Почти серьёзно посмотрел почему-то на Ковальского и, не дождавшись ответа, продолжал: – Она приходит, когда любая молоденькая, извиняюсь, бабёнка, начинает казаться красавицей, смекаешь?.. А я пока ещё бесперспективный в этаком роде… Мне моя супружница всех видней до сих пор. А она на год старше меня, вот ведь как! Такая любовь!
– Красавица, видать? – подыграл Суслов.
– Красоту в щи не положишь, – коротко отозвался дед.
– Дед, а что такое любовь, ты понял? – Суслов весело смотрел на Проняя.
– А ты знаешь?
– Знаю, – ответил Суслов.
– Ну, скажи, я антиресуюсь этим делом давно.
– Любовь – это чувство, возникающее у людей, недостаточно знающих друг друга.
– Да, – неопределённо проговорил дед. – Учёный ты, видать, парень. Запиши мне потом на бумажке – к старости сгодится!
Все засмеялись.
Проняй краем глаза подметил, что и «красивая дамочка» засмеялась, и остался доволен собой.
Пришли сразу Дарья Ильинична, Саша и Екатерина Ивановна. Во дворе стало пёстро и шумно.
– А я очки-то еле нашла, прочитала и прямо спотыкошки бегом сюда. Вас тут столько! Как хорошо-то! – радовалась Екатерина Ивановна.
Начали знакомиться.
* * *…Когда поели-попили на большой летней открытой веранде, все женщины дружно ещё малость похлопотали, убирая посуду. Потом, забрав Ковальского-младшего, пошли в сад, который, в отличие от огорода, не прямо у дома, а через дорогу. Так почти у всех, кто живёт на Дачной улице.
Мужики остались одни во дворе на брёвнышках.
Проняя так и не отпустили домой (а он и не хотел уходить, а только «для блезиру» собирался). Куда торопиться? Публика такая интересная. Дед и Суслов курили.
Первый заговорил Проняй:
– Счастливый ты, Григорий, около тебя внук. Как ни суди – радость великая! А мои не доверяют нам. Сноха не доверяет. Она, конечно… Ни однова не оставили, чтоб без них. А с ними – это всего на день-два. Пока они, родители, тута… Ну, ладно, это вам не интересно. Меня вот какие мысли жалят, как осенние мухи. – Дед помолчал, то ли собираясь с духом, то ли на «испыток», как он говорил, брал: коли будут слушать, не перебьют, согласен говорить. Все молчали. И он начал не спеша:
– Недавно имел беседу с директором школы. Кое о чём толковали. Так он говорит, что мои рассуждения направлены на подрыв устоев общества. Ты, говорит, зловредные мысли гонишь. А чего я гоню? Они сами висят в воздухе, только от них все отмахиваются, а я – нет. Я присматриваюсь и понять хочу. Вот ты, например, Ковальский… мысли мои…
Бочаров добродушно засмеялся:
– Он, Саша, тебе сейчас морочить голову начнёт. По-другому не может.
– Да не я морочить собираюсь. Помогите, чтобы голова моя из заморочки вышла.
– А что за мысль-то? – Ковальский улыбнулся.
– Да я всё свово поджидал сына, а ему неколи. План по самолётам делает – главный анжинер на заводе. Редко приезжает. Некого спросить… Шишку я родил, понимаешь… Начальника.
– Бывает и такое! – озорно согласился Суслов.
– Бывает, – легко усмехнулся Проняй, – что у невесты жених умирает, а у вдовы муж живёт!
– Что спросить-то хотел? Забыл? – добродушно заметил Ковальский.
Но дед знал, на какие лады нажимать, когда разговоры разговаривал. Пауза важна.
Он ещё чуток пожевал губами. Обнажив беззубый рот, позевнул.
– Струмент весь, что ли, износился? – улыбнулся Григорий Никитич.
Ковальский не понял, о чём он. Проняй ответил:
– Почти. Да и на кой он таперича? Цыловатца поздно, да и остальное уж неинтересно становится. А как совсем почти слепой Синегубый стал, дружок мой верный, совсем жизнь набекренилась. Грустный очень. И я с ним. – Он замолчал. Но не надолго. – Да, вот, Сашок, скажи мне: вы у себя на заводе по плану работаете?
– Конечно, как без плана можно?
– А по какому плану? – поинтересовался дед.
– Ну, по заводскому, цеховому, – уточнил Ковальский.
– Хорошо, – произнёс Проняй. – Значит наверняка и встречный план приняли. Об этих встречных планах и в газетах, и по радио строчат. Приняли?
– Так точно, приняли.
– А зачем вам встречный, скажи?
– Ну, как – зачем? Чтоб производительность росла, продукции больше для страны давали…
– Вот твой отец, Сашок, Василий Фёдорович, к примеру, делает севодни две седелки для совхоза. Приезжает за ними эта шельма Белохвостиков. А Василий ему вместо двух – четыре: я, мол, встречный план взял, а через недельку ещё две сверх плана. А их и не надо столько, седелок-то. Как это? Лошадей-то столько нет!
– Ну, они договорятся меж собой и решат: когда и сколько, – уверенно пояснил Ковальский и взглянул на Проняя.
Лицо у Проняя строгое и задумчивое. Ему всё равно «кое-что» непонятно.
– А сразу нельзя, что ли? Нормальный план брать? И не морочить голову. Без социалистических повышенных обязательств? А то ведь кажный раз переделка плана по всему государству надобится. Зачем заново столько людей тратят силы? Столько бумаги марает зазря? Есть власть. Сразу бы! Раз – и отрезали: вот вам план! И за работу, товарищи!
Ковальский смотрел на Проняя и не знал, что сказать. Не торопясь, начал:
– Нужна инициатива людей, чтобы они с азартом работали.
Поэтому принимают повышенные планы и это поощряется…
– Э-э, дружок, инициатива? Ты плати хорошо – вот и будет инициатива, а не медали давай… Как жить-то в городе, если у тебя четверо или пятеро детей, к примеру, как у соседа моего сына. Я видел…
– У нас что самое важное в производстве? – произнёс Суслов и сам же, чтобы Проняй не увёл в сторону, ответил: – Производительность труда. Верно? Верно. – Проняй, он это видел, не торопился соглашаться. – Значит, чем больше продукта даёт одно и то же количество людей, производительность больше, – сформулировал Владимир.
– Ну, дайте норму повыше, и всё тут! – воскликнул по-молодому Проняй. – Что, не можете сами дать? Верно, не можете? Ведь, если не выполняют норму, надо увольнять. Сколько народу по стране будет безработного. Что с ними делать? Всё разъяхнуться может. Уж пусть работают на маленьких планах и берут встречные… забавляются…
– Какие – маленькие планы? – спросил Владимир.
– Заниженные, – поправился Проняй. – Я так думаю: если постоянно берут встречные планы и социалистические обязательства, значит, спервачка они занижены. – Он, было, замолчал, но тут же встрепенулся, как задремавший кочет: – А знаешь, кто их занижает?
– Кто?
– Начальники! Начальник участка, цеха, что там у вас ещё?.. Ну, конечно, директор и даже министры. Все хитрят. Каждый суслик в поле – агроном, известно… Всем надо, чтобы план утвердили поменьше. Чтобы потом, за выполнение-перевыполнение, получать премии, награды… Я так вижу, дело-то идёт, хотя ни разу директора не видел, тем более, министра… А партия не даёт им такого послабления. Партии нужно больше и больше. Она вовлекает массы против вас – начальников. Вот я и думаю: кто верх возьмёт? Ведь так долго нельзя.
– Дед, ты – стратег! Издалека всё видишь? – вступил долго молчавший Румянцев.
– А это нетрудно. Газеты почитай! Меж строк проглядывает… Кто в газете пишет, чай, сам не верит тому…
Суслов покачал головой:
– Не ожидал такого. Мы там в рабочей горячке не всегда задумываемся…
– Известное дело, со стороны виднее… – обронил Проняй, – и вы мои мысли не опрокинули. Думал, что могу быть не прав, и порадовался бы этому. А тут гляжу: не пришла ещё к вам на заводах задумчивость. И мой сын Аркадий такой же, как вы… Молодняк! Вот я и стал на думах, как на вилах.
Ковальский хотел возразить, но Проняй продолжил невесело:
– Не в силах пока власть заставить так машину крутиться, чтобы на все обороты работала. Либо нет у власти силы такой, либо с машиной чтой-то… А так энтузиазму кругом полно… – Зорко оглядел всех и задал ещё один мучавший его вопрос: – Вот город затянул нас на свою сторону, оторвал от земли, а не подведёт ли? А ну оборвётся где? Внатяг больно… Помнишь, Александр Батькович, сад-то наш яблоневый, который в степи вместе сажали? Хиреть начал… К городу прикрепили, оторвали от села, как вас, и в упадке он… Не зря все эти бултыханья ещё при Хрущёве были: то с целиной, то с кукурузой… Страну надо кормить, народ. С голодным народом власти тяжело справиться будет… Вот выход и ищут… Из одной стороны…
Проняй посмотрел на Ковальского внушительно. Ожидал, очевидно, от него продолжения разговора о судьбе их общего любимца – сада, но Александру стало не до того…
* * *Во двор вернулись шумной ватагой женщины и младший Ковальский. Руфина и Саша шли, держась за руки, и улыбались.
– И смех, и грех, – говорила Катерина. – Руфина стала смотреть в колодец, споткнулась и чуть не упала в него, а Сашок схватил её так, что она больше не от испуга закричала, а от того, как крепко вцепился.
– Утонула бы, что папе тогда делать? Он её привёз, – серьёзно сказал Саша. – Мы долго ждали…
– Вот и я говорю, – подыгрывала Дарья Ильинична, – ждали-ждали, когда привезёт. Привёз, а она – бултых в колодец и опять мы одни? Нет уж! Саша нас сразу всех спас!
Ковальский и Руфина несколько раз встретились взглядами и она с тихой радостной улыбкой кивнула ему. «Мне хорошо тут, так хорошо, что я не ожидала», – говорили её глаза.
Увидела, что он понял, высвободила руку и прижала к себе Сашину головку с такими же лёгкими завитушками, как у Ковальского. И Саша не отстранился и не застеснялся. От опытных Дарьи Ильиничны и Екатерины Ивановны этот разговор взглядами не ускользнул и они улыбнулись.
Александр светился: «Её появление везде вызывает радость.
Редкий дар!..».
Ковальский-младший тоже не терялся, у него свой интерес.
И он выбрал момент:
– Дед, а ты теперь, когда папа приехал, разрешишь на Гнедом покататься?
Ковальский вопросительно посмотрел на Григория Никитича.
– У Трохиных Фёдор-то конюхом сейчас, его сынишка гоняет на лошадях и нашего заманивает.
– Ну и что? Пускай…
– Да ну, ты когда начал скакать?
– Классе в пятом, по-моему…
– Вот. И наш пусть годика два подождёт. Мал ещё.
– Ну, деда? – младший Ковальский не сдавался.
А старший, поразмыслив, согласился, но с условием:
– Саша, я тебе обещаю, исполнится десять лет – попробуем!
XVII
– Дарья, я тебе тут карасиков свежих принесла. Миколай с утра наловил. Возьми, а то кошки растащат! Мне некуда их, больна много.
Никто и не заметил, как во двор вошла Степанида – соседка Бочаровых.
Она говорила с улыбкой, нараспев, ставя большую эмалированную чашку с карасями на лавку у погребицы. Её широкое розовощёкое лицо добродушно. Она и не скрывала, что ей интересно посмотреть на гостей из города. А караси – только предлог. Всем ясно…
– Я через плетень гляжу потихоньку и никак не пойму, где это, милый ты мой, – она весело подмигнула старшему Ковальскому, – таких красоток находишь. Мой-то старший уже двух городских привозил показывать. Мы тут чуть не брыкнулись. Тощие такие и гордые. А твоя-то! Крепенькая какая. И говорунья! Я слышу.
Щёки у Руфины зарделись, она рассмеялась, чем ещё больше понравилась Степаниде.
– Частушки петь можешь? – неожиданно спросила она Руфину и упёрла кулаки в бока, будто готовясь плясать подгорную.
Руфина молчала. Она весело смотрела на соседку Бочаровых.
– Можешь или нет?
– Руфина романсы поёт, – вступился Александр.
Степанида отвела свои полный руки от того места, где должна быть талия:
– Я романсы не знаю, а вот в этой – души не чаю!
И она мягко и раскованно запела:
Лучше нету того цвету,Когда яблоня цветёт…Лица у всех в который раз озарились улыбками. Было видно, что местным соседка по душе. И они ей. А приезжие? И приезжим понравилась.
Лучше нету той минуты,Когда милый мой придёт!От ясного чистого голоса ёкало сердечко.
Будто и нет певунье её сорока пяти лет. Да и что они значат, эти сорок пять, если почти половина из них – ночки и денёчки вдовьей жизни.
И не успела певунья перевести дух, чтобы тронуть следующее слово, как вступил Румянцев, словно в некое соревнование:
Я встретил вас – и всё былоеВ отжившем сердце ожило,Я вспомнил время золотоеИ сердцу стало так тепло…Ладно Степанида, но от Румянцева Александр не ожидал.
А Николай, оттолкнувшись от тёмной сохи, подпиравшей угол крыши погребицы, вышел чуть ли не на середину двора, как на сцену, успокоил руки на груди и уверенно продолжал:
Как поздней осени пороюБывают дни, бывает час,Когда повеет вдруг весноюИ что-то встрепенётся в нас.Румянцев замолк и не успел Ковальский вслух удивиться, как все захлопали в ладоши. А Степанида, когда аплодисменты утихли, требовательным голосом спросила:
– Это – романс?
– Ага, – смягчив «г», почти шёпотом согласился Румянцев.
– И такую красоту держишь в себе?
– А что делать? – отозвался певец.
– Вечером чтоб все были у меня в гостях, – заявила Степанида. – За один романс пять частушек даю! У меня их, как семечек в арбузе. И это: не надо с собой ничего. У меня своя особая есть наливочка… Главное, чтоб романсы были.
Она замолчала. И тут в тишине прорезался негромкий, но уверенный, притягивающий к себе хрипловатый голос.
Когда б имел златые горыИ реки, полные вина,Всё отдал бы за ласки, взоры,Чтоб ты владела мной одна.Это пел Проняй.
– Всё-всё! Поняла! Согласная я! Дед, приходи на особую и ты. Я от тебя не отмежёвываюсь.
– То-то, ядрёна балалайка, – Проняй остался доволен собой: – У всякой пташки свои замашки. Нет молочка, так сливок дай!
Всем стало смешно.
Ковальский-младший, закашлявшись от смеха, как молоденький телёночек, боднул ненароком Руфину в бедро и сконфузился. Она поймала бережно его неспокойную головушку обеими руками, притянула к себе. Оба дружно рассмеялись.
А тут ещё Владимир Суслов шагнул поближе к Степаниде и попал в центр внимания. Показался около плотненькой соседки Бочаровых ещё выше ростом. Она игриво из-под козырька-ладошки посмотрела на него, как на каланчу. Прищурилась и то ли спросила, то ли предложила:
– Спляшем, что ли?
– И споём, – ответил с верхотуры Суслов.
Она, пританцовывая, пошла по кругу и только хотела запеть, но Владимир опередил.
Стоя на одной левой ноге, правой, как клюшкой, начал выделывать такие кренделя, что его сорок четвёртого размера жёлтый ботинок стал, как живой. Он взъерошил свой обычно аккуратный чубчик и получился разбитной, забубённый гуляка-парень.
– Нате вам наше, – сказал тихо, вроде бы, но все услышали, и пропел уже громко:
Сидит заяц на забореВ алюминивых штанах,И кому какое дело,Ломом подпоясанный…И тут опять выдал Проняй. Хрипловато, но от души весело пропел:
У Тараса на плешиРазыгралися три вши!Вложив пальцы в рот, засвистел по-разбойничьи.
Ковальский-младший вновь стал смеяться, мотая головой из стороны в сторону. А Ковальский-старший невольно подумал: «Там, на заводе, мы – и Николай, и Суслов, и я – какие-то все одинаковые, усреднённые. Разговариваем на казённом языке, точном, но тусклом. Здесь… Не узнать».
Проняй, повернув вытянувшееся лицо, как мог, серьёзно попросил Суслова:
– Спиши слова твоей частушки шабрихе… и мне! Сразу такую красоту не запомнить… Шедевра, а не частушка. У нас таких не могло быть, у тебя в ней индустрия: металл во всём… Да… Не сотрёшь сразу грани-то. Город – он и есть город!.. Не деревня… И про красоту запиши слова, и эти… Я уж и свои-то старые частушки забывать стал. Склероз, – пожаловался Проняй, взглянув на Суслова.
Тот решил пожалеть старика:
– Склероз – хорошая болезнь.
– Разве болезнь бывает хорошей, что городишь?
Владимир пояснил:
– А разве нет? При склерозе ничего плохого не помнишь и каждый раз узнаёшь что-нибудь новенькое…
Старик Проняй после таких слов крякнул и признался:
– Ты мне неяглым сначала показался, а теперь мерекаю: ошибся…
* * *…Гости уехали только на второй день вечером.
– Ну, как думаешь, Ивановна, получится у Саши с Руфиной, а? – спросила Дарья Ильинична у Екатерины.
Они стоят посреди опустевшего двора.
– У старшего?
– У него.
– Да у них-то, по всему видно, всё уже сладилось. Вот как с младшим? – раздумчиво произнесла Екатерина.
– Тоже вроде ничего и с Сашенькой. Он многое уже понимает… – Взглянула внимательно на Катерину. – Наш Саша нашёл себе не простую женщину. Руфина – дива. С ней нелегко будет… Одно утешает – она, кажется, добрая…
…У младшего Ковальского тоже были вопросы, и не из легких: «Эта красивая добрая тётя Руфина, когда задал ей вопрос, тоже, как все, ничего не ответила. Она назвала меня «младшим Ковальским». Поправил, что я и не Ковальский, и не Бочаров, в школе в журнале записан – Колесников. И сестра, которую никогда не видел, – тоже Колесникова, так бабуля говорит. Всё обещают переделать фамилию и пока никак. Когда папа приедет один, обязательно спрошу его про фамилию… А то Ковальский, Ковальский… а Ковальский среди нас только папа мой…».
У Проняя с Бочаровым свой разговор.
– Всё вот хотел потолковать ещё по одному вопросу при гостях, при москвичке-то, да не решился. Тебя не хотел конфузить, – сокрушался Проняй.
– Да ты на все свои вопросы давно ответы знаешь, говори кому-нибудь, только не мне… Тебе скажи – ты всё перетолмачишь по-своему.
– Всё может быть, – согласился Проняй. – Но я ведь давно не в счёт. Они сейчас сила – от них многое зависит, от молодых.
– От таких, как твой сын – главный инженер, по-моему, больше зависит.
– Да-да, – пробурчал Проняй. – Верно. Но ему рассуждать, как я вижу, по моим вопросам не с руки. А эти ещё непуганые.
– О чём толкуешь, не уразумею?
– Да всё о том я! Вот смотри, сейчас в городских магазинах шаром покати. Внуки мои любят пирог «лимонник». Так вот, только из Москвы Аркадий привозит им лимон. А здесь застрелись – не купишь. И колбасу копчёную привозит из Москвы… Разве это порядок? Я уж не говорю про деревню. Разве так можно? Работают везде! И по встречным планам – тоже! А селедки негде купить. Но в столице всё есть. Что ж, там белые люди живут, а мы – негры?
– Ну, какой Проняй из тебя негр?! – резонно возразил, усмехнувшись, Григорий Никитич.
– Верно, хреновый, – согласился покорно Проняй. – Но вот гости приехали и забегала твоя Дарья по магазинам, как савраска. Ухватить хоть бы чего! А там – шиш! Рожки да макароны. И печенье. Так разве должно быть-то? На великом нашем пути к коммунизму? Хрущёв выкрикнул, что будет он к восемьдесят первому году, осталось-то с гулькин нос сроку… Сомневаюсь я шибко что-то. Вот сейчас за зарплату работаем, а никак на всех продуктов не хватает. А потом как жить будем? Всем по потребностям, а совесть-то у кого околела, а у кого и не завелась вовсе. Куда идём-то все?.. Мой разум в тупике.
– Мастер ты неподъёмные вопросы задавать.
– Тебе сколько, Гриша, годов-то?
– Зачем знать?
– Ну, всё ж-таки?
– За семьдесят.
– А мне куда поболее. Я хочу знать, чем всё это кончится.
Боюсь, не доживу…
– Что всё-то?
– Всё, что вокруг нас. Столько уложили голов в гражданскую, в коллективизацию и так… окромя этого, а результат будет? Знать хочется.
– И ты хочешь, чтобы тебе эти ребята ответили? Дед, ты наивный, как пионер.
– Не наивный, некуда деваться. Цельные, я знаю, институты есть по этим вопросам. Вот с кем-нибудь оттуда столкнуться бы, а? Часок хоть поговорить бы… Ведь они учёные люди! Многие, поди, додумались и помалкивают. Знают и молчат. Хуже врагов народа. Ждут, когда посмеяться над нами…
– Проняй, прекрати эти разговоры! С меня хватило уже… С тебя, как с юродивого, какой спрос? А мне… не набуркался…
– Ладно. Ты тифтик ещё тот. Эти вопросы надо, конечно, решать в других инстат… инстц… Никак на нужную букву не попаду, – пожаловался он, кажется, вполне всерьёз. – Вот – инстанциях, фу-у – я это слово никогда с первого раза не покоряю… в верхах…
Проняй в тот день ещё приходил. Вроде бы, по делу. И опять разговорился с Бочаровым. Не мог Григорий Никитич по складу своего мягкого характера шугануть старого. Чтоб не баламутил… Обозвал только дедом Щукарём.
Проняй не обиделся:
– Разве я так просто балагурю: глубину вопросов никто не постигает, вот беда какая… В метриках всем понаписали при рождении, когда и где кто родился. Они и успокоились на всю жизнь. Но ведь не написали никому: для чего родился, зачем? А надо понять, зачем родился. И зачем, для чего вершится всё. А так, ядрёная балалайка, пробренчишь попусту всю жизнь…
XVIII
– Никак не привыкну: ты такой впечатлительный, как ребёнок. Сдерживаешь часто себя, я вижу. Иногда в тебе чувствую такую бездну, что никогда до конца, боюсь, к тебе и не приближусь… Как ты работаешь с людьми? Тебе труднее многих. Ты так тонко реагируешь на запах, цвет, выражение лица человека. В тебе постоянно идёт невидимая работа. Можешь быстро износиться, Саша… Словно взвалил на себя груз, который должны нести несколько человек. А трудишься один…
Руфина и Александр сидят на том самом заветном берегу Самарки, недалеко от осинок, где когда-то он ночевал с Анной в скошенной траве.
День вёдреный, а нет того уюта в природе, который был всего недели три назад, когда весёлой компанией приезжали в село на «Москвиче». На широкой, окаймлённой с трёх сторон ветёльником поляне не видно, как раньше, паутин…
На правом берегу Самары поднимающийся ярусами чуткий осинник шумит уже не так, как летом. Ни пряных запахов, ни птичьей щебетни…
Ковальский и не понял, как оказался с Руфиной на этом памятном для него месте.
«Как она похожа на мою детскую любовь – Верочку Рогожинскую! – В который раз подумал Александр. Мысли вились легко и безоблачно: – Будто это выросшая она, которую видел и помню только маленькой. В последних классах казалось, что наша «химичка» Валентина Васильевна на неё очень похожа. Теперь – Руфина. Да-да, конечно, Руфина – Руфина больше похожа».
Александр нащупал рукой сбоку от себя на старом теле ветлы, на которой они уселись, большой шершавый кусок коры и задумчиво бросил в воду.
«В детстве из такого куска обязательно вырезал бы кораблик».
– Саша-а, ты где-е-е? – Руфина потянула его за рукав ветровки.
– Мой генерал! – Он поднёс ладонь к виску. – Я здесь, жду приказаний!
В глазах Руфины вспыхнул озорной огонёк.
– Я приказываю поцеловать меня.
Он поцеловал её в губы.
– Вот так быстро? И всего разочек? Какие же у меня безынициативные подчинённые, а?
Руфина взяла его лицо в свои ладони и стала, как маленького, еле прикасаясь горячими губами, целовать везде, кроме губ, оставляя возможность говорить нежности.
Александр, поймав её губы, неудержимо потянулся рукой к груди. Она зашептала горячо, не отстраняясь, подрагивая: