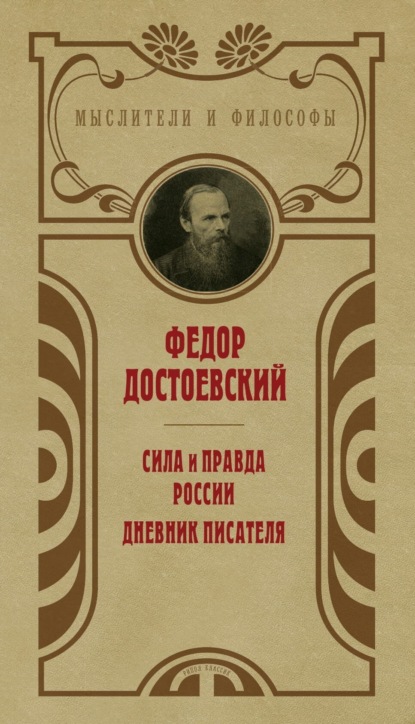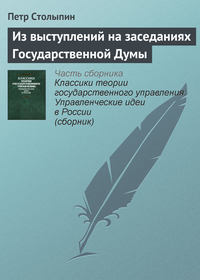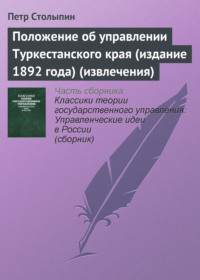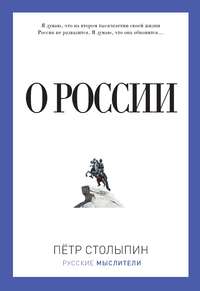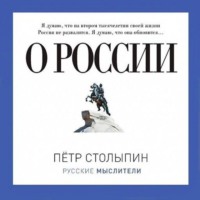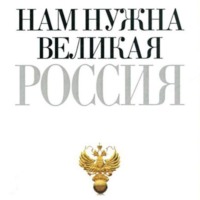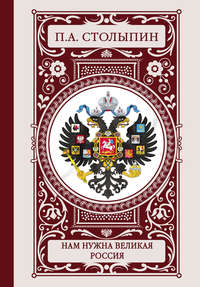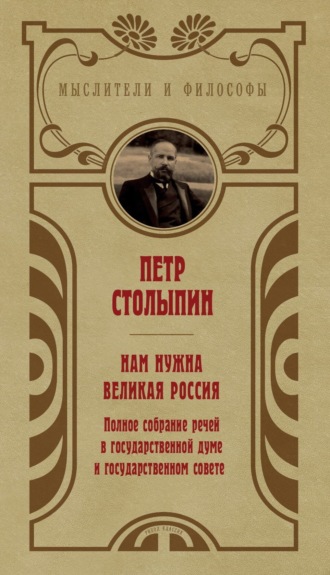
Полная версия
Нам нужна великая Россия. Избранные статьи и речи

Пётр Аркадьевич Столыпин
Нам нужна великая Россия. Избранные статьи и речи
© Издание. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2015
© Оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2021
Предисловие
На административно-бюрократическом небосклоне в царствование последнего российского императора были на удивление тусклые «звёздочки». Их представляли или выутюженные и застёгнутые на все пуговицы вицмундира чиновники типа министра финансов и главы правительства в 1911–1914 годах В. Н. Коковцева, или старики-рамолики типа И. Л. Горемыкина, с искренним удивлением заявлявшего: «Не знаю почему, но меня третий раз вынимают из нафталина», или откровенные проходимцы и клинические больные вроде министра внутренних дел А. Н. Хвостова и А. Д. Протопопова, которыми заниматься впору не историку, а криминалисту и психиатру. Лишь два человека были значительно выше их по всем параметрам: звездой первой величины был крупнейший деятель пореформенной России Сергей Юльевич Витте (1849–1945) и на порядок менее яркий, но всё же волевой, смелый и неглупый Пётр Аркадьевич Столыпин (1862–1911).
Но если первый из них и у современников, и у историков получил более или менее однозначную оценку как государственный деятель, бесспорно, крупный, умный, хитрый, дальновидный, но и беспринципный, и карьерный, то оценки П. А. Столыпина и у современников, и у историков куда шире «по разбросу», а некоторые из советских журналистов дописались вообще до Геркулесовых столпов, объявив его не только создателем «столыпинской» реформы (которую, как ото будет показано ниже, предлагал в самом начале XX в. именно С. Ю. Витте), но и государственным деятелем, успешно доведшим её до конца, что тоже не соответствует историческим фактам, – реформа эта, увы, «не состоялась», не реализовалась в жизни по целому ряду как объективных причин (не было достаточных средств на её проведение, Россия не получила требуемых Столыпиным 20 лет покоя), так и субъективных: отнюдь не все крестьяне радовались ей, очень многие вовсе не спешили выходить из общины, и властям сплошь и рядом приходилось ломать её силой[1], применение которой к решению чисто экономических задач, кстати говоря, стало отличительной чертой ближайшей российской истории.
В качестве одной из последних писательских трактовок этой проблемы хочется указать на предисловие Дмитрия Жукова к книгам В. В. Шульгина «Дни» и «1920». Автор уделяет в нём немало внимания и П. А. Столыпину, предлагая читателям искусственную схему, одну из тех, в которые никак нельзя уложить исторические факты без того, чтобы не искорёжитъ их. Как известно, ещё министр финансов И. А. Вышнеградский (1887–1892), руководствуясь принципом «недоедим, а вывезем», форсировал экспорт хлеба; С. Ю. Витте ещё в конце XIX в. ввёл золотой рубль, а Д. Жуков всё это ставит в заслугу П. А. Столыпину. А дальше продолжает: «На первом месте (в мире. – К. Ш.) по-прежнему оставались Соединённые Штаты. Но на Уолл-стрит понимали, что рано или поздно их монопольному превосходству в промышленности и сельском хозяйстве придёт конец (!), и тогда были приняты самые решительные меры. Для низвержения конкурента годилось всё. Политика не исключала ни продолжения её иными средствами, ни террора.
Прежде всего решено было убрать носителя идеи сильной России», т. е. Столыпина[2].
А затем идёт уже не история, а скорее детектив… Солидаризируясь со многими утверждениями В. В. Шульгина, автор предисловия кое в чём и не согласен с ним. Касается это, в частности, и вопроса о том, кто виноват в убийстве П. А. Столыпина. «Ход рассуждений Шульгина весьма зыбок, – глубокомысленно заявляет Д. Жуков. – Подумаем о том, что капитал – явление не сугубо национальное, что капиталисты в Америке, тесно связанные с президентами, со своими правительствами, тревожились в связи с растущей конкуренцией России, которая в результате столыпинских реформ и роста само го передового, по словам Ленина, финансового капитализма могла потеснить Америку. И тогда (!), хотя ещё не существовало ЦРУ, прибегли к практике в отношении Столыпина, ныне в мировой политике не удивляющей никого…»[3]. Так Столыпин пал жертвой евреев-банкиров с Уолл-стрит! Профессионалу-историку остаётся только в удивлении развести руками, настолько бездоказательно нелеп, а потому и неопровержим ход рассуждений Дмитрия Жукова.
Но разнобой в оценке П. А. Столыпина есть и в академической науке. Под пером одних Пётр Аркадьевич не только душитель и вешатель, давший своей фамилией название намыленной удавке, накидываемой палачом на шею приговорённого. Он предстаёт более или менее разумным государственным деятелем, искренне стремившимся выполнить не только первую половину своей формулы: «Сначала успокоение, а потом – реформы», но и вторую. Однако предложенная Столыпиным программа реформ «вызвала сопротивление поместного дворянства. Осуществление бонапартистского курса, проводником которого был кабинет Столыпина, отвечало широко понятым интересам дворянства, а задуманные им реформы были призваны укрепить и приспособить его к новой обстановке. Однако эти реформы вступили в противоречие с сиюминутными интересами той части помещиков, которые не могли приспособиться к капиталистическому развитию. Соглашаясь на аграрную реформу, поместное дворянство имело целью стравить крестьян между собой и отвести угрозу от собственных усадеб. Но за весь период осуществления реформы вышедшие из общины продали по преимуществу богатым крестьянам 3439 тыс. десятин земли, причём большая часть этих продаж приходилась на последние предвоенные годы. За период же 1905–1915 годов из рук поместного дворянства ушло 10 801 тыс. десятин земли, что составляло 19,7 % всего их земельного фонда в 1905 году, и из них 9795 тыс. десятин попали в руки крестьян[4]. Экономическая угроза помещикам со стороны деревенской буржуазии была реальностью, и жалобы на обезземеление дворянства имели под собой явные основания»[5]. По мнению В. С. Дякина, на наш взгляд вполне справедливому, П. А. Столыпин, пытаясь осуществить и вторую половину провозглашённой им формулы, встретил яростное сопротивление со стороны тех сил, которые считали, что существующие в России порядки настолько совершенны и идеальны, что не требуют никаких реформ. «Столкновение бонапартистской и легитимистской группировок лежало в основе борьбы в верхах в 1907–1911 годы»[6], – утверждает B. С. Дякин.
С резкой критикой такого понимания политики Столыпина и такого определения места его в истории России выступил другой исследователь – А. Я. Аврех. «Согласно принятому взгляду, – писал он, – который целиком разделяет и автор этих строк, Столыпин – это именно и прежде всего правый крайний реакционер, проводник политики, вошедшей в историю под именем столыпинской реакции»[7]. Но, как известно, наука для того и существует, чтобы развивать и корректировать «принятые взгляды». Помочь в этом и профессионалам-историкам, и всем, интересующимся прошлым своей страны, поможет публикуемое полное собрание речей П. А. Столыпина в Государственном совете и Государственной думе.
* * *Кто же он был – Пётр Аркадьевич Столыпин, если принимать во внимание не мифы и легенды, сложенные о нём, а строгие исторические факты и свидетельства современников? Род Столыпиных известен с XVI века и связан был со многими именами, составлявшими славу и гордость России. Бабуш ка М. Ю. Лермонтова, воспитавшая его и выплакавшая глаза после его преждевременной смерти, – урождённая Столыпина. Прадед – сенатор А. А. Столыпин – друг М. М. Сперанского, крупнейшего государственного деятеля начала XIX века. Отец – Аркадий Дмитриевич – участник Крымской войны, друг Л. Н. Толстого, навещавший его в Ясной Поляне; жена Петра Аркадьевича – правнучка А. В. Суворова. Матримониальные связи, немало значившие в феодальном обществе, как видим, – отменные. Да и личные качества кое в чём весьма привлекательны.
Пётр Аркадьевич не пошёл по традиционной для его фамилии службе, не стал ни дипломатом, ни военным. Окончив Виленскую гимназию (детство его прошло в имении в Колноберже, недалеко от Ковно; кроме ещё одного имения в Ковенской губернии, семья владела поместьями в Нижегородской, Казанской, Пензенской и Саратовской губерниях), Пётр Аркадьевич в 1881 году неожиданно для многих поступил на физико-математический факультет Петербургского университета, где, кроме физики и математики, с увлечением изучал химию, геологию, ботанику, зоологию, агрономию[8]. Изучал столь прилежно и глубоко, что на одном экзамене разгорелся научный диспут между ним и Д. И. Менделеевым, с увлечением задававшим молодому студенту всё новые и новые спорные вопросы. Наконец великий химик спохватился: «Боже мой, что же это я? Ну, довольно, пять, пять, великолепно!»[9] После окончания университета Столыпин далеко не сразу «дошёл до степеней известных». Только в 1888 году его имя впервые попало в «Адрес-Календарь»[10], что могло свидетельствовать о каком-то общественном признании. Столыпин служил в Министерстве государственных имуществ на скромной должности помощника столоначальника и со скромным чином коллежского секретаря. До через год он переводится в МВД уездным, предводителем дворянства в родные места – Ковенскую губернию. Здесь он много занимается не только служебными делами, но и личными – сам ведёт помещичье хозяйство в Колноберже. Через десять лет П. А. Столыпин назначается ковенским губернским предводителем дворянства, а ещё через три года, в 1902 году, неожиданно для себя, гродненским губернатором. Назначение его губернатором – результат политики министра внутренних дел В. К. Плеве, взявшего твёрдый курс на замещение губернаторских должностей местными землевладельцами[11], хорошо знавшими жизнь в губернии и твёрдо охранявшими помещичьи интересы.
В пореформенной России так называемый аграрный вопрос стал подлинной головной болью правительства. Деревня нищала, происходил процесс, официально определяемый как «оскудение центра России». В Петербурге и на местах шли заседания «особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности». В столице столкнулись две точки зрения. Одну выражал министр внутренних дел В. К. Плеве, другую – министр финансов С. Ю. Витте. Первая сводилась к сохранению крестьянской общины, которая всегда считалась царизмом опорой «порядка» в деревне, и к проведению экономической политики, направленной на всемерную поддержку государственными средствами и методами разорявшегося крупного дворянского землевладения[12]. Государство должно было активно вмешиваться в аграрные отношения помещика и крестьянина, переориентировать политику Крестьянского поземельного банка, и всё с одной конечной, чисто полицейской целью – ослабить борьбу крестьян с помещиками, защитить интересы последних. Этому же должна была способствовать и переселенческая политика, целью которой стало: не лишая помещичьи хозяйства дешёвых рабочих рук, избыток их направить в те районы страны, где имелись избытки земли, и тем ослабить земельный голод в центре страны. Программа Плеве предусматривала и проведение ряда агротехнических мероприятий. Всё это – вековая, традиционная «попечительная» политика царизма в аграрном вопросе: государственная поддержка разорявшегося помещичьего землевладения, государственная защита его от расширявшегося крестьянского движения.
Иной рецепт лечения больного аграрного вопроса предлагал министр финансов С. Ю. Витте. Он считал, что эта первостепенной важности проблема, затрагивавшая и разорявшихся помещиков, и вечно полуголодных крестьян, вполне может быть решена на основе личной инициативы и капиталистической предприимчивости самих сельских хозяев. Витте решительно возражал против сохранения общинного землевладения, выступая за частную собственность на землю, за то, чтобы крестьянин чувствовал себя её хозяином, чтобы его уравняли в правах с другими сословиями и превратили «из полуперсоны в персону». Все должны стать равноправными собственниками: крестьяне – клочка земли в несколько десятин, помещики – колоссальных латифундий в сотни, а то и тысячи гектар. Витте предлагал также активизировать деятельность Крестьянского банка, расширить выдачу банковских ссуд для всех желающих и способствовать переселению крестьян на неосвоенные земли. Предложения, выдвинутые Витте, получили поддержку большинства членов совещания, но не были одобрены царём, который утвердил проект министра внутренних дел. Нужны были уроки революции 1905–1907 годов, чтобы показать самодержавию «неблагонадёжность» общины. Русская пословица «на миру и смерть красна» полностью подтвердилась в годы первой революции: действуя «миром» («скопом», как определяли официальные документы), крестьяне дружно сожгли в 1905–1907 годах одну шестую часть помещичьих усадеб (около 16 тысяч!), ломали амбары помещичьих экономии и растаскивали хранившееся в них зерно и имущество. Предложения С. Ю. Витте, сделанные ещё накануне революции, предвосхищали Указ, изданный в её разгар, в ноябре 1906 года, и несправедливо получивший название «столыпинской реформы». «Витте понимал, что Столыпин „обокрал“ его, т. е. использовал идеи, убеждённым сторонником которых был Витте, для проведения своей политики, а поэтому он не мог писать о Столыпине без чувства личного озлобления» – так справедливо считал крупнейший знаток истории России начала XX века А. Л. Сидоров[13].
Но та же справедливость требует признать, что в споре Витте с Плеве Столыпин ещё в 1902 году стал на сторону Витте, а не своего шефа. Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности имелось не только в столице. Выло создано 82 губернских и областных и 536 уездных и окружных комитетов этого Совещания, возглавлявшихся местной властью. Гродненский губернатор П. А. Столыпин решительно высказался за уничтожение общинной чересполосицы и расселение на хутора. При этом Столыпин заявил: «Ставить в зависимость от доброй воли крестьян момент ожидаемой реформы, рассчитывать, что при подъёме умственного развития населения, которое настанет неизвестно когда, жгучие вопросы разрешатся сами собой, – это значит отложить на неопределённое время проведение тех мероприятий, без которых немыслима ни культура, ни подъём доходности земли, ни спокойное владение земельной собственностью»[14]. Процитировав это высказывание П. А. Столыпина, советский исследователь П. Н. Зырянов справедливо заключает: «Иными словами, народ тёмен, пользы своей не разумеет, а потому следует улучшать его быт, не спрашивая его о том мнения. Это убеждение Столыпин пронёс через всю свою государственную деятельность»[15]. Однако убеждения Столыпина в это время были всё же ещё весьма далеки от той довольно чёткой программы Витте, которая была отклонена накануне революции 1905–1907 годов, но осуществлена в её ходе под именем Столыпинской реформы.
Гродненским губернатором П. А. Столыпин пробыл недолго. В 1903 году его назначили губернатором в более крупную и важную губернию – Саратовскую. Здесь-то и застала его первая революция, в борьбе с которой он применил весь арсенал средств – от обращения к черносотенной «общественности», возглавляемой епископом Гермогеном, до применения войск, жестоко расправлявшихся с восставшими крестьянами. При этом в деятельности самого молодого губернатора России проявились две отличительные черты, характерные и для всей его будущей государственной деятельности. Во-первых, он не смущался карать не только левых, но и правых, если их деятельность выходила за установленные им рамки. (Разумеется, размеры этих кар были далеко не сопоставимы.) Так, когда черносотенная агитация «Братского листка», издававшегося под покровительством епископа Гермогена, переходила допустимые, с точки зрения губернатора, грани, он своей властью запрещал их распространение, а когда черносотенцы в Балашове пришли громить забастовавших земских медиков, присутствовавший там губернатор прислал казаков для защиты собравшихся в гостинице на собрание земских служащих[16]. Но несравнимо чаще Пётр Аркадьевич вызывал войска для борьбы с революцией, а не с вопиющими безобразиями чёрной сотни.
Характерно и другое: в отличие от большинства высокопоставленных мерзавцев, отдающих кровавые палаческие приказы из надёжно защищённых кабинетов без малейшего риска для своей драгоценной персоны, Столыпин был лично храбр и не боялся оставаться лицом к лицу с разъярённой толпой. Он не просто заявил революционерам с трибуны Государственной думы: «Не запугаете!», – но и на самом деле вёл себя бесстрашно. Вот только один из многочисленных примеров, отличительный лишь тем, что он мало известен в литературе. Революция только-только началась, а богатый саратовский помещик Н. Н. Львов уже испытал на себе результаты вековой ненависти крестьян к помещикам. «Я видел ужасы, нечто вроде пугачёвщины, – взволнованно рассказывал Львов своим друзьям. – Началось по соседству с моим имением у князя Волконского. Крестьяне стали рубить лес (считая его своим. – К. Ш.). У Волконского есть тяжба с ними, в которой он едва ли прав…» Волнение перекинулось и на имение Львова. На шестой день беспорядков приехал Столыпин с казаками. Сначала он пытался уговорить крестьян, призвал их прекратить незаконные действия. Созвали крестьянский сход. Но уговорить возбуждённый «мир» было невозможно. «Когда он (Столыпин. – К. Ш.) стал им грозить, они тоже отвечали угрозами по отношению к полиции и казакам. Тогда, – рассказывает далее взволнованный Н. Н. Львов, – он один вышел к ним и сказал: „Убейте меня“. Тогда они кинулись на колени. Но как только он сел в сани, чтобы уехать, в него стали кидать камни. Тут же ранили пристава, несколько казаков и солдат. Крестьяне вооружились – насадили на палки какие-то пики»[17].
Губернатор уехал, в дело вступили казачки, всласть поработавшие нагайками. После их «воспитательной» работы Львов собрал «своих» избитых крестьян и обратился к ним с речью. Он заявил, что «нигде и никогда допускать грабежа нельзя, что в них будут стрелять, если они не образумятся.
Они:
– Подай нам планты!
– Какие планты?
– У меня с ними не было тяжбы, – пояснял слушателям Львов. – Правда, – добавлял он, – у них давно был спор о нескольких пожалованных имениях, бывших государственных землях, в том числе и о нашем имении. Но ведь наше имение было пожаловано ещё при Екатерине»[18].
Вот куда – к матушке Екатерине и даже ещё дальше в глубь веков – уходили корни споров между крестьянином, который столетиями обрабатывал и поливал своим потом землю, и помещиком, не трудившимся на ней, но считавшим её своей собственностью на основании государева пожалования.
События 1905–1907 годов показали глубокую революционность крестьянства, ошибочность расчётов самодержавия на любовь к нему «простого народа» и надежд на то, что крестьянская община – опора государственного порядка. Нелёгкое бремя борьбы с революцией и поисков иной социальной опоры для самодержавной системы и легло на плечи П. А. Столыпина, когда он неожиданно для себя стал сначала министром внутренних дел (апрель 1906 года), а всего через два с половиной месяца – и председателем Совета министров. Редко кто из царских чиновников проделывал такую головокружительную карьеру.
Суть своей государственной деятельности на посту главы правительства П. А. Столыпин определил со свойственной ему лапидарностью: «Сначала успокоение, а потом – реформы!» Нет смысла пересказывать читателю меры по установлению «успокоения». Они включали в себя всё – от введения «скорострельных» военно-полевых судов, когда тройка офицеров выносила приговор, не подлежащий обжалованию, до широчайшего применения армии «в помощь гражданским властям», как официально именовались подобные меры. «Армия не учится, а служит Вам!» – бросил в лицо Столыпину военный министр А. Ф. Редигер на одном из заседаний правительства[19]. И это было правдой. На «успокоение» были брошены все силы самодержавия. Ему удалось временно подавить революционное движение, водворить в стране «успокоение», в чём немалую роль сыграл и лично П. А. Столыпин. На этом этапе деятельность главы правительства пользовалась неограниченной поддержкой власть имущих. Столыпин был им необходим и стал всеобщим кумиром и дворянства, и правого крыла либеральной буржуазии (партии октябристов, возглавлявшейся А. И. Гучковым), и лично «хозяина земли Русской», как определил свою профессию Николай II при всеобщей переписи в 1897 году.
Нелепо представлять Столыпина просто кровавым монстром, лично подписывающим смертные приговоры, как это делал Сталин. 12 августа 1906 года эсерами-максималистами была взорвана дача Столыпина на Аптекарском острове. Кроме двух террористов, погибло 25 невинных людей, пришедших на приём к главе правительства, ранены трёхлетний сын и четырнадцатилетняя дочь Петра Аркадьевича. В ответ он ввёл военно-полевые суды, приговоры которых должны были утверждать командующие военными округами. От них-то и зависела «скорострельная юстиция». Командующий Казанским военным округом генерал И. А. Карасс не утвердил ни одного смертного приговора. Он говорил, что готов пролить свою кровь за Россию, но не хочет на старости лет пачкать себя чужой кровью[20]. Другие же охотно выполняли палаческие функции. Так, известный черносотенец генерал А. В. Каульбарс, командовавший войсками Одесского военного округа, не колеблясь, подписал смертный приговор двум юношам, которые даже не были на месте, где произошло преступление. Вскоре нашли настоящих виновников – и тоже рас стреляли![21] Вряд ли за действия Каульбарса и других подобных палачей непосредственную ответственность должен нести Столыпин.
Но и рыцарем в белых перчатках он тоже не был. 1 июня 1907 года Столыпин сделал в закрытом заседании II Государственной думы заявление, на основании которого она была распущена и произведён через два дня государственный переворот – изменён избирательный закон, что делать без её согласия было нельзя. П. А. Столыпин не мог не знать, что в основе его заявления – грязная провокация, состряпанная охранкой через своих агентов Бродского и Шорникову, и всё же воспользовался ею в политических целях: I и II Думы явно не вписывались в самодержавную систему, и надо было создать новую Думу, более покладистую, а для этого, по мнению Петра Аркадьевича, все средства были хороши! Третьеиюньский государственный переворот знаменовал собой конец революции 1905–1907 годов. Долгожданное «успокоение» было установлено, теперь надо было переходить к выполнению второй части обещанной формулы – реформам.
Но сделать это оказалось отнюдь не так легко, как это мыслилось первоначально П. А. Столыпину. Его политические друзья справа считали, что в ходе революции и так уж слишком много сделано уступок (манифест 17 октября 1905 года, указ 9 ноября 1906 года, которым была предопределена аграрная реформа, получившая название столыпинской), и речь должна поэтому идти не о новых реформах, а об «усечении» старых. Однако Столыпин не собирался отказываться от своих планов и со свойственной ему твёрдостью пошёл напролом в проведении реформ. Они конечно же не могли изменить основ самодержавия, верным слугой которого он был, но должны были хоть чуть-чуть модернизировать его.
Однако коса нашла на камень. Царь был крайне слабовольным человеком и, как часто случается с подобными людьми, столь же упрямым. Николай II не терпел в своём окружении ни людей с твёрдым характером, ни тех, кто превосходил его умом и широтой кругозора. Он считал, что подобные лица «узурпируют» его власть, «оттирают» самодержца на второй план, «насилуют» его волю. Именно поэтому не пришёлся ко двору С. Ю. Витте, а теперь наступала очередь второго по величине после Витте государственного деятеля России начала XX века – П. А. Столыпина. Реформы, задуманные им (преобразование местного управления, государственное страхование рабочих, введение всеобщего начального образования, законодательство о старообрядческих общинах, введение земства в западных губерниях и т. д.), не грозили устоям самодержавия, но революция была побеждена, и, как считали Николай II и его подсказчики из Совета объединённого дворянства, побеждена навсегда, а посему никаких реформ не требовалось вообще.
Приблизительно с 1909 года начались мелкие, но систематические придирки и кляузы крайне правых царю на главу правительства, что немало попортило крови Столыпину. Решено было создать Морской генеральный штаб из двух десятков человек. Поскольку это вызывало дополнительные расходы, Столыпин решил провести его штаты через Думу, которая утверждала бюджет. Немедленно последовал донос Николаю II, который был «верховным вождём армии» и считал, что все дела о вооружённых силах – его личная компетенция. Проведённый через Думу и Государственный совет законопроект о штатах МГШ Николай II демонстративно не утвердил. В это же время «святой старец» Г. Распутин, уже несколько лет вертевшийся при дворе, приобрёл значительное влияние на экзальтированную царицу. Скандальные похождения старца заставили Столыпина попросить царя выгнать Распутина из столицы. В ответ на это, тяжело вздохнув, Николай II ответил: «Я с вами согласен, Пётр Аркадьевич, но пусть будет лучше десять Распутиных, чем одна истерика императрицы»[22]. Узнавшая об этом разговоре Александра Фёдоровна возненавидела Столыпина и в связи с правительственным кризисом при утверждении штатов Морского генерального штаба настаивала на его отставке[23].