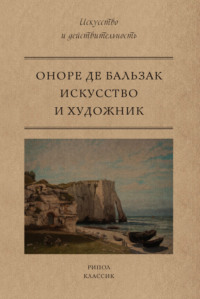Полная версия
Озорные рассказы. Все три десятка
«Людовик Одиннадцатый отдал аббатство Тюрпеней (упомянутое в „Красавице Империи“) одному дворянину, который, прибрав к рукам доходы аббатства, велел величать себя господином де Тюрпенеем. Случилось так, что, когда король был в Плесси-ле-Тур{44}, настоящий аббат, который был монахом, предстал перед королём и обратился к нему с жалобой, доказывая, что, следуя всем канонам, уставам и монастырским порядкам, он является главой аббатства, а захватчик оного вопреки всему притесняет его и уверяет, будто аббатство досталось ему по приказанию Его Величества. Покивав головою, король обещался удовлетворить сие ходатайство. Монах, настырный, как все увенчанные тонзурой божьи твари, раз за разом являлся к окончанию королевской трапезы, так что королю осточертела слащавая монастырская водица, он призвал своего кума Тристана и сказал:
– Куманёк, здесь один тюрпенеец меня донимает, убери его с лица земли.
Тристану было всё едино – что монах, что не монах, он подошёл к дворянину, которого весь двор называл господином де Тюрпенеем, увлёк его в сторонку и дал понять, что король желает его смерти. Несчастный начал было умолять и рогатиться, рогатиться и умолять, но всё напрасно, слушать его никто не слушал, а вместо того его столь бережно стиснули между головой и плечами, что он задохнулся. Часа через три кум доложил королю, что с тюрпенейцем покончено. Ровно через пять дней, то бишь в положенный душам срок для возвращения, монах опять явился во дворец, и король, завидев его, пришёл в крайнее изумление, подозвал Тристана, который крутился, как обычно, поблизости, и шепнул ему на ухо:
– Ты не сделал того, что я приказывал.
– Простите, сир, но я всё исполнил. Тюрпенеец мёртв.
– Так я имел в виду этого монаха.
– А я думал, того дворянина!
– Как? И он мёртв?
– Да, сир.
– Ну и ладно.
Тут король обернулся к монаху и велел ему подойти. Монах приблизился.
– Становись на колени, – велел ему король.
Монах перепугался, но король сказал ему:
– Благодари Бога, Он не пожелал, чтобы тебя убили по моему приказанию. Зато убили того, кто занял твоё место. Господь в справедливости своей рассудил в твою пользу! Ступай прочь и молись за меня. И чтоб из монастыря ни шагу!»
Что доказывает доброту Людовика нашего Одиннадцатого. Он вполне мог повесить монаха, дабы исправить допущенную ошибку. Касаемо задавленного дворянина, всё яснее ясного: он принял смерть по долгу службы. Людовик весьма любил свой Плесси-ле-Тур, но поначалу, дабы не уронить своего королевского величия (подобной тонкости его преемники уже не ведали), не желал бражничать и шуметь прямо в замке. И он влюбился в женщину по имени Николь Бопертюи, которая, к чему теперь скрывать, была простой горожанкой. Мужа оной дамы король спровадил в далёкую каталонскую глубинку, а её саму поселил в доме на берегу Шера, близ улицы Кинкангронь, потому что место там было безлюдное и от прочих домов в отдалении. И муж, и жена такою благодарностью к королю прониклись, что Бопертюи родила ему дочь, которая закончила свои дни в монастыре. У этой Николь носик был востренький, словно клюв у щегла, а позади тела своего дородного носила она две данные природой большие и восхитительные подушки, которые на ощупь были плотными, а на вид белоснежными, точно крылья ангела. Сия Николь прославилась также своей необыкновенной учёностью, коей благодаря в любовных экзерсисах никогда не повторялась, ибо глубоко овладела сей прекрасной наукой, умела и разнообразно готовить оливки из Пуасси{45} и разогреть их как надо, а также владела такими секретами, которые королю доставляли особенное удовольствие. Она была весела точно зяблик, всё время напевала и смеялась и никогда никого не огорчала, что свойственно женщинам открытым и честным, женщинам, которые всегда заняты… догадайте сами, чем или кем!..
Король часто встречался в её доме со своими добрыми дружками-приятелями, а чтобы никто его не видел, приходил туда по ночам, тайком. Но поскольку Людовик был подозрителен и боялся засады, он дал Николь самых злобных собак из своей псарни и стражников, готовых разорвать любого без предупреждения, и признавали эти псы только Николь и короля. Когда Его Величество входил в дом, Николь выпускала собак в сад, дверь в дом закрывалась крепкой решёткой и надёжными запорами, король прятал ключи в свой карман, чувствовал себя в полной безопасности и, не боясь ни измены, ни предательства, как хотел забавлялся, проказничал и устраивал розыгрыши. В такие ночи кум Тристан наблюдал за соседними улицами, и тот, кому взбредало в голову после заката прогуляться по набережной, если не было у него на ту прогулку королевского дозволения, очень быстро оказывался в положении того несчастного, что с верёвкой на шее благословляет прохожих своими пятками.
Сверх того, Людовик посылал своего куманька за потаскухами для своих приятелей или за людьми, которые могли бы принять участие в забавах, придуманных его дружками да Николь. Турские жители всегда с готовностью служили Людовику, а король приказывал им помалкивать, вот почему о времяпрепровождении короля стало известно только после его смерти.
Игра «Поцелуй меня в зад» была, как уверяют, придумана сим славным государем. И пусть мне придётся отвлечься от основного предмета этого рассказа, я объясню вам, что это такое, потому что игра сия доказывает, сколь весёлым и разносторонним нравом отличался наш король.
В Туре жили три скупца: первым среди них был довольно известный мэтр Корнелиус. Второго звали Пекар. Он торговал украшениями, мраморной бумагой и разными безделицами для церкви. Третий, по имени Маршандо, был очень богатым виноградарем. Последние два туренца, несмотря на скупость свою, стали родоначальниками добропорядочных семей. И однажды вечером, будучи у Бопертюи, король выпил, пошутил и ещё до вечерни помолился в молельне госпожи Николь, пришёл в прекрасное расположение духа и обратился к куму своему Лёдену{46}, кардиналу Лабалю{47} и старому Дюнуа{48}, который в ту пору ещё не совсем раскис:
– Пора позабавиться, друзья мои! Думаю, мы повеселимся, коли поглядим, что станет со скопидомом, ежели показать ему мешок золота и не дать его заграбастать! Эй, кто-нибудь!
Тут же явился слуга.
– Ступай за моим казначеем, пусть немедля принесёт шесть тысяч золотых, да пошевеливайся! Потом именем короля хватайте и тащите сюда моего друга мэтра Корнелиуса с Лебяжьей улицы, Пекара и старого Маршандо.
Засим они продолжили пить и серьёзно обсуждать вопрос о том, какая женщина лучше – с душком или со всех сторон помытая, худая или в теле, и поскольку там был цвет учёности, решили, что лучше та, что принадлежит мужчине вся, подобно блюду с горячими мидиями, и ровно тогда, когда Господь пошлёт оному мужчине благую мысль к ней приобщиться. Потом кардинал вопросил, что для женщины важнее: первый поцелуй или последний. На что Бопертюи отвечала, что последний важнее (потому как женщина знает, что теряет), чем первый, ибо тогда ей ещё неведомо, выиграет ли она что-нибудь или нет. Вот во время этих и им подобных бесед, содержание коих история, к великому сожалению, не сохранила, принесли шесть тысяч экю золотом, что равняется сегодняшним трёмстам тысячам франков, ибо, как верно замечено, всё на свете мельчает. Король приказал выложить деньги на стол и подать больше свету, и золото засверкало точь-в-точь как невольно загоревшиеся глаза королевских сотрапезников, кои рассмеялись, друг на друга глядючи, хоть и было им не до смеха. Долго ждать не пришлось, слуга привёл бледных и до полусмерти перепуганных скупцов. Один лишь Корнелиус, который хорошо знал королевские причуды, сохранял присутствие духа.
– Итак, друзья мои! – сказал Людовик. – Посмотрите на эти червонцы.
Трое скряг пожирали глазами золото, чей блеск, представьте себе, затмил даже адамант, сверкавший на груди Бопертюи.
– Это вам, – добавил король.
При этих словах скряги, хоть и не в силах были оторвать глаз от кучи золота, начали искоса поглядывать друг на друга, и гости скоро поняли, что эти старые обезьяны по части кривлянья всех превосходят, ибо физиономии у них стали почти так же забавны, как у кошки, лакающей молоко, или как у девицы перед свадьбой.
– Да! – продолжил король. – Всё достанется тому, кто, погрузив руку в кучу золота, три раза скажет двум другим: «Поцелуй меня в зад!» Но ежели при этих словах он не будет так же серьёзен, как сыщик, оседлавший свою соседку, ежели хоть самую малость улыбнётся, то заплатит сто экю госпоже Николь. Однако повторюсь, каждому дозволяете я сделать три попытки.
– Я выиграю! – промолвил Корнелиус. Будучи голландцем, он открывал рот и улыбался так же редко, как часто открывалась и хохотала задница Николь.
Мэтр смело возложил руку на кучу золотых, как бы проверяя их пробу, и с силой сжал в кулаке несколько монет, но, как только взглянул на двух скупцов, опасавшихся его голландской основательности, и собрался вежливо сказать: «Поцелуйте меня в зад!», они хором промолвили: «Будьте здоровы!», как если бы он чихнул. Все рассмеялись, и Корнелиус последовал общему примеру. Когда же за червонцы взялся виноградарь, он почувствовал, что не в силах удержаться, и прыснул так, что смех вырвался изо всех пор его похожего на шумовку лица, словно дым из щелей печной трубы. Старик не смог вымолвить ни слова. Настала очередь лавочника, который всегда не прочь был позабавиться. Губы его сжались, точно верёвка на шее висельника, он стиснул в ладони золотые, оглядел всех зрителей и даже короля и сказал насмешливо: «Поцелуйте меня в зад!»
– Он у тебя грязный?
– Извольте убедиться сами, – глазом не моргнув, отвечал ювелир.
Тут король испугался за свои экю, ибо Пекар хорошо начал и уже в третий раз собирался открыть рот, но Бопертюи сделала вид, что согласна воспользоваться его предложением, и Пекар фыркнул и расхохотался.
– Как тебе удалось, – спросил его Дюнуа, – остаться серьёзным перед такой горой золота?
– О, монсеньор, во-первых, я подумал об одной из моих тяжб и о суде, который состоится завтра, а во-вторых, о моей жене – жуткой старой перечнице.
Страстное желание завладеть внушительной суммой заставило всю троицу предпринять ещё одну попытку, и король почти целый час забавлялся, глядя, как они корчились, кривлялись, бормотали, скребли животы и, будучи людьми, привыкшими брать, а не давать, побагровев от досады, отсчитывали по сто экю и вручали их госпоже Николь.
Когда они удалились. Николь обратилась прямо к королю:
– Сир, позвольте мне тоже попробовать.
– Клянусь Пасхой! – воскликнул Людовик. – Нет, я охотно поцелую тебя сам и за меньшую сумму!
И вот таким бережливым он был всегда.
Однажды вечером толстый кардинал Лабалю в нарушение всех церковных канонов на словах и на деле стал приставать к Бопертюи, однако, к счастью для неё, эта ловкая кумушка была из тех, кому палец в рот не клади.
– Остерегитесь, кардинал, – сказала она. – Король елея не любит!
Затем явился Оливье Лёден, которого она тоже не захотела слушать, и в ответ на вздор, который он нёс, сказала, что спросит у короля, как ему понравится, ежели Оливье её побреет.
Поскольку этот самый цирюльник не просил сохранить в секрете его ухаживаний, она заподозрила, что всё это очередные королевские хитрости и что именно друзья заставили короля усомниться в её верности. Однако Людовику она отомстить не могла и потому решила отыграться по меньшей мере на его приспешниках, одурачить их и заодно позабавить короля своей проделкой. И вот однажды вечером, когда они собрались к ней на ужин, в её дом пришла одна женщина, которая желала поговорить с королём. Эта влиятельная дама хотела испросить у короля милости для мужа своего, и после приключения, о котором я расскажу, она получила всё, о чём просила.
Во время ужина Николь Бопертюи увлекла короля в прихожую и попросила его заставить гостей напиться допьяна и наесться до отвала, при этом быть весёлым и шутить, а когда скатерть уберут, затеять ссору на пустом месте, грубить, никому рта не давать раскрыть, и тогда она покажет ему всю их подноготную и позабавит. Кроме того, она умолила короля выказать искреннее расположение к даме, пусть все думают, что она у него в чести, ибо эта дама согласилась принять участие в задуманном ею розыгрыше.
– Ну что ж, господа, – сказал король, вернувшись к гостям, – пора за стол, охота была долгой и удачной.
И вот цирюльник, кардинал, толстый епископ, капитан швейцарской гвардии и один законник из парламента, королевский любимец, проводили дам в тот зал, где трутся друг о друга челюсти и обгладываются кости.
И они принялись проверять на прочность свои камзолы. Что сие значит? Сие значит мостить желудки, заниматься природной химией, вести учёт блюдам, терзать кишки, рыть себе могилу челюстями, играть с огнём, хоронить подливки, валять дурака или, говоря языком философическим, производить зубами нечистоты. Теперь понятно? Сколько надо слов, чтобы пробиться к вашим мозгам?
Королю не пришлось уговаривать гостей перегнать сей добрый ужин. Он пичкал их зелёным горошком, обращал к мясному рагу с каштанами и репой, нахваливал чернослив, просил уделить внимание рыбе, одному говорил: «Почему ты не ешь?», другому: «Выпьем за госпожу!», всем вместе: «Господа, отведаем раков! Прикончим эту бутыль! Вы ещё не пробовали эти колбаски! А этих миног? Эй! Что скажете? Вот, клянусь Пасхой! Это лучший луарский сом! Эй, зацепите-ка мне того паштета! А это дичь из моих угодий, кто не полакомится, оскорбит меня лично!» Потом опять: «Пейте, король сегодня добрый! Отдайте должное этим соленьям, их солила наша хозяйка. Поклюйте виноград, он из моих виноградников. И мушмулу, мушмулу положите на зуб!» Так, способствуя вспучиванию их главного нарыва, добрый король смеялся со всеми вместе, и едоки подтрунивали друг над дружкой и спорили, пыхтели, жевали и рыгали так, словно короля рядом не было. Загрузив на борт множество провианта, высосав несметное количество бутылей и разорив всё, от чего ломился стол, гости побагровели, камзолы на них затрещали по всем швам, ибо животы от воронки до стока набились плотно, подобно сарделькам. Перебравшись обратно в гостиную, они уже едва дышали, и пыхтели, и сопели, проклиная самих себя и своё обжорство. Король умолк. Гости охотно последовали его примеру, ибо все их силы ушли на переваривание блюд, замаринованных в их туго набитых и урчащих желудках. Один говорил про себя: «Напрасно я поел этой подливки». Другой упрекал себя за то, что напичкал утробу угрём с каперсами. Третий думал про себя: «Ох-ох! Этот ливер мне даром не пройдёт». Кардинал, самый пузатый среди них, фыркал, точно испуганная лошадь. Именно он первым не удержался, благородно рыгнул и тут же пожалел, что он далеко от Германии, где с отрыжкой поздравляют, потому что король, услыхав сии утробные звуки, нахмурил брови и прошипел:
– Как ты посмел? Или я тебе пустое место?
Слова эти повергли всех в ужас, поелику обыкновенно короля добрая отрыжка из себя не выводила. И потому прочие гости решили иначе справиться с газами, распиравшими их реторты. Поначалу они пытались их удержать, но вскоре почувствовали, что брюшины их надулись, точно сборщики податей, натянулись и вот-вот лопнут. Тут Бопертюи шепнула королю на ухо:
– Знайте, что Пекар сделал по моей просьбе две большие куклы, похожие на меня и на эту даму. И ещё я подмешала кое-каких снадобий в бокалы ваших сотрапезников, от них им скоро приспичит пойти в нужник, а мы с дамой сделаем вид, что уже заняли его. Вот тогда вы позабавитесь над их корчами.
С этими словами Бопертюи с дамой исчезли по своей надобности, а спустя положенное время Бопертюи вернулась одна, сделав вид, что оставила даму в лаборатории естественной алхимии. Тут король, обратившись к кардиналу, заставил его подойти и, ухватив за грудки, повёл разговор о самых насущных делах. На все его слова Лабалю отвечал: «Да, сир», лишь бы избавиться от королевского благоволения и смыться, ибо вода уже залила его подвалы, а сам он, того и гляди, обронит ключ от своей задней двери. Прочие гости только и думали, как бы им приостановить накопление фекалий, коим природа, как и воде, дала свойство подниматься лишь до определённого уровня. Оная материя преобразовывалась и продвигалась, подобно насекомым, готовым вырваться наружу из кокона, она бесновалась и проклинала королевскую власть, ибо нет ничего более невежественного и дерзкого, чем эти нечистые массы, кои рвутся на свободу подобно всем заключённым. Кстати и некстати они норовили выскользнуть, как угри из сетей, и каждому бедолаге стоило больших усилий и умений, чтобы не обгадиться при короле. Людовик же получал огромное удовольствие от допроса своих гостей и от перемен на их физиономиях, отражавших корчи и спазмы их грязных змеевиков.
Судья сказал Оливье:
– Я бы отдал своё кресло за то, чтоб хоть полминуты почитать в укромном уголке.
– О! Что может быть лучше хорошего стула! И я уже не удивляюсь тому, что мухи гадят где ни попадя.
Кардинал, полагая, что дама уже получила расписку в Счётной палате, вырвался из цепких королевских рук, отшатнувшись от него так, будто он внезапно вспомнил, что ещё не прочитал свои молитвы, и направился к двери.
– Что это с вами, кардинал? – полюбопытствовал король.
– А что со мной? Клянусь Пасхой, ничего особенного, зато вам, сир, похоже, всё нипочём!
Кардинал бежал, поразив всех своим лукавством. Он торжественно прошествовал к ретирадному месту, слегка ослабив шнурки на своей мошне, но, распахнув благословенную дверцу, обнаружил за ней даму, восседавшую, словно папа римский во время обряда посвящения. Еле сдерживаясь от нетерпения, кардинал спустился по лестнице, желая выскочить в сад, но, услышав лай собак, до смерти перепугался за свои полушария и, не зная, где избавиться от продуктов своей химии, вернулся в гостиную, дрожа так, словно он промёрз до мозга костей. Прочие, завидев кардинала и полагая, что он опустошил свои естественные резервуары и очистил свои высокодуховные трубки, позавидовали его счастью. Цирюльник живо вскочил с места, будто ему приспичило разглядеть гобелены и посчитать балки, первым очутился у двери и, заранее ослабив задний зажим, с песней направился в желанное прибежище.
Однако там ему, как и Лабалю, пришлось принести сбивчивые извинения вечной заседательнице и захлопнуть дверцу так же быстро, как он её открыл. Цирюльник вернулся с запруженными и распёртыми каналами. За ним остальные гости прошли тем же путём, но никому из них не посчастливилось освободиться и облегчиться, и все они в прежнем смущении восседали вокруг Людовика и сочувственно переглядывались, задницами понимая друг друга лучше, чем языками, ибо в действии телесных составляющих нет никаких двусмысленностей, всё в нём разумно и просто, и посему этой наукой мы овладеваем, едва родившись на свет.
– Полагаю, – сказал кардинал цирюльнику, – сия дама просидит там до завтра. Чего ради Бопертюи позвала сюда сию слабую утробой болящую?
– Она битый час трудится над тем, на что мне потребно две минуты. Лихоманка её забери! – вскричал Оливье Леден.
Все приближённые, мучаясь коликами, переминались с ноги на ногу, дабы стерпеть и сдержать нечистые материи, когда помянутая дама вернулась в гостиную. Само собой, её нашли прекрасной, изящной и охотно поцеловали бы её туда, где у них самих столь нестерпимо свербело. Даже свет нового дня никто никогда не приветствовал так, как сию освободительницу бедных несчастных утроб. Лабалю встал. Прочие пропустили духовенство вперёд из почтения, уважения и благоговения к церкви и снова, набравшись терпения, принялись корчить рожи. Король смеялся про себя вместе с Николь, споспешествовавшей удушению маявшихся животами господ. Бравый капитан швейцарцев, больше других отдавший должное блюду, в которое повар положил слабительный порошок, запачкал свои короткие штаны, полагая, что выпустит один лишь фук. Пристыженный и здравомыслящий, он почёл за благо забиться в уголок, лишь бы король не учуял запашка. В этот момент вернулся кардинал в ужасающем смятении, ибо он узрел в епископском кресле Бопертюи. Невыносимо страдая, он втащился в гостиную и испустил истошное «О-о!», обнаружив Николь рядом с королём.
– Что ещё? – вопросил король да столь грозно глянул на священника, что любого другого на его месте хватил бы родимчик.
– Сир, – ничуть не смутившись, молвил кардинал, – всё относящееся к чистилищу находится в моём ведении, и должен вам сказать, что в этом доме нечисто.
– Раб Божий, – скривился король, – как смеешь ты шутить со мной?
При этих словах у всех присутствующих душа ушла в пятки, а в зобу дыханье спёрло.
– Где ваше почтение к королю? – От окрика Людовика все побледнели, а он резко открыл окно и крикнул: – Эй, Тристан! Поди-ка сюда!
Главный королевский прево не замедлил явиться. Поскольку все эти господа были никем, пока король их не возвысил, он точно так же мог в приступе гнева сровнять их с землёй, и потому Тристан нашёл всех, кроме кардинала, полагавшегося на защиту сутаны, остолбеневшими и донельзя подавленными.
– Кум, препроводи господ в зал суда на набережной, они согрешили и опозорили самих себя своим чревобесием.
– Хороша ли была моя шутка? – спросила Людовика Николь.
– Хороша-то хороша, но чертовски зловонна, – засмеялся король.
Из этих слов дружки его поняли, что на этот раз король оставит их головы в покое, и возблагодарили милосердное небо. Этот государь весьма любит шуточки грязного пошиба. Но он отнюдь не злой, говорили его сотрапезники, располагаясь у дамбы на берегу Шера под надзором Тристана, который, как добрый француз, составил им компанию, а потом проводил по домам. Вот почему с тех самых пор жители Тура никогда не гадили у дамбы, зная, что её облюбовали придворные.
Как верный паж, я не оставлю этого великого короля, не вспомнив о дьявольской шутке, которую сыграл он с Годгран, высохшей старой девушкой, страшно горевавшей, потому как за свои сорок лет так и не сумела найти покрышку для своего горшка, и бесившейся оттого, что остаётся нетронутой, ровно мул. Проживала она по соседству с Бопертюи, там, где проходит Иерусалимская улица, да столь близко, что с балкона госпожи Николь было и видно и слышно всё, что происходит в её комнате, расположенной на первом этаже. Король часто забавлялся, подглядывая за сей вековухой, а та и не подозревала, что Его Величеству до неё рукой подать. И вот в один ярмарочный день случилось королю повесить молодого горожанина, который посмел силой взять одну благородную пожилую даму, по ошибке спутав её с молодой женщиной. В общем-то он не сделал ничего плохого упомянутой даме, напротив, оказал ей честь, приняв за молодуху, и всё бы ничего, коли, обнаружив свою оплошность, он не разразился потоком брани, ибо предположил, что его обхитрили, и решил в качестве вознаграждения забрать у неё красивый серебряный кубок. Этот юноша был силён во всех отношениях и так красив, что весь город собрался посмотреть на его казнь из жалости и любопытства. Сами понимаете, что чепчиков на площади собралось больше, чем шапок. Молодой человек в самом деле очень красиво подёргался на верёвке и в полном соответствии с обычаем, принятым у висельников того времени, умер, галантно воздев к небу то самое копьё, которое наделало столько шуму. Многие дамы заметили по этому поводу, что не уберечь подобное сокровище от виселицы есть прискорбнейшее злодеяние.
– Что вы скажете, – спросила Бопертюи короля, – коли мы подложим сего красавца-висельника в постель к Годгран?
– Мы её перепугаем, – отвечал Людовик.
– О, сир, ни в коем разе! Будьте уверены, она ласково примет мужчину мёртвого, ибо питает страстную любовь к мужчинам живым. Вчера я видела, что она проделывала перед колпаком, который напялила на спинку стула, вы бы со смеху умерли над её речами и ужимками.
И вот пока сорокалетняя дева удалилась к вечерне, король приказал двум стражникам снять с виселицы молодого горожанина, отыгравшего последнюю сцену своего трагифарса, и нарядить его в белую рубаху. Стражники перелезли через изгородь садика Годгран, уложили упомянутого висельника в кровать так, что его было видно в окно, и удалились. Король играл с Бопертюи в комнате с балконом, ожидая того часа, когда старая дева уляжется спать. Годгран вскоре вернулась домой, вприпрыжку да вприскочку, как говорят жители Тура из прихода Святого Мартина, до которого было не больше двух шагов, поелику Иерусалимская улица упирается прямо в стену монастыря. Годгран вошла в комнату и освободилась от сумки, молитвенника, чёток, образков и прочей амуниции старых дев, потом сняла тушилку с углей, раздула огонь, согрелась, погладила за неимением лучшего кошку, потом сходила в кладовку, приготовила ужин, вздыхая, и повздыхала, готовя ужин, поела в одиночестве, упёршись глазами в стену, а запив съеденное, так громко пукнула, что даже король услышал, а Бопертюи воскликнула: