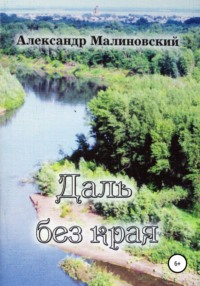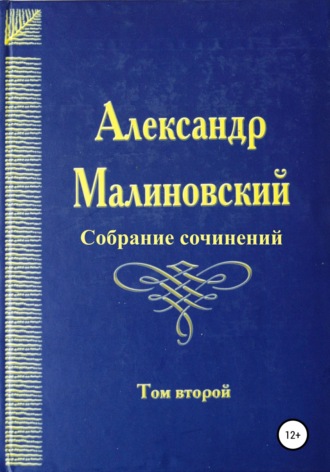
Полная версия
Собрание сочинений. Том 2
Когда он успокоился, предложила:
– Саша, давай обсудим кое-что!
– А что обсуждать? Вернёмся в город и подадим заявление в загс. Товарищ аспирантка Руфина Смирнова, вы расписываться умеете? Или только целоваться горазды?
– Ах, ты так! – Она повалила его. Ковальский стал сопротивляться, лёжа на бревне. Они скоро оказались на траве и покатились к обрыву.
– До обрыва метров пять, а там – река, если не успеешь согласиться – нам конец!
– Сашенька, когда я в твоих объятиях, мне ничего не страшно. Но я не умею плавать. И мне больно шею, – пожаловалась Руфина. – Шея моя…
Александр разомкнул руки и попросил показать, где болит. Руфина пальчиком ткнула за ухом и он поцеловал там. Потом хитрый её мизинчик скользнул в другое место – и там поцеловал. Потом… получилось, что болела вся шея… И не только она, бедненькая…
Когда возвращались, Александр почти мистически думал: «Хорошо ли, что мы с Руфиной целовались там, где когда-то был с Анной? Что бы она подумала? Но она всегда хотела мне самого доброго… Я нашёл себе женщину, а Саше, кажется – мать. Теперь, когда Анны нет, – это благо для всех. Если души бессмертны, то Анна смотрит сейчас на нас и светло улыбается».
От этих суеверных мыслей отвлекла Руфина:
– Сашенька, ты уверен – сын должен в селе расти?
– А где же ещё? – ответил Ковальский. – Я вначале питал некоторые иллюзии: хотел забрать в город, снять квартиру… Но ведь в школу надо его провожать, днём кормить… Как это организовать?
– Саша, а давай сделаем эксперимент?
– Какой?
– Как только защищусь, заберу его к себе в Москву, а? Мы с тобой вместе постараемся все бытовые дела устроить.
– Руфина, ты сейчас, как и я после окончания института, в эйфории. Но защитишься – дальше хлопот ещё больше будет. Не до Саши. У меня другой эксперимент.
– Какой?
– Не придумал пока точного названия. Суть – в патриархально-индустриальном воспитании сына.
– Сашенька, непонятно, поясни.
– Издалека?
– Как удобнее.
– Я считаю, что первые лет двенадцать человек должен жить в селе. В селе всё как на ладони. И отношения людей, и жизнь животных. Это многому учит. Стоит только одно сенокосное лето провести в артели… Здесь, в селе, я давно знаю, кто чего стоит. И если один умеет только балагурить, а работать не научился, к нему и соответствующее отношение. А если, как мой дед Иван Головачёв, – молчалив, но в любом деле профессор, так это все знают. Уж не говорю об отце Василии Фёдоровиче… И вот думаю: а ведь в городе такого нет. Ребятишки своих родителей в работе не видят. Два раза в месяц взрослые с завода приносят получку – и всё. А какие они в деле, детям не видно. Получается большой разрыв. Сосед по площадке непонятен. Бегает на службу. Какой он вне семьи? Возникнет ли у сына в городе своё понимание, как можно и нужно трудиться?
– А почему патриархально-индустриальное?
– А вот подрастёт Саша и я периодически его начну возить в город. То под ногами асфальт, а то сельская дорога с коровьими лепёшками. Пусть чувствует и ритм города, и знает, как появляются на свет ягнята. Надо уметь запрягать лошадь, подшить валенки.
– Ну, это крайности – валенки подшивать! Он же будущий горожанин. Зачем ему это?
– Получилось так, что он вроде меня – будущий интеллигент в первом поколении. Пусть соответствует. Это поколение из деятельных людей.
– Саша, теперь поняла, почему ты хочешь, чтобы у тебя в семье было не менее шести детей! Ты задумал спасать общество! Заселить его Ковальскими?
Она засмеялась, и он, поймав её за руку, потянул к себе.
…Он целовал, а у неё текли по белым щекам слёзы.
– Руфина, когда ты так плачешь, я теряюсь. У тебя всё нормально? Что у тебя там, в Москве? Ты не рассказываешь…
– Сашенька, потом, попозже… Я не готова… Ты у меня сейчас – единственное чудо! Не хочу ни о чём думать и говорить…
…Когда уже подходили к селу, спросила, заглядывая пытливо ему в глаза:
– Саша, а крепенькая женщина, загорелая такая – Аксюта, когда мы были у Любаевых, ну, которая пришла и быстро ушла, на тебя смотрела по-особенному… Она к тебе неравнодушна. Я это почувствовала. И на меня смотрела настороженно как-то…
– Я тут на глазах вырос, поэтому равнодушных вокруг нет.
– Увиливаешь, конспиратор самодельный, да? Саша, а ещё вопрос можно? – и, не дождавшись ответа, произнесла: – Твой отчим и ты? Вы очень похожи. Знаю, что говорю нелепость, но внешне вы как отец и сын. Эта мысль у меня не выходит из головы весь день, с утра, как его увидела. Что это такое?
– Не знаю, не ты одна так думаешь…
Он смотрел на неё внимательно. А Руфина, увидев ярко-жёлтую бабочку, плавными и красивыми движениями на цыпочках попыталась подкрасться к ней. Во всём её теле, в стройных и крепких ногах, театрально вытянутой к бабочке изящной руке, красиво посаженной голове, чувствовалась случайно попавшая на эту поляну представительница какой-то особой, нездешней породы людей. Она сама походила на бабочку! Но такую, каких Ковальский никогда прежде не видел.
– Как прекрасно, что землю населяют не только люди, да! – сказала Руфина, наблюдая за порхающей нарядной бабочкой.
Эта фраза удивила его.
Она положила руку ему на плечо и зашагала рядом. Заглядывая в глаза, спросила:
– Почему ты иногда так грустно смотришь на своего сына?
– Не на Сашу я смотрю грустно. На родителей своих, скорее, и на всё это, – он кивнул в сторону речки, огромных вётел за спиной.
– А почему, Сашенька?
Ковальский не торопился ответить. Они подошли к мосту через небольшую речку около села. Рядом, чуть левее внизу и вверху, мелькали стрижи. Он попробовал последить взглядом за одним из них. Но скоро потерял из виду.
– Понимаешь, мы с Сашей оба, как кукушата…
– Кто? – переспросила Руфина.
Александр, усмехнувшись, пояснил:
– Мы с моим сыном, оба… кукушкины дети…
– Это отчего же?
– А оттого, что мы словно были подброшены сюда на время. Я выучился в школе и шагнул в сторону, в город. Он вырастет, будет то же самое. Сначала мои родители лишились меня, теперь Бочаровы скоро останутся одни. Уедет Саша, какая разница, в Куйбышев или Москву. Жизнь пойдёт порознь. Как ни крути.
– Подожди, о чём ты? Разве другие не уезжают?
– Уезжают, – согласился Александр.
– А оставшись, пропали бы здесь, – уверенно произнесла Руфина.
– Не знаю. Посмотри, какая иногда печаль на лицах моих родителей, на лицах Бочаровых. Знают, что здесь нету точки приложения сил. И понимают, что это ненормально. Всё, что они делают тут, на земле, знают – никому не нужно. Потом будет никому не нужно. Наше поколение тихо, с их же согласия, предаёт. Ради лучшей жизни. Но предательство – всегда плохо. Прошлый приезд мы с отцом пошли в сад. Там «московская грушёвка» вымерзла. Стоит яблонька сухая. Я говорю: «Осенью надо посадить другую». А он посмотрел почти виновато, не осуждая никого, и ответил: «А зачем? Для кого? Все вы разлетитесь, а нам с Катериной много ли надо? Пока она вырастет…». Он и в мыслях не держал, я знаю наверняка, а всё равно подтолкнул меня: кукушата мы…
– Я – горожанка… По-моему, всё это, – она запрокинула голову, – этот купол неба, как сказал Суслов, и есть крыша дома. Дом там, где ты всего нужнее, где могут раскрыться силы и талант.
– Чувствую одно, – не возразил, а продолжал думать вслух Александр, – человеку предначертано полностью раскрыться только, где он родился. Силы его там, где произошло таинство рождения. Сейчас, видимо, такой период, когда люди идут не туда. Им пока позволено так поступать. Но время придёт, и многое станет очевидным… Иначе отчего постоянное чувство вины?.. В этом что-то таинственное…
Руфина не стала отвечать. Только подумала, что непоколебимое стремление понять то, о чём в её столичном окружении вообще не думают, часто размагничивает Ковальского, делает слишком мягким. Он начинает терять себя.
«В нём порою открывается такое, что мне, бедненькой, страшно неуютно становится. А хочется просто жить, порой подурачиться. Он так, кажется, не может, – уже не в первый раз думала она. – Ему когда-то крепко досталось… Может, крепче, чем мне?.. Седая прядь в густой шевелюре на самом виду, над левым виском – как отметина…»
* * *Приехав в Москву, Руфина не находила себе места. Маялась неотступными мыслями о Ковальском. Плохо спала ночами. Скверно работалось днём. После того, что рассказал Александр о себе и Анне, узнав про сына и увидев его, она окончательно поняла, что не сможет стать женой Ковальского.
«Ну, какая я жена? Он так хочет иметь много детей. Такой цельный и ранимый. Если обману: выйду за него и не рожу? Для него будет такой удар, второй после Анны… Это для нас обоих будет тупик. Возненавидит меня. А я – себя, за то, что лишила его нормальной семейной жизни. Бросить меня он не сможет… Какие красивые у нас могли бы быть дети! Я же вижу: когда вдвоем идём по улице, нам вослед оборачиваются прохожие… Взять ребёнка из детского дома? Но это же не то, что ему нужно… Нет… Лучше в самом начале остановиться…»
Терзания выбивали из колеи. Под глазами появились тёмные круги.
…Она не могла иметь детей.
Это случилось три года назад. Руфина и Борис едва познакомились и успели всего несколько раз встретиться, когда обнаружилось, что ей предстоит серьёзная операция на почках. Борис уверял, что будет вечно любить, какой бы она из больницы ни вышла. Переговорил со всеми врачами, к которым смог пробиться. Не хотел и слушать, что операция может быть неудачной, и она как-то успокоилась. Пришла в себя от внезапно обрушившегося удара. Мать жила в далёком Барнауле. Она решила ей ничего не сообщать. Всё действительно прошло успешно. После операции Борис и его сестра поочередно дежурили около Руфины. Из палаты Борис вынес Руфину на руках и увёз домой, где жил с родителями.
Она была бесконечно благодарна Борису, но особых чувств к нему так и не успела испытать.
Руфина еле ходила, когда Борис отправился с геологоразведочной партией в Сибирь.
Уезжая, настойчиво просил ждать. Заявил, что непременно, как только вернётся, они поженятся.
Руфина кивала согласно головой, не понимая, как быть: ведь это не любовь. Он её любит, но она… Она обязана, может быть, ему жизнью, но это другое!
Прошло полгода. Оказалось, что Борису необходимо задержаться ещё на два месяца.
Она окончательно выздоровела и вновь вернулась к занятиям.
Аспирантка Руфина Смирнова всегда на виду. Её трудно не заметить.
И появился Игорь. И так же, как Борис, стал неистово ухаживать за ней. Руфине он сразу понравился. Решила, что судьба ей улыбнулась.
И уж, было, готовилась перебраться в общежитие, как неожиданно нагрянул Борис.
Весёлый, бородатый… Он страшно напугал Руфину в первый же вечер своими крепкими объятиями. Родителям радостно объявил, что они идут подавать заявление в загс.
А назавтра, когда остались вдвоём в квартире, произошло то, самое страшное, что распахало её жизнь на две половины: до этого дня – и после…
…Она терпеливо ускользала от его объятий. Он же, принимая вначале это за сдержанность, пытался терпеливо добиться своего.
…Настал момент, когда Руфина стала откровенно защищаться. Борис, распалившись, уже не мог остановиться…
Взял её силой, грубо, почти не помня себя…
Так она стала женщиной.
Изнасилованная, рыдала, лёжа на противном рыжем диване… В этот же день Руфина ушла в общежитие.
…Она ждала встреч с Игорем и боялась их. Не знала, как быть. Что говорить. Верила в любовь Игоря. Во имя будущего решилась, перемучавшись, сделать аборт.
…Когда стало ясно, что не сможет иметь детей, стала думать, как уйти из жизни.
Теперь она жила опалённая сознанием того, что лишена са́мого главного, предопределённого женщине природой: рожать, иметь семью.
«Будто выскоблили не только плод, но и большую часть меня. Оставили без будущего…». Она металась, не зная, что делать. Подолгу лежала, стараясь забыться. Уйти от самой себя, хотя бы на время…
…Когда Игорь разыскал её, она была равнодушна к жизни. Дни текли, как в бреду.
Он стал выводить её на улицу, в парк, на прогулки около тихой водицы. И она рассказала о случившемся. Игорь заверил, что не оставит в беде…
Руфина, казалось, приходила в себя. И тут обрушился следующий удар.
Игорь оказался женат…
Его жена выследила их, когда они сидели на лавочке. Приставила к ним детей: девочек-двойняшек.
– Вот, Игорёк, чтоб вам совсем уж не скучно было… Не тебе одному развлекаться, имею право и я… – Сказала так и быстро зашагала к автобусной остановке.
…Игорь клялся Руфине, что давно решился на развод. Мучительно, но он пойдёт на этот шаг.
Она еле слышала его и только тихо покачивала головой. Не было ни слов, ни сил вообще что-либо говорить. Встала и побрела к своему общежитию.
Больше Игорь не появлялся.
Она приняла это с благодарностью.
…Те минуты, когда на озере за посёлком «Сокол», ещё до возвращения Бориса, Игорь подплыл к ней и объяснился в любви, она теперь не хотела помнить. Хотя то были лучшие мгновения её жизни. Объяснения Руфина тогда ждала сильно, недоумевая, почему он медлит…
…Осталась жить только оттого, что сначала не смогла решиться на крайность, а потом… вялая текучка потихоньку затянула. Отстранённо, будто со стороны, наблюдала за собой и недоумевала: «Зачем всё-таки тебе такой жить?».
Руфина пришла к мысли, что наука может дать опору. Заменить всё! «Стану учёной стервой, – однажды усмехнулась она невесело. – Глядишь, что-нибудь сделаю настоящее. Ведь я же так мечтала в школе о больших открытиях. Хоть какая-то польза от меня будет…»
Так прошло два года. Всё вроде бы выправилось.
Не подпускала к себе никого, всячески избегая ухаживаний… Случился, правда, один эпизод, но она не понимала, что это было…
* * *«Почему Саша прямо не спросит, что было до него? Так иногда смотрит, будто что-то знает. Если бы спросил, мне бы легче стало, но он деликатный: «У тебя всё нормально? Что за жизнь у тебя в Москве?» – и всё! И какую часть моей беды рассказывать, решить не могу… Боже мой, как я хочу теперь с ним быть… Будто он один – мужчина, остальные – так…».
Добираться поездом до Москвы около шестнадцати часов. Есть время помаяться бессонницей. Многое передумала Руфина под стук колёс, а говорить Ковальскому о своей беде не решалась…
* * *Этой осенью Александр и Руфина ещё раз побывали в селе…Саша пока не вернулся из школы и они решили сходить на Самарку.
– Я так соскучилась по реке. Как маленькая, – призналась Руфина.
Едва вышли за околицу, она разулась и, довольная, шла босиком, временами пускаясь вприпрыжку. Лёгонькое светлое платьице так к лицу ей.
За озером Лопушным на Лушкиной поляне остановились.
– Сашенька, если бы не ты, никогда б такой красоты не увидала!
…Конец бабьего лета. Вновь стоят светлые дни. На Лушкиной поляне, окружённой со всех сторон высоким лесом, зеленеет отава. Ни единой вкрапинки жёлтого или серого цвета. Всё изумрудно-зелёное. Всё разомлело и разнежилось в пропаренном, окружённом старым ветельником, ольхой и липой пространстве.
Не однажды Ковальский косил здесь с отцом траву – это всегда были особые дни. Помнил ещё и то времечко, когда сенокосничали здесь артелью. Были и дед Головачёв, и часто улыбающийся лукавый Остроухов. Теперь это всё вспоминалось как нечто древнее, былинное.
И вдруг он спохватился: а где же жаворонки? Эти неутомимые, неудержимые песенники!
Только так подумал, как в густой чаще подала голос невидимая глазу птаха. Вначале робко, но потом отчётливо зазвучал её голос. И её сбила с толку теплынь.
Руфина оглянулась на Ковальского:
– Сашенька, такая истома во всём…
Александр взял её за руку. Она приложила палец к губам.
– Я так хочу послушать, – и сама же, не в силах противиться, пошла навстречу его рукам.
– На этой поляне всегда пели жаворонки, – шёпотом горячо заговорил Александр. – Может, сейчас нам повезёт!
– От всего этого голова кругом, – ответила она тоже шёпотом и стала его целовать, приговаривая: – Какая сказка, неужели это не сон! Если рассказать кому-нибудь, не поверят, что я… целовалась под соловьиное пение осенью. Это может быть только раз в жизни!
– Это не соловей, – улыбаясь, тихо ответил Александр.
Он слушал, а сам всё смотрел в небесную голубень. И свершилось! Там, в необозримых небесах, над их головами, над Лушкиной поляной проклюнулся звук, вначале короткий, а потом враз полился окрест малиновый широкий перезвон крохотных бубенцов.
Мельтешащая точка в небеси – крохотная птаха – словно нота, прыгающая по невидимым стрункам, издавала чудные звуки.
Руфина, закинув голову, искала глазами певца и не находила его.
Александр стал показывать пальцем на порхающую точку в синеве. Руфина крутила головой, завиток её волос около уха щекотал ему нос и от этого ноздри его возбуждённо подрагивали.
Жаворонок на миг замер и вдруг камнем устремился вниз… Упал в шелковистую траву и исчез. Только неизвестная птаха продолжала солировать.
Руфина высвободилась из рук Александра и нескладно, как маленькая девочка, в пузырящемся своём платьице побежала туда, где должен быть чудесный певец.
– Он разбился, бедненький, разбился, – доносился её лепет. Александр стоял, молча улыбаясь.
Через некоторое время донёсся жалобный голосок:
– Сашенька, его нет! Неужели так быстро утащили хищники? Идём искать вместе! Какая несправедливость!
Ковальский подошёл и нагнулся. Их глаза оказались на одном уровне. У неё по щекам текли слёзы. Она не пыталась их смахнуть.
– Саша, было счастье и нет его?! Так жестока жизнь!
– Руфина, ну что ты? Он же просто хитрец, этот жаворонок.
– Как?
– Когда приземляется, сразу убегает далеко в сторону, туда, где у него гнездо. Или где кормится.
– Он нас так безжалостно обманывает? – вполне серьёзно удивилась Руфина.
– Да. Я сколько раз это наблюдал. Слёз на её щеках не стало меньше.
– Сашенька, эта история про нас с тобой.
– Почему?
– Была красивая песня и в один миг – нет её.
Она заплакала навзрыд. Его это обескуражило….
– Миленькая, почему ты примериваешь на нас с тобой? У нас же всё хорошо! Я тебя люблю! А ты – самая красивая женщина, которую когда-либо видел! Живу, как во сне, – у меня есть ты! Не придумывай ничего.
– Да-да, – соглашалась она. И продолжала плакать.
Не сразу Руфина овладела собой. Чуть, было, не вырвалось наружу всё то, что разрывало изнутри последнее время. И она испугалась этой минутной слабости. Ещё не была готова к тому, чтобы рассказать Ковальскому о своей беде.
…Вечером шепнула украдкой, что хочет ночевать в беседке под яблоней в саду.
Ковальский согласился, радуясь, что у неё прошёл непонятный ему нервный срыв…
XIX
«А что, если врачи всё-таки ошибаются и у нас с Сашей всё получится?!» – это спасительное предположение периодически возникало у Руфины.
Мысль гипнотизировала, и она не могла избавиться от неё. Внезапное и непреодолимое чувство к Ковальскому, многократно усиленное желанием быть полноценной женщиной, питало надежду. И она, охваченная этими взаимоусиливающимися чувствами, ждала от близости с Ковальским чуда. Хотела ребёнка!
Но чуда не произошло.
После того, как Руфина поняла свою обречённость, вновь, как в первые недели после аборта, занемогла душевно и физически.
А когда Ковальский начал сниться ей маленьким ребёночком, которого, как своего младенца, кормит грудью, испугалась, что сходит с ума…
…Оставался всего месяц до защиты диссертации. Научный руководитель, сорокалетний преуспевающий доктор наук, последнее время задумчиво смотрел на неё. Она это замечала и старалась, как могла, держать форму.
– Ничего, ничего, Руфиночка, не падай духом. Всё будет нормально. Всё пройдёт и уляжется. Крепись, – так участливо сказал он сегодня утром. А уходя из аудитории, взял её правую руку в свои и, крепко сжав, произнес: – Я с тобой, что бы ни было…
Раньше он её не касался. И не называл так…
«Что он имел в виду, когда говорил «всё будет нормально и всё пройдёт»? Очевидно, только и видит мою диссертацию. Думает, волнуюсь перед защитой. Но ведь это несравнимо с тем, что со мной на самом деле происходит. Рушатся две судьбы! Рушатся? – переспросила себя Руфина. – Наоборот, Сашина жизнь и моя от разрыва только выиграют. Обе! Найдёт себе пару. Его выберут – мимо него трудно пройти. А я стану солидной учёной дамой! Всё! Всё! Решено. – Пальцы рук, цепко ухватившие спинку стула, почувствовали боль. Опомнившись, она ослабила их. – Всё! Всё! Теперь я его сделаю, свой выбор».
* * *Светлый солнечный день. Руфина была в лаборатории, когда вошёл бледный Олежка.
Она совсем не обрадовалась этому светловолосому высокому парню. И тому, что с букетом ромашек, тоже не обрадовалась.
– Олежка, опять ты некстати…
– Но почему же? Не виделись ровно семь месяцев и десять дней! Я тебя никак не застану, – мямлил он. Лицо его было усталым.
– Уходи, слышишь! – проговорила Руфина, невесело усмехнувшись, просяще глядя мимо него.
– Руфь, я так… вот цветы…
– Поставь в колбу и уходи, прошу тебя, потом…
– Потом?! – бледное лицо блондина покрылось румянцем.
– Потом, – лишь бы только исчез, подтвердила она.
Оставив цветы, он тихо вышел.
…Олежка со своей любовью свалился на неё задолго до первой встречи с Ковальским, когда она уже оправилась после аборта, пропал Игорь и на радость себе осталась одна.
Ей казалось, что всё налаживается. И тут этот второкурсник со своими назойливыми ухаживаниями, подарками. Олег так краснел при встречах с ней. Ходил на все её лекции. Садился на первом ряду.
Он жил с родителями. Отец – профессор-искусствовед, мать – художница. Ухоженный и благовоспитанный.
Руфина долго не подпускала Олега к себе. Пугала разница в годах. Но он умел находить ласковые слова! И был так трогателен. После каждой лекции пытался её проводить.
И Руфина сдалась. Поверила, что перестаёт комплексовать. Ведь совсем ещё недавно и представить не могла, что позволит кому-либо дотронуться до себя.
…В первый раз в постели Олежка оказался неумелым и растерянным. У них ничего не получилось.
Она долго потом отказывалась от приглашений зайти «на чай» к нему домой. Он, как школьник, слал ей записки, твердил, что жить без неё не может. И Руфина сдалась. И опять, когда остались наедине, в нужный момент Олег «потерялся».
После этого стал избегать интимной близости, хотя повторял, что боготворит и не может представить свою жизнь без неё. Называл богиней.
…Она устала. Не понимала, что с ним? Нормальный ли? Твёрдо отказалась встречаться при любых обстоятельствах.
Руфина начала догадываться, что всему виной её красота. «Олежка никак не мог в постели побороть в себе высокое чувство ко мне. Боже мой, что же тогда такое – красота? На каких противоположных полюсах стоят изуродовавший меня Борис и бедняжка Олег? Если красота так губит человека, нужна ли она вообще?.. И что тогда у нас с Ковальским? Коль он так умел, горяч и напорист?.. Неужели это разврат? Какая я ещё дурёха неопытная… Ковальский – спасение? Да! Если бы не моя ущербность…»
* * *Руфина уже несколько дней лихорадочно проговаривала текст и всё не решалась перенести его на бумагу.
Она одна в пустой комнате.
Белый лист бумаги слепит до рези глаза. Ей становится не по себе. Правая рука начинает мелко дрожать, она придерживает её левой.
«Саша, – вывела она неустойчивым почерком, – я перед тобой очень виновата. Это письмо принесёт тебе столько боли, я знаю тебя. Но так надо. Пока не поздно. Иначе потом будет ещё больней. Дело в том, что я не могу рожать детей. Ни женой, ни нормальной матерью мне не быть. Вот и всё. В этом моя судьба. Я смирилась с этим, но встретилась с тобой и не устояла. Теперь рву сердце и тебе, и себе. Это плата за то, что вела себя так. Дотаилась, дальше некуда.
Мы должны расстаться. Ты создашь нормальную хорошую семью. Дай Бог тебе желанных детей. Но… Сашенька, мы должны оставаться друзьями. Хочу, чтобы твой сын Саша, когда подрастёт немного, переехал ко мне в Москву. Ты говоришь, что он до двенадцати лет должен жить в деревне. Пусть так. А вот с двенадцати я его заберу в столицу. Он многое здесь получит. Давай об этом думать вместе. Не дал же он мне тогда упасть в колодец. Теперь я обязана ему… Твоя патриархально-индустриальная метода воспитания будет действовать. И – ещё как!
Я попросила руководство и теперь долго, очень долго не приеду на завод…»
Руфина перестала писать. Вспомнились слова Шопенгауэра о том, что если обозреть жизнь каждого человека в целом, то увидишь перед собой трагедию… Тщетные стремления, разбитые надежды, роковые ошибки и в конце – смерть…
– Нет, нет и нет! – проговорила она вслух. – Начало плохое, но я сделаю дальнейшую судьбу сама.