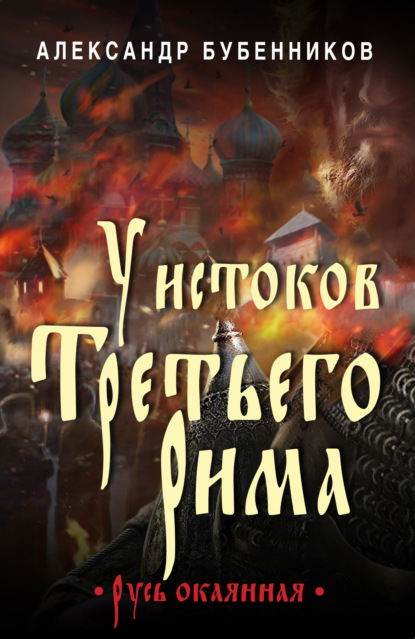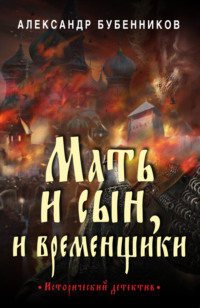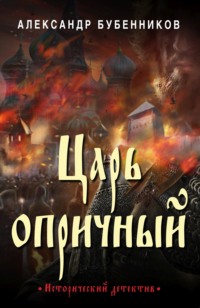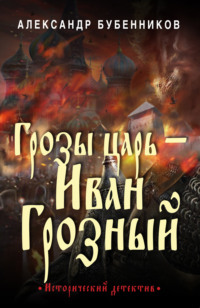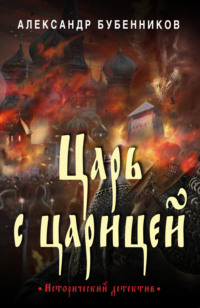Полная версия
Вызовы Тишайшего
Никон выдержал прямой пронизывающий взгляд Тишайшего царя, покачал головой и свистящим шепотом начал свои таинственные нравоучительные речи:
– И так без новых церковных хлопот тяжко болел владыка Иосиф… Совсем невмоготу стало патриарху нашему, государь, после встречи мощей святителя Иова, любимца Годунова, первым на московском престоле удостоившегося сана патриарха всея Руси… К чему это я, государь завел свои речи?
– Да, к чему? – невольно еле слышно повторил Тишайший.
– А к тому, что двум патриархам тесно оказалось в Москве, даже если от одного патриарха Иова остались одни нетленные косточки… Заболел владыка Иосиф, лихорадка трясла его сильно. Но к Вербному Воскресению полегчало ему…
– Я знаю.
– Не жилец он, – констатировал Никон.
– Может быть, выкарабкается?..
– Вряд ли… А ведь ещё мощи святого Филиппа надо будет встречать в Успенском соборе… Новое потрясение… Может не вынести владыка нового душевного потрясения… Но всё же тебе, государь надо приготовиться вести осла патриарха на праздник Входа Господня в Иерусалим… Только сдаётся мне, что отдаст Богу душу наш любимый владыка Иосиф на Страстную неделю…
– Типун тебе на язык!
– И будет печалиться и гадать наш православный люд – к чему это, к худу или добру смерть патриарха в Страстную Седмицу…
Как накаркал Никон: «на злую силу поехал Иосиф на осляти» на праздник Входа Господня. Причем сам царь Тишайший «вел осла Патриарха Иосифа». Во вторник Страстной недели Иосиф владыка Иосиф отпевал жену вельможи Плещеева, только «отпевал на злую силу, весь черен в лице», как заметил присутствовавший на отпевании Тишайший. В среду Страстной недели в апреле 1652 года Алексей Михайлович сам навестил патриарха в его патриарших покоях и пожелал скорейшего выздоровления, чтобы тот самолично благословил его перед Смоленским походом…
Да какой там благословить на «Смоленский вызов»… Силы жизненные покидали патриарха всея Руси Иосифа, правившего церковными делами на патриаршем престоле 10 лет с 1642 по 1652 года. В Великий Четверг 15 апреля беспамятного и онемевшего патриарха исповедовал его духовник, Иосифа причастили и соборовали.
Когда началась вечерняя служба в Успенском соборе, тогда во время пения «Вечере Твоей Тайне» патриарх Иосиф тихо почил. И его смертельный сон уже не разбудил ударивший трижды Царь-колокол Кремля. Москвичей обуял великий ужас почему-то, поскольку патриарх покинул свою паству в знаковые последние дни Страстной Седмицы. На следующий день в Великую Христову Пятницу ещё до «Царских часов» тело патриарха Иосифа было перенесено в храм Ризоположения. А в Великую Субботу он был погребен в Успенском соборе после литургии – причем похоронили Иосифа рядом с первым Русским Патриархом Иовом, мощи которого скоро будут перенесены сюда из Соловецкой обители…
Ревнители церковного благочестия предложили сан патриарха Стефану Вонифатьеву, но тот благоразумно отказался, догадываясь, кого хочет видеть на патриаршем престоле царь Тишайший. И уже 25 июля 1652 года митрополит Никон был торжественно возведён на патриарший престол после того как Тишайший сделал предложение Никону о восшествии на патриарший престол перед гробницей патриарха Иова. Самое интригующее в интронизации нового патриарха было то, что Никон вынудил Тишайшего царя дать обещание не вмешиваться в дела Церкви. Царь и народ православный поклялись «послушати его во всем, яко начальника и пастыря и отца краснейшого».
Но ходили по Москве опасные народные слухи, что недаром случился ужас смерти патриарха Иосифа в Великий Четверг Тайной Вечери и предательского поцелуя Христа Иудой – а вдруг этот Иуда и есть новый патриарх Никон? – тем более странный срок смерти Иосифа, когда неожиданно и зловеще ударил трижды Царь-колокол, до этого долго и бестрепетно молчавший… К чему бы все это?..
3. Смоленские поражения воеводы Шеина
В Можайск Тишайший прибыл 26 мая, там же перед иконой святого Саввы Сторожевского написал короткое письмо сёстрам: «Из Можайска пойдём 28 числа: спешу, государыни мои, для того, что, сказывают, людей в Смоленске и около Смоленска нет никого, чтобы поскорей захватить город». Написав это и задумчиво глядя на икону Саввы перед собой, Алексей Михайлович загадал: если знамение святого и предсказание святого «на Смоленск» сбудется – русские царские полки войдут в Смоленскую крепость! – то он пожалует деревню Нару с прилегающими землями Саввино-Сторожевской обители.
Но для этого всего-то надо сделать ерунду – ничего! – захватить крепость Смоленска, которую выстроил Годунов, в стенах и под стенами которой дважды потерпел поражение сильный и смелый воевода Михаил Борисович Шеин, любимец деда патриарха и соправителя государства Филарета, казненный отцом царём Михаилом 15 февраля 1634 году.
«Всего двадцать лет назад казнили Шеина, когда мне было всего пять лет, деда Филарета к тому времени не было на белом свете уже три месяца. – Так думал Алексей Михайлович, глядя на икону Саввы. – Но ведь моему отцу Михаилу близкие бояре-интриганы вывернули руки, заставив того казнить Шеина, патриарх Филарет, будь он жив, не допустил бы казни своего любимца, с которым 8 лет был вместе в польском плену. Мало ли, сколько русских воевод терпели жестокие поражения, но ведь их властители не лишали жизни, прощали, а Шеину двойного поражения в Смоленске, за стенами обороняемой крепости и под стенами осаждаемой крепости не простили… Значит, непросты жестокие отметины Смуты и не менее жестокие уроки её в русских душах, в памяти о героях и предателях, поддавшихся польским завоевателям-победителям, Смутного времени. Только теперь в Смоленских и Литовских землях надобно брать реванш за пошлые поражения Руси, в частности, за поражения Шеина».
В размышлениях: почему отец Михаил казнил любимца деда Филарета Шеина, Тишайший, глядя на икону Саввы, задался мучавшим его уже полтора года вопросом: почему медведь – Миша, Михаил – проснулся в берлоге, вышел на меня, напугал, заставил онеметь до спасения меня святым Саввой? И ответил на поставленный свой вопрос утверждением в странной вопросительной форме, зная, что в лесных зверей иногда перетекают души умерших людей: а вдруг это отец благочестивый, но болезненный при жизни батюшка Михаил в образе медведя на задних лапах захотел напомнить о себе, зная свою вину с казнью Смоленского пораженца Шеина. Недаром спасший меня преподобный старец в монашеской одежде, назвавшийся иноком Саввой, призвал идти на Смоленск, брать реванш за двойное поражение Шеина в стенах и под стенами крепости…
Не отлегло на сердце у Тишайшего… Он стал вспоминать, что ему известно о пораженце Шеине, его Смоленских баталиях по рассказам отца, наставника Морозова, других свидетелей печальных событий Смутного времени… В начале 1607 года Шеин стал боярином. В конце 1607 года он был назначен воеводой Смоленска и возглавлял Смоленскую оборону (1609–1611). При взятии польско-литовскими войсками Смоленска (3 июня 1611) раненый Шеин попал в плен, был увезен с семьей в Польшу, там сблизился с уважающим его Филаретом. Вернувшись в Россию в 1619 году, стал одним из ближайших к патриарху Филарету лиц. В 1620–1621 и 1625–1628 годах Михаил Шеин возглавлял один из сыскных приказов, в 1628–1632 годах – Пушкарский приказ. В конце 1620-х и начале 1630-х годов Шеин участвовал во многих дипломатических переговорах по поручению царя.
В июне 1632 года истекал срок Деулинского перемирия, и Россия готовилась к реваншу, чтобы вернуть Смоленскую и Северскую земли. Как по заказу, в апреле 1632 года умер король Сигизмунд III, и в Речи Посполитой наступило бескоролевье. Царь Михаил Фёдорович и Боярская Дума решили не терять время и приговорили начать войну. Главным воеводой назначили боярина Михаила Шеина. Предполагалось, что он вместе с Пожарским будет командующим русской армией в Смоленской войне. Но Пожарский заболел, и единоличное командование русской армией в Смоленском походе взял на себя Шеин. В августе 1632 года русское войско перешло границу Речи Посполитой и в октябре-декабре овладело многими городами Смоленщины и Северщины. Из-за распутицы и медленного подвоза припасов 32-тысячное войско Шеина подошло к Смоленску только в конце января 1633 года Промедление позволило полякам подготовить крепость к осаде. Осада Смоленска русскими во многом повторяла его осаду поляками в 1609–1611 годах. Осажденные держались стойко и два приступа (в мае и июне) были отбиты. Между тем в феврале 1633 года закончилось бескоролевье в Речи Посполитой, королем был выбран сын Сигизмунда III Владислав IV. Король спешно собирал армию и, чтобы выиграть время, подговорил запорожцев и крымского хана совершить в июле набег на Южную Россию. Обеспокоенные дворяне южных земель тысячами покидали войско Шеина и возвращались охранять родных и близких. Собрав армию в 23 тыс. человек, Владислав в августе 1633 года блокировал русские полки под Смоленском. Воевода обратился в Москву за помощью: царь и бояре помощь обещали, но так ничего не сделали. Шеин дал несколько решительных сражений Владиславу, но не смог снять блокаду.
Наступила зима. Голод и холода расшатали мораль московского войска, особенно немецких наёмников; начались болезни и неповиновения воеводе. Зная о бедственном положении русских, Владислав послал Шеину грамоту, с увещанием обратиться к его милости, а не гибнуть от меча и болезни. Шеин возвратил грамоту без ответа, указав, что в ней «непригожие речи». Шеин написал царю о возможности заключения перемирия, на что царь Михаил согласился. 1 февраля 1634 года царь получил от Шеина последнюю отписку, что ему и ратным людям от польского короля утеснение и в хлебных запасах и в соли оскуденье большое. На этот раз царские войска в Можайске и Калуге получили приказ о выступлении под Смоленск. Но было поздно: 16 февраля 1634 года Шеин заключил с королем Владиславом невыгодный Москве договор о сдаче своего войска.
Условия договора о сдаче войска были весьма мягкие. Ратные люди, московские и иноземные воины могли по собственному добровольному усмотрению перейти на службу к королю польскому или вернуться домой. Те, кто идут домой, должны целовать крест, обязуясь четыре месяца не служить в русской армии и выступать против короля. Пушки (а их было всего 107 штук) с припасами и оружие убитых должны были достаться полякам. Войско Шеина должно было выйти из Смоленской крепости с опущенными знаменами, с погашенными фитилями, без барабанного боя. При этом знаменосцы обязаны были дойти до места, где находится король Владислав, положить знамена у ног короля и отступить на три шага. По знаку польского гетмана русские воины могли забрать свои знамена, потом зажечь фитили, бить в барабаны, чтобы отправиться в путь восвояси. С собой дозволено взять только двенадцать пушек из 107. 19 февраля 1634 г. Шеин с остатками войска выступил в путь. С ним шло 8056 человек, 2004 больных остались под Смоленском; для их пропитания передано 60 четвертей муки, сухарей и круп. Из русских королю Владиславу согласились служить только восемь человек, из них шестеро казаков, зато королю присягнула почти половина из 2140 немецких наемников.
В Москве воевод побеждённого русского войска Михаила Шеина и Артемия Измайлова уже ждали для допроса с пристрастием. На беду воеводы покровитель Шеина патриарх Филарет к тому времени недавно умер (1 октября 1633 года) и заступиться за него было уже некому. Бояре люто ненавидели Шеина за его высокомерие и презрение к тем, кто прятался с поляками в Кремле от ополчения Пожарского. Но особенно за то, что не прочь был напомнить их трусость, измены и нерадение во время Смуты. 18 апреля 1634 года царь Михаил с думскими боярами слушал «дело о Шеине и его товарищах». Шеина обвинили в неудачном переходе к Смоленску, что он потерял лучшую пору и позволил литовским людям укрепить крепость, а также был небрежен при нападениях неприятеля. А именно, государю всю правду не писал; приступы проводил не ночью, а днем, не слушал советы своих полковников, обесчестил имя государя тем, что положил перед королем царские знамена. Припомнили Шеину, что утаил от царя, как 15 лет назад, в плену, целовал крест королю не воевать против Литвы.
Первое и самое главное обвинение Шеину было в том, что он, отправляясь на службу, пред государем «вычитал прежние свои службы с большой гордостью», а о боярах говорил, что пока он служил, «многие за печью сидели и сыскать их было нельзя». Обвинили Шеина и в том, что тот выдал врагу литовских перебежчиков. Сходные обвинения выдвинули против воеводы Измайлова. Сын его, Василий, «больше всех воровал» – на пиру с поляками говорил поносные слова: «Как может наше московское плюгавство воевать против такого польского монарха Владислава?»
Было поставлено: Шеина и Арсения Измайлова с сыном Василием казнить, а поместья их, вотчины и все имущество взять на государя; семейство Шеина сослать в понизовые города. 28 апреля осужденных отвезли за город «на пожар», место казни преступников, и там перед плахою дьяк прочитал обвинения. Царь для государева и земского дела не хотел его оскорбить и смолчал, зато злокозненные бояре «не хотя государя тем кручинить, также… смолчали».
По зачтении обвинений всем троим, Шеину и Измайловым отцу и сыну моментально отрубили головы. Палач, подойдя к краю помоста, поднял обе головы над толпой, чтобы хорошо видели все: пусть замолчат те, кто толкует о том, что московскому люду не под силу стоять против польского короля; пусть Польша полюбуется на плоды своего рыцарского великодушия. «Пусть польско-литовский Смоленск ждет новую рать и пусть знает, что, если даже вся Смоленская дорога превратится в сплошное кладбище, Смоленск всё же будет русским» – вот об этом народном мнении во время казни Шеина и Измайловых почему-то вспомнил Тишайший царь, глядя на икону святого Саввы в Можайске.
И ещё как-то горестно и зябко вспомнилось Тишайшему замечание его отца Михаила, что казнь Шеина в московском народе встретили без всякого воодушевления, мол, снова когда-то придется идти на Смоленск отбивать его у польских и литовских воинов. Многие помнили о подвигах Шеина во время Смутного времени. Царю Михаилу доложили его разведчики в Литве, что некий московский сын боярский Иван рассказывал гетману литовскому Радзивиллу, что «на Москве Шеина и Измайлова казнили, и за это учинилась в людях рознь великая». Об этом отец Михаил рассказывал сыну-царевичу Алексею, и ещё без всякого нравоучения, но с горестью. Мол, бояре выговорили изменникам: «А когда вы шли сквозь польские полки, то свернутые знамена положили перед королем и кланялись королю в землю, чем сделали большое бесчестие честному государеву имени».
– Это говорили о бесчестии имени царя, запомни сын, не должно быть бесчестие русского царя. Бесчестие надо смывать воинской и даже царской кровью. И непременно надо отбить у короля Смоленск, что не удалось сделать дважды пораженцу, несчастному Шеину. Понял, сын?
– Понял, отец, – еле слышно прошелестел губами тогда царевич Алексей. – Надо взять Смоленск и смыть бесчестие с царского имени…
А ещё в Можайске, любимом Николином граде царя Ивана Грозного перед вдохновившей царя Тишайшего иконой святого Саввы на новый Смоленский поход 1654 года, через десять лет после неудачного похода Шеина, думал о судьбе казненного. Справедливо или несправедливо казнил отец Михаил своего преданного воеводу. «За измену царю» – звучит хлёстко и жутко, но неверно, по сути. В святой Руси практически не казнили воевод за неудачу в битве и даже за сдачу в плен. Казни Ивана Грозного составляли скорее исключение из правил, но, опять же, он обвинял бояр в заговорах и чернокнижии, а не в проигранных сражениях. Тем более не казнили воевод при следующих царях. Первый избранный царь Борис Годунов даже наградил боярина Мстиславского, позорно разбитого под Новгородом-Северским малым войском самозванца. Дмитрия и Ивана Шуйских, бросавших вверенные им войска во время боя при Клушино и других битвах, казнили бы в любой европейской стране, однако они избежали и казни, и даже какой-либо опалы…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.