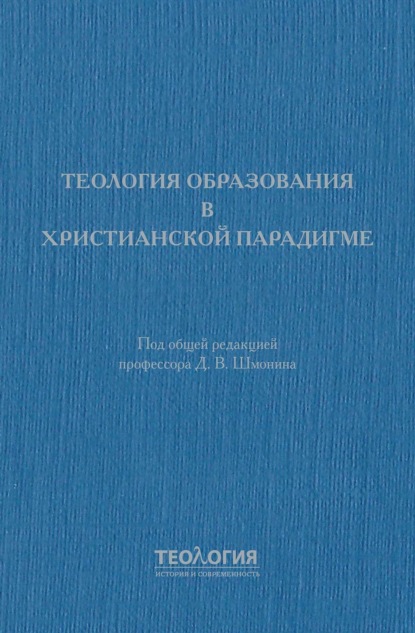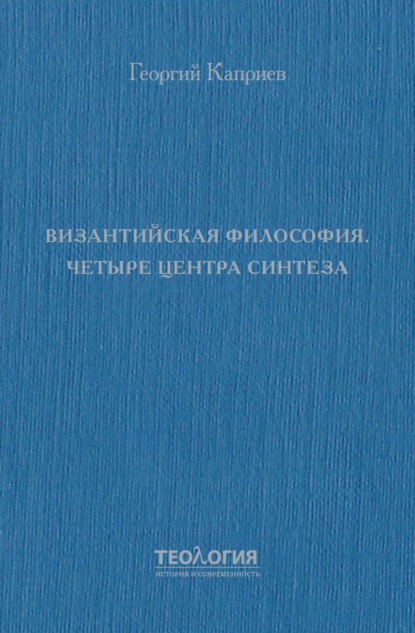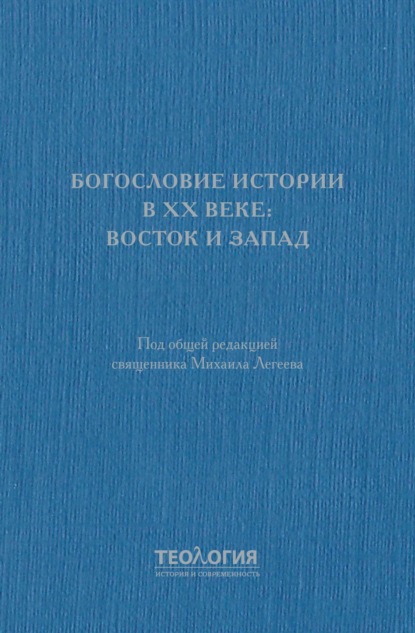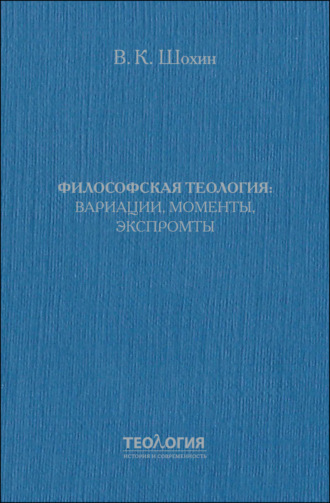
Полная версия
Философская теология: вариации, моменты, экспромты
«Экзотические растения»
Аргументы, рассматриваемые в англо-американских монографиях и сборниках по аналитической «философии религии», однако, не исчерпывают всех тех, с которыми может работать теолог. Достаточно привести два примера.
Если закон нравственности во мне и звездное небо надо мною действительно могут вызвать чувство восторженного благоговения, то Книга написанная может его вызвать уж никак не меньше, чем книга природы, которая для Руссо и прочих последователей «естественной религии» была, если можно так выразиться, религиозно самодостаточной. Более того, из второй «книги» религиозные смыслы вычитываются наиболее «естественным образом» лишь при усвоении в культуре первой – независимо от признания этого обстоятельства самими «естественниками». И здесь можно апеллировать к теологии интеркультурной, которая соответствует «философской теологии в широком смысле». И не только к мусульманскому убеждению, что Книга составляет большее чудо, чем те, которыми привлекаются сердца незрелых. Выдающийся индийский философ-энциклопедист Вачаспати Мишра (X в.) привел однажды такое обоснование существования Божества-Ишвары, как то, что некоторые тексты – Веды и Аюрведа – никак не могли быть созданы, исходя из их совершенств и «эффективности», обычными человеческими умениями[217]. Та же аргументация отчасти прослеживается и у его возможного современника ньяика Джаянты Бхатты, который, полемизируя в своем знаменитом трактате «Ньяяманджари» с доктриной школы мимансы о том, что Веды существовали изначально и без всякого авторства (снова параллель с представлениями о Коране в исламе), отмечает, что совершенство текстов Вед может свидетельствовать против их авторства не более чем искусство, явленное в классических произведениях литературы, против того, что у них также был автор[218]. Если такие «созерцания» вызывали сакральные гимны-мантры даже тех текстов, которые формировались в культурной традиции, не знавшей Откровения в собственном смысле[219], то тем более это применимо к тем текстам, которые сообщают откровение о человеческой биографии самого Источника Откровения. Достаточно минимального «нефизического видения» хотя бы дискуссий Иисуса с учителями еврейского народа (Который «учил как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи» (Мф 7:29)) или бесконечных глубин евангельских притч, открывающих каждый раз новые смысловые кристаллы при их чтении и особенно слышании (притом через прямое вневременное обращение к «внутреннему человеку» (2 Кор 4:16) конкретного реципиента, которого может отделить от их фиксации любое число столетий, чтобы убедиться, что мы непосредственно встречаемся с мудростью, даже при вторичной трансляции в порядки превосходящей человеческую.
Другой довод, который также невозможно обнаружить в пособиях по «философии религии», был в свое время озвучен великим политиком и ученым Бенджамином Франклином (1706–1790). А именно, когда ему французские энциклопедисты подписали торжественное обращение за открытие электричества, навсегда низвергающего с престола Зевса и всех прочих небожителей, он заметил, что благодаря этому поздравлению помимо электричества можно открыть и новый аргумент в пользу существования Бога – от ненависти[220]. Глубокая мысль Франклина нуждается в комментарии. Я неоднократно отмечал в качестве основного парадокса атеизма тот факт, что атеисты наиболее последовательные, отрицая существование божественного мира, удивительным образом сочетают его с обидой, неприязнью и даже открытой ненавистью к «несуществующему». Такова была смертельная обида «отца атеистов» Диагора (IV в. до н. э.) на афинских богов после проигранной тяжбы, а у эпикурейца Лукреция (I в. до н. э. – I в. н. э.) – непреодолимое желание низвергнуть богов греческих и римских, которых он также якобы только отрицал; презрение, граничащее с ненавистью, к «несуществующему» Ишваре у Васубандху (IV в.) и ряда других буддийских антитеистов; подлинное желание испепелить его у джайнского антитеиста Гунаратны (XV в.). Но те же «антинуминозные чувства» мы обнаруживаем у некоторых французских революционеров, Маркса и Ницше, русских «революционеров-демократов» и руководителей советского «Союза безбожников», у Сартра и Камю, Рассела и «новых атеистов» во главе с Докинзом, но также и у их конкурента Шелленберга (и его последователя Дранжа), который, как ему кажется, нашел самое простое опровержение существования Бога, подобно тому как Ансельм в свое время – самое простое его доказательство[221]. Последняя параллель заслуживает внимания. Ведь если, по мнению Ансельма, даже Глупец, имеющий отвлеченную идею Всесовершенного Существа, мог бы свидетельствовать о реальности ее референта (см. выше), то уж ненависть и прочие «антинуминозные чувства» гораздо больше свидетельствуют о ней, поскольку являются определенными и очень конкретными реакциями на определенный опыт общения. Частичное, по крайней мере, объяснение «парадокса атеизма» видится в том, что совершенно реальное и постоянное общение с Богом имеют те «интеллигенции», которые никогда в Его существовании не сомневаются, всегда «веруют и трепещут» (Иак 2:19), но имеют возможность использовать в качестве своих посредников в этом мире тех лиц, которые, хотя и отрицают их существование (и которых они же сами, скорее всего, побуждают к этому отрицанию), оказываются им (без)духовно необычайно близки. И можно предположить, что не только теолог, но и любой субъект, не связанный материалистическими догмами, способен допустить, что нам необязательно быть одними в космосе, даже если мы и не верим в НЛО.
Правда, «современно мыслящий» человек скорее всего не будет рассматривать такой довод всерьез, поскольку в эпоху современной астрофизики и «наноэтики» никак нельзя возвращаться к средневековому «мракобесию», и только очень немногие протестантские теологи решаются заговорить на эти темы в связи с частными вопросами (например, в связи со страданиями животных). Однако по своей «конфигурации» данный довод достаточно близок этическому аргументу (к которому «современный человек», если он не «окончательный дарвинист», относится благосклоннее): как там чувство морального долженствования выводится из недостаточной объяснительной силы «естественных факторов», так и здесь изощренные жестокости и инфернальная ловкость злодеев, коими полна человеческая история[222], также очень трудно объяснить одними только социокультурными факторами человеческого существования и еще менее – задачами выживания или приспособления к окружающей среде. Скорее речь идет о периодических «инфицированиях» человеческого рода со стороны умов, продвинувшихся в зле пропорционально их начальному очень высокому совершенству, и там, где тьма может быть густа до такой степени, она волей-неволей указывает на Свет, так как имеет «природу отрицания».
На это «научный теист», эвиденциалист, скорее всего возразит, что оба только что рассмотренные обоснования вряд ли будут убедительными для атеистов, поскольку они субъективны, «конфессиональны» и не отправляются от «публичных свидетельств» (public evidences), которые могли бы быть принятыми всеми. Но таких теистических обоснований, которые должны были бы быть приняты всеми, равно как и тех общепризнанных «публичных свидетельств», попросту не существует. Притом не без причин. Как сказал весьма именитый в свое время философ и историк философии Дитрих Генрих Керлер (1882–1921), «даже если бы можно было доказать математически, что Бог существует, я бы не хотел, чтобы Он существовал, поскольку это ограничивает меня в моем величии»[223]. Но ведь для того, кто мыслит в подобной интенциональности, никак не может быть теистических аргументов более «объективных», чем другие.
«Общая схема посадки»
Теперь, избавившись от «бремени доказательств» и деления их на «первичные» и «вторичные» (а заодно от деления на «первичные» и «вторичные» в каждой из этих групп), можно попробовать предложить другую классификацию обоснований существования Бога – из того, что может делать сам субъект обоснования как «лучшего объяснения». Здесь также возможно наметить «большую триаду», исходя из того, как он приходит к самой абдукции.
Первая группа обоснований формируется из того, что можно назвать аргументацией от здравого смысла – когда осуществляется контровертивное взвешивание действительных или теоретически возможных доводов pro и contra с теистических позиций. К этой группе следует отнести прежде всего телеологическую аргументацию – древние аргументы от разумного замысла в макрокосме (физико-телеологический аргумент) и в микрокосме (аргумент от конституции человеческого сознания), не намного менее древний аргумент исторический (от универсальности религиозного опыта и практики) и этический, который начал разрабатываться английскими аналитиками XIX–XX веков как применение «остаточного метода» к обоснованию неутилитарной человеческой нравственности.
Во вторую группу было бы целесообразно включить доводы от метафизических презумпций. В отличие от аргументов первой группы, они являются больше монологическими, чем диалогическими, и отправляются от анализа философских понятий и постулатов. Основной механизм этих умозаключений – плавный переход от должного к сущему, который в свое время подверг справедливой критике Юм. В онтологическом «доказательстве» это переход к существованию Всесовершенного Существа исходя из наличия его идеи в человеческом разуме, в космологическом – к существованию Конечной Первопричины исходя из иерархического понимания каузальности, в кантовском постулате чистого практического разума – к существованию Праведного Судьи из требований морального чувства.
В третью группу можно было бы включить только что «принятых новичков», которые могли бы представить аргументы от духовного узнавания признаков сверхприродного происхождения как Божественного самооткровения, так и саморазвертывания особых энергий зла. Вторая из этих интуиций имеет, кажется, «асимметричное сходство» с обоснованием морального блага, но очевидно, что речь тут может идти скорее о видении, чем об «остаточном методе». Но и куда как более привычный довод от тех сверхъестественных явлений, которые когда-то называли чудесами, также исходит преимущественно из «узнавания».
Переходя же к оценочным моментам, можно предположить, что только аргументы от здравого смысла являются собственно основными обоснованиями существования Бога, которые теист может адресовать оппоненту, а также достаточно широкой (хотя и не всеобщей) внешней аудитории, которую хочет склонить на свою сторону, а также и себя, когда чувствует потребность в «таблетках» при «понижении температуры» собственной веры, которая не может быть постоянной у такого «хрупкого тростника» (здесь Паскаля можно вспомнить уже добрыми словами), как человек[224]. Духовные видения источников как света, так и тьмы также могут быть обоснованиями, но значительно больше для самого теиста, а если и для не-теиста, то только для того, который для восприятия теизма уже открыт. Что же касается доводов от метафизических презумпций, то они, как мне представляется, могут быть вообще не столько обоснованиями существования Бога, сколько раскрытием Его «базовых характеристик» (из которых всесовершенство включает фактически и все остальные) для того, кто либо принимает Его существование и без обоснований, либо через реальные обоснования – другие. Поэтому их значимость ни в какой степени не следует преуменьшать – она очень большая (как важный ингредиент «теологии всесовершенного существа», которая восходит в конечном счете к тому же Ансельму и без которой не держится реальный теизм), – но только к ним, как и к людям, следует обращаться за тем, что они могут дать, а не за тем, что не могут.
Различны и функционально-коммуникативные контексты этих типов обоснований. Обоснования первого типа пускались и пускаются в дело в ходе реального диалога с оппонентами религиозного мировоззрения, и их агональный контекст хорошо выражается, например, в той «образной аргументации», которая более всего очевидна в телеологической аргументации, построенной на самых наглядных аналогиях и «контраналогиях», призванных (раз)убедить прежде всего потенциальных «послушников оппонента».
Самоочевидно ли «Откровение»? Размышляя над типологией Эйвери Даллеса[225]
То, что людям для богопознания и спасения требуются два условия – и внимательное наблюдение над миром, в котором они живут, и особые действия со стороны Самого Бога, раскрывающие то, что им недоступно из собственных ресурсов, – признавалось как нечто само собой разумеющееся вплоть до эпохи Ренессанса. И только с этого момента начинают раздаваться вначале тихие, а затем все более громкие голоса, настаивающие на том, что не только для ежедневной жизни, но и для осуществления высших человеческих целей эти «особые действия» в принципе не нужны, поскольку все необходимое даже для вечной жизни человеческий разум может извлечь из наблюдения над окружающим миром и собственной «конституцией», а то, что считается божественными действиями, на самом деле суть лишь человеческие регуляции и отсылки к авторитетам для самоутверждения религиозных общин.
Выдающийся немецкий историк теологии и философии религии Конрад Файерайс убедительно показал, что эта позиция была впервые четко артикулирована испанским врачом и теологом Раймундом Сабунде, который в своем сочинении «Книга о творениях, или Естественная теология» (1496) убеждал образованного читателя в том, что естественный разум является вполне достаточным источником знаний, ресурсом для богопознания и достижения совершенства и что из двух «книг», данных Богом человеку, первая – естественная теология – имеет все преимущества перед второй, Писанием, которая, в отличие от нее, не доступна каждому и может неправильно перетолковываться. Поэтому Файерайс оправданно видел в Сабунде, а также в его последователе Роберте Беллярмине (1542–1621) уже протодеистов[226]. Деизм же как таковой можно охарактеризовать в качестве религиозного умонастроения, средоточием которого является убежденность в факультативности для подлинной религии («религия разума») трансцендентного Откровения. Наиболее искренне и художественно экспрессивно эту идею выразил в романе «Эмиль» (1762) Жан-Жак Руссо, который от лица «савойского викария» в ответ на потенциальный вопрос о том, не следует ли людям знать что-либо после «естественной религии», провозглашает: «Созерцайте зрелище природы, прислушивайтесь к внутреннему голосу. Разве Бог не сказал всего нашим глазам, нашей совести, нашему рассудку? Что же еще могут сказать нам люди? Их откровения только искажают Бога, наделяя Его человеческими страстями»[227]. Неудивительно, что тут же раздались и другие голоса, объявившие такие взгляды совершенно неприемлемыми, а голос Иоганна Гаманна и прямо возвестил, что критики Писания напоминают ему тех животных, которые стали бы критиковать то, что о них написано в баснях Лафонтена[228]. Поэтому в определенном смысле можно считать, что начало теологии откровения – как самоосознающего выбора «за» вопреки первым «против» – восходит к Новому времени несмотря на то, что о самом Откровении очень много было написано в эпоху патристики и схоластики[229].
Пятеричная классификационная матрица
А вот современный этап этой теологии, как представляется, трудно помыслить без знаменитой монографии «Модели Откровения» (1983) американского католического теолога, кардинала Эйвери Роберта Даллеса (1918–2008), профессора Фордэмского университета (Нью-Йорк). Дело в том, что с него начинается сам классификационный анализ в этой области – принципиально новая типологизация пониманий того, что, собственно, есть Откровение. Это оказалось возможно потому, что он сумел организовать принципиально новое пространство для обсуждения этих проблем.
Автор, идентифицируя свои изыскания как область «фундаментальной теологии откровения» (т. е. как домен фундаментальной теологии как таковой)[230], поставил основной вопрос в чисто философскую плоскость: как быть с тем логическим кругом, который образуется вследствие того, что любая теория откровения меряется самим откровением?[231] Считая, что до конца его избежать нельзя, Даллес перечисляет возможные пути исследования этих теорий. «Теории откровения» (revelation theories) могут быть выстроены в стадиально-хронологической последовательности, с учетом «перманентных черт человеческого мышления» (историцизм, рационализм, мистицизм) или экклезиологических позиций самих теологов. Но для ХХ века, по его мнению, гораздо больше подходит предлагаемая им схема, исходящая из того, что «современные [интерпретационные] системы… могут быть поделены на пять больших классов в соответствии с их видением того, как и где (курсив мой. – В. Ш.) Откровение имеет место»[232]. Речь идет о пяти типах (types) понимания откровения, которые могут быть рассмотрены и как модели (models) – по аналогии с манекенами для закройщиков или с теологическими «стилями». Но Даллес их обозначает и как «схематические прототипы теологии откровения», и как такие «образования», в ядре которых содержится своя теоретическая модель Откровения как такового[233]. В современном русском языке эти типы было бы естественнее всего называть парадигмами понимания. Даллес выделяет их пять.
Откровение как доктрина. Согласно этой парадигме – и исторически, и логически исходной, – Откровение заключается в прямых содержательных утверждениях (clear propositional statements), принадлежащих Богу как «авторитетному учителю». У протестантов, большинство которых ее приемлют, оно обычно отождествляется с Библией, рассматриваемой как собрание богодухновенных и безошибочных (inspired and inerrant) учений. У католиков Откровение содержится, в наиболее доступном виде, в официальном учении Церкви, рассматриваемом как «непогрешимый (infallible) Божественный оракул». Некоторые считают истинность того или иного из этих учений вполне распознаваемой через внешние знаки (чудеса и т. д.), но некоторые пропоненты этого взгляда (как протестанты, так и католики) полагают внутреннюю благодать (inner grace) необходимым условием не только для ответа веры, но и для восприятия силы свидетельства.
Откровение как история. Согласно парадигме этого типа, изначально оппонирующей предыдущей, Бог открывает Себя преимущественно в «великих деяниях» (the great deeds), особенно тех, которые образуют основные темы библейской истории, а Библия и, соответственно, официальная доктрина Церкви воплощают Откровение лишь в той мере, в какой могут считаться надежными «отчетами» о том, что совершил Бог. Они рассматриваются преимущественно как свидетельства (witnesses) об Откровении.
Откровение как внутренний опыт. Согласно этому взгляду некоторых современных (и протестантских, и католических) теологов, Откровение не есть ни «безличное» собрание «объективных» истин, ни серия определенных исторических событий, но «привилегированный внутренний опыт благодати или общения с Богом». Хотя это восприятие Божественного считается непосредственно доступным для каждого религиозного индивида, некоторые считают, что опыт благодати зависит от посредничества Христа, имевшего опыт «присутствия Отца» уникальным способом.
Откровение как «диалектическое присутствие». Речь идет о теологах, которые после Первой мировой войны отвергли и объективизм парадигм (1) и (2), и субъективизм парадигмы (3). Бог не может быть объектом, выводимым из природы и истории ни посредством пропозиционального учения, ни через восприятие мистического типа. Будучи совершенно трансцендентным, Он «встречает» человека, когда благоволит, посредством Слова, в котором вера узнает Его.
Откровение как «новое сознание». Во второй половине ХХ века все большее число теологов ощущают доминирующие теории Откровения слишком «авторитарными», а модель (3) слишком индивидуалистической. Для них Откровение означает расширение сознания человека или «смещение перспективы» при соединениях людей в движениях светской истории. Бог – не объект опыта, но «мистериально присутствующий как трансцендентное измерение человеческой вовлеченности в творческие задачи»[234].
Парадигма (1) начала разрабатываться в эпоху полемики теистов с деизмом в XVII–XVIII веках, в XIX–XX веках была артикулирована в Америке школой пресвитерианских теологов во главе с Бенджамином Уорфилдом (1851–1921), а ко времени написания своей книги Даллес выделяет среди евангеликов Г. Кларка, Дж. Паккера, Дж. У. Монтгомери и К. Генри. Их основные позиции можно сформулировать следующим образом: признание естественного (natural), или общего (general), откровения, доступного из наблюдений над природой, восполняемого сверхъестественным (supematural), или специальным (special) откровением как «восходящей» библейской (ветхозаветной и новозаветной) доктриной; теснейшая связь между Откровением и богодухновенностью Писания, которая означает «непогрешимую трансляцию» первого; трактовка Писания как безошибочного «Богом написанного слова». Согласно Генри, Бог открывает Себя «во всем каноне Писания, которое объективно сообщает в пропозиционально-словесной форме содержание и значение всего Божественного Откровения»[235]. Безошибочность Писания (inerrancy) трактуется консервативными евангеликами по-разному. Некоторые атрибутируют ее и начально записанным текстам (автографам), и дальнейшей текстовой трансляции (Г. Линдселл), другие – только первым, допуская минимальные ошибки переписчиков (К. Генри), третьи считают безошибочными только интенции библейских текстов, но не всю их «материю» (К. Пиннок), четвертые – их сотериологическое, но не историческое и «научное» содержание (Б. Рамм).
Католическая неосхоластика (которую Даллес датирует в границах 1850–1950 годов), представленная документами Первого Ватиканского собора (1870), антимодернистскими документами 1907–1910 годов и энцикликой Пия XII Humani generis (1950), а также такими теологами, как Р. Гарригу-Лагранж, К. Пеш и Г. Дикман, обнаруживает большую близость протестантскому консерватизму. Здесь и признание «естественного откровения» – через дела Божьи (per facta) наряду со священным текстом («через слова»), и трактовка Откровения только как Божественной речи, обращенной к людям (locutio Dei ad homines) при исключении из этого каких-либо религиозных чувств, и понимание Библии как безошибочного слова вследствие невозможности допущения каких-либо ошибок его Автором – Богом. Единственное, хотя и существенное расхождение в том, что Откровение полагается хранящимся не только в Библии, но и в апостольской традиции, которая должна почитаться (сообразно документам Тридентского Собора – 1545–1563) «с тем же чувством преданности и благоговения»[236]. Учительный авторитет Церкви (магистериум) определяет, что есть Откровение в общем и частных смыслах, опирается и на Писание, и на Предание и может раскрывать истины, недостаточно выявленные в Библии.
К основным «спикерам» модели (2) Даллес относит англиканского архиепископа Уильяма Темпла, писавшего в 1930-х годах, авторитетного либерального теолога Дж. Бэйли, библеиста Э. Райта и библейского богослова О. Кульмана, кардинала Жана Даниэлу (1950-е) и знаменитого протестантского теолога В. Панненберга (1960–1970-е)[237]. Модель (3) представлена у него либеральными протестантскими теологами XIX века, начиная с Ф. Шлейермахера, за которым следуют А. Ричль, В. Германн, О. Сабатье, католические модернисты (начиная с Дж. Тиррела), в начале ХХ века «некоторые видные англикане» (У. Инг, Э. Андерхилл), к которым был близок шведский лютеранский архиепископ Н. Зёдерблом, а далее философ У. Хокинг и некоторые протестантские библейские теологи (У. Робинсон, Ч. Додд). Модель (4) представлена теоретиками «диалектической теологии» К. Бартом, Э. Бруннером и Р. Бультманом. А модель (5) – очень широким спектром гетеродоксальных теологов ХХ века, включая М. Блонделя, Т. де Шардена, Г. Марана, П. Тиллиха, Р. Харта и других; относит к ним Даллес и одного из основных идеологов II Ватиканского Собора К. Ранера[238]. Правда, «представительство» всех пяти моделей можно было бы серьезно расширить, но Даллес интересуется теми именами, которые относятся, по его представлениям, только к «актуальной истории» философско-теологической мысли[239].
К достоинствам «пропозициональной модели» он относит ее значительную «подтверждаемость» и в Писании, и в Предании (в Новом Завете многие положения Ветхого Завета трактуются как Слово Божье и точно так же положения обоих Заветов у Отцов Церкви), а также большой потенциал и для доктринальной шкалы, позволяющей отделять ортодоксальные учения от гетеродоксальных, и для понимания задач самой теологии как систематизации «данных откровения» (the data ofrevelation), и для солидаризации Церкви, и для миссионерской деятельности[240]. Возражения против этой парадигмы (1), к которым Даллес относится сочувственно (и которые в значительной мере формулирует сам), связаны с тем, что ни само Писание, ни патристическая традиция в течение многих веков не настаивали на его буквалистской непогрешимости (отсюда очень широкое распространение и в древности, и в Средневековье аллегорических и других духовных толкований библейских текстов); что достижения библейской критики позволяют оценивать пропозициональную истинность Писания более дифференцированно, чем то виделось прежде; что многие вопросы возникают при рассмотрении и двух других «непогрешимостей» – Предания и магистериума; что сами пропозиции как таковые немного говорят нам без знания «локутора»[241] этих пропозиций. Вследствие этого «при таком подходе, – пишет Даллес, – малое внимание уделяется вызывающим воспоминания библейским образам и символам; мало мотивируется поиск знамений Божественного присутствия в индивидуальной жизни и в опыте; мало поощряется такая вера, которая испытывает и вопрошает»[242]. А две заключительные претензии сводятся к тому, что данная парадигма мало отвечает потребностям современного религиозного сознания и (последнее по порядку, но никак не по значимости) вследствие своей доктринальной ориентированности – диалогу с нехристианскими религиями[243]. Этот формат pro et contra Даллес применяет и ко всем прочим моделям откровения, считая, что каждая из них имеет свои преимущества перед другими, но не является самодостаточной. Его собственное восполнение каждой из них по отдельности и в целом через введение символичности Откровения (речь идет о таких базовых символах, как, например, Крест) не убеждает (меня, по крайней мере) в том, что ему удается существенно «обогатить» каждую из этих моделей. Поэтому его опыт типологизации пониманий Откровения имеет, как мне кажется, значительно большую ценность, чем его собственные эвристические решения.